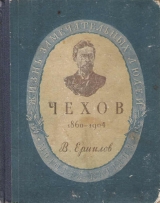
Текст книги "Антон Павлович Чехов"
Автор книги: Владимир Ермилов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Фон-Штенберг говорил Ананьеву еще в начале их спора: «От наших мыслей никому ни тепло, ни холодно». И именно это замечание Штенберга дает повод Ананьеву рассказать свою историю.
Нет, от наших мыслей именно бывает людям и тепло и холодно, и светло и темно. Ужасно было Кисочке узнать, что даже тот, кого она считала чистым, передовым человеком, способен на обман. Если и без того она жила, «как в яме», то во что же превратилась ее жизнь после встречи с Ананьевым и его бегства!
Весь рассказ убеждал читателя в том, что мысль, идея, мировоззрение имеют колоссальное значение, что ложное мировоззрение может привести к злу, равносильному убийству.
Это еще раз возвращает нас к тому чувству, которое владело Чеховым, – к его сознанию своей страшной ответственности за мысли, идеи своих произведений.
В качестве врача Чехов, подобно своему доктору Астрову в «Дяде Ване», мучительно переживал случаи неблагоприятного для пациента исхода болезни, чувствуя свою вину и тогда, когда, как говорят, медицина бессильна.
Как писатель, он боялся за каждое свое слово, чтобы не повредить хоть чем-нибудь человеческой жизни.
И там и здесь – и в медицине и в литературе – это было сознанием ответственности за человеческую жизнь.
Вот почему такой мучительной, такой напряженной стала его тоска по ясному, определенному мировоззрению.
В том же 1888 году, когда были написаны «Огни», у Чехова возник замысел рассказа, который он хотел посвятить мучившей его теме о том, что «осмысленная жизнь без определенного мировоззрения – не жизнь, а тягота, ужас». Он хотел изобразить «человека здорового, молодого, влюбчивого, умеющего и выпить, и природой насладиться, и философствовать, не книжного и не разочарованного, а очень обыкновенного малого». Герой предполагавшегося рассказа «благодаря своему положению горожанина, любовника, мужа, мыслящего человека… волей-неволей наталкивается на вопросы, которые волей-неволей, во что бы то ни стало должен решать. А как решать их, не имея мировоззрения? Как?»
В самой этой тоскливой интонации, в этом повторении «Как?» – нельзя не уловить глубоко личного значения вопроса для самого Чехова.
Конечно, он был не прав, когда думал, что у него «нет мировоззрения». Уже один только рассказ «Огни» свидетельствует о том, что Чехов занимал передовую позицию в идейной борьбе, выступая против реакционных, упадочнических идей своей эпохи.
Да и разве не ясно, что по всей своей сущности творчество Чехова восьмидесятых годов, – не говоря уже о девяностых! – характеризуется прогрессивным, передовым, демократическим мировоззрением.
Но предшественники Чехова, писатели шестидесятых годов, участвовали в прямой политической борьбе своего времени. Их эпоха выдвигала большие политические идеалы, и писатели так или иначе определяли свое отношение к этим идеалам, вдохновлялись ими или отрицали их.
Эпоха восьмидесятых годов, казалось Чехову, не выдвигала никаких больших политических идеалов. Она представлялась «аполитичной».
В его письмах мы все чаще начинаем встречать горечь, обиду на то, что писатели его поколения лишены политической жизни. Это представлялось ему ненормальностью, уродством. Его тоска по политике свидетельствовала о начавшемся преодолении аполитичности. Но та политическая жизнь, которая видна была на поверхности, внушала ему только скуку. Политические группировки казались ему «невежественными», И в самом деле, его знание и понимание русской жизни было неизмеримо более глубоким и основательным, чем знание и понимание любого самого либерального идеолога того времени.
Так, Чехов и в конце восьмидесятых годов оставался аполитичным, но теперь уже не из равнодушия к политике, а из чувства бесплодности всей известной ему «политики», не способной хоть что-нибудь изменить в жизни. Ему даже казалось безразличным, в какой газете или журнале печататься, – настолько суетной, мелкотравчатой представлялась ему тогдашняя политическая жизнь.
Он понял впоследствии неправильность этой позиции и сделал отсюда выводы. Но это произошло лишь в девяностых годах. В восьмидесятые годы его поколение казалось ему обреченным на отсутствие политической жизни и тем самым на пустоту.
Со своим глубоким общественно-историческим чутьем он догадывался об исторической неизбежности болезни своего поколения: «болезнь сия, надо полагать, имеет свои хорошие цели и послана не даром…»
Эта мысль – о том, что страдания современников «перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас», как говорит Ольга в финале «Трех сестер», – была постоянной мыслью, постоянным чувством Чехова и его героев.
Но он не мог удовлетвориться этим, не мог ограничиться догадкой об исторической необходимости своих страданий. Если писатель не дает ответа на коренные вопросы, не зовет читателя к цели, не указывает путей достижения цели, если у него отсутствует ясный политический идеал, то писатель не имеет права появляться перед читателем. Вот к какому выводу пришел Чехов на грани восьмидесятых-девяностых годов. И это было началом конца его аполитизма.
Успех и слава, пришедшие к нему, не только не вскружили голову еще молодому художнику, но, как раз наоборот, обострили его сознание противоречия между размахом его таланта и неудовлетворительностью, недостаточностью его мировоззрения. И чем больше понимал он объем, масштаб своего дарования, тем острее сознавал это противоречие.
Потому и не было никогда в его жизни момента, когда бы он был доволен своими произведениями.
Страстность и напряженность идейных поисков, столь характерная для Чехова, являлась одним из наиболее замечательных выражений внутренней, невидимой простому, невооруженному глазу, но зато подлинной, скрытой, «подводной» сущности эпохи восьмидесятых годов. Ведь та самая эпоха, которая известна как. «безвременье», вместе с тем вошла в историю родины и как эпоха выработки нового мировоззрения. Умерли старые идеалы, в страданиях и борьбе созревали новые. Конец прежних идеалов был виден, созревание новых совершалось пока еще в скрытой глубине истории.
Салтыков-Щедрин так охарактеризовал восьмидесятые годы.
«Ясно, что идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми». [13]13
М. Е. Салтыков-Щедрин. Полное собрание сочинений, т. XVI, М., 1937, стр. 447.
[Закрыть]
В страстном стремлении Чехова ответить в новую эпоху своими произведениями на вопрос: «что делать», – сказывались и лучшие, передовые национальные традиции русской литературы и кровная связь Чехова со своим временем, с коренными запросами и потребностями эпохи.
Большой художник отличается тем, что боль и радость его эпохи становятся его личной болью и радостью. Искания гения являются и исканиями его времени.
В раздумьях, страданиях Чехова отражался переходный характер эпохи, напряженно искавшей новые идеалы, отвергавшей прежние. Чехов остро чувствовал историческую исчерпанность старого и необходимость нового. Но, в силу своей мелкобуржуазной интеллигентской оторванности от революционной мысли и революционного действия, он не знал о том, что новые великие идеалы, новый ответ на вопрос: «что делать?» – уже созревают, вырабатываются, готовы осветить путь родины, повести ее к свободе и счастью. Это незнание усиливало его тоску и неудовлетворенность.
Недовольство собой, своим творчеством, с огромной силой охватившее Чехова в конце восьмидесятых годов, имело, таким образом, глубокое социально-историческое, «подспудное» основание. Это недовольство свидетельствовало о наличии у Чехова того чувства, которое можно назвать исторической интуицией, общественной чуткостью. В его беспокойстве отражалось беспокойство самой эпохи, страстно ищущей, переломной, переходной.
Представление о том, что у Чехова не было мировоззрения и что он будто бы даже и не желал иметь мировоззрение, был принципиальным противником какой бы то ни было идейности творчества, – это представление основывается еще и на том, что Чехов часто высказывался против «тенденциозности» в литературе. Особенно часто эти высказывания мы встречаем именно во второй половине восьмидесятых годов, как раз в тот период, когда, как мы видели, была особенно острой тяга Чехова к ясному мировоззрению, к «общей идее», то-есть именно к идейности творчества.
Чтобы понять это кажущееся противоречие, нужно лишь вспомнить, какую именно «тенденциозность» Чехов имел в виду когда высказывался против нее. Это была или либеральная, или либерально народническая, или реакционная «тенденциозность»: все то, что причесывало, искажало действительность в угоду тем или другим догмам и схемам. А над убожеством, мелкотравчатостью народнических или либеральных «тенденций» и идеек Чехов издевался уже в восьмидесятых годах; представители этих идеек были в его глазах всего лишь «сусликами». Либеральному интеллигенту молодой Чехов посвятил презрительный памфлет на тему о «кисляйстве». Типичного народнического «суслика», с его плоскими, скучными, убогими идейками сыроваренных кустарных промыслов и прочими устоями народнического мировоззрения, Чехов высмеял в рассказе «Соседи». Писатель не знал, что именно, следует противопоставить убожеству либерализма и народничества, но самое это убожество он глубоко чувствовал, хотя у него самого, в его собственных представлениях, до конца его дней оставались влияния либеральной ограниченности.
О том, что высказывания Чехова против «тенденциозности» в литературе были связаны именно с его отталкиванием от народнической и либеральной тенденциозности, свидетельствуют и мемуары современников.
А. С Лазарев-Грузинский говорит:
«Среди писательских заветов Чехова восьмидесятых годов неизменным было предостережение против тенденциозности писаний. В те годы Чехов был страшным врагом тенденциозности и возвращался к этому вопросу с каким-то постоянным и страстным упорством…
…В одном из писем, кажется к Щеглову, Чехов обмолвился странным признанием, что не сумеет объяснить, почему ему нравится Шекспир и совсем не нравится Златовратский…
…Однако почему Чехов так упорно возвращается тогда к мыслям о тенденциозности? Мне кажется, этим его писательский организм реагировал на те упреки в «безразличии», «безучастии» и даже «беспринципности», которые по адресу Чехова рассыпали Михайловский, Скабичевский и другие специалисты критических дел».
Златовратский, Михайловский, Скабичевский – либерально-народнические писатели и публицисты, – вот чья «тенденциозность» отталкивала Чехова, с его жизненным чутьем, с его пониманием нежизненности, отсталости, мелочности их идей, с его сознанием необходимости неизмеримо более широких программ и идеалов для родины.
– Если все известные мне политические группы или «партии» мелкотравчаты, ложно-тенденциозны, то лучше я буду вне каких бы то ни было групп и партий, вне политических тенденций, чтобы никакие шоры, никакая политическая узость и догматизм не мешали исполнению моего долга художника: правдивому, честному, независимому, объективному изображению русской жизни, какая она есть в реальной, трезвой действительности, а не в иллюзорных, схематических, узко-групповых представлениях народнических сектантов вроде унылого героя рассказа «Соседи» или либеральных «свистунов»! – вот как можно было бы сформулировать тогдашнее умонастроение Чехова.
И нужно сказать, что в этой позиции была и своя положительная и своя отрицательная сторона. О положительной стороне этой позиции Чехова восьмидесятых годов догадался В. Г. Короленко, с его тонким умом, – догадался вопреки своей принадлежности к либерально-народнической «партии».
«Но даже и его тогдашняя (во второй половине восьмидесятых годов. – В. Е.) «свобода от партий», – писал Короленко в своем очерке «Антон Павлович Чехов», – казалось мне, имеет свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившихся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого «пересмотра», чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности, казалась мне тогда некоторым преимуществом. Все равно, думал я, – это не надолго».
В этой острой догадке прекрасно схвачено главное, своеобразное в значении Чехова для исторического пути русской литературы: переломный, переходный характер его творчества, – выражавший переходную эпоху. В самом деле, выиграла бы или проиграла русская литература оттого, что Чехов стал бы либеральным писателем, в духе какой-нибудь «Недели», с ее проповедью «малых дел», или писателем народническим, проповедником сыроварен и кустарных промыслов? Разве не была положительной, прогрессивной свобода Чехова от этих «партий»? Ведь она означала более высокий уровень понимания, большую глубину чувства русской жизни, чем у либерально-народнических публицистов и писателей; она, эта свобода, означала более объективное, чем у либеральных и народнических писателей, изображение реальной действительности, это была свобода от обветшалых, ставших уже глубоко реакционными догм, насиловавших объективную действительность, ход истории. И не обладай Чехов этой свободой, он, конечно, не написал бы ни «Соседей», ни «Дома с мезонином», где разоблачалась узость, мелкотравчатость земского либерализма и ему противопоставлялась мечта о том, чтобы разорвать «цепь великую» которою был опутан народ; не написал бы ни «Мужиков», ни «В овраге», ни «Новой дачи» – знаменитого цикла крестьянских повестей, беспощадно раскрывавших всю народническую слащавую ложь о русской деревне, – повестей, сочувственно встреченных марксистской критикой.
Но в этой же «свободе» заключалась и своя отрицательная сторона. Отстаивая свою независимость «от партий данной минуты», Чехов вместе с тем задерживался на позициях, так сказать, принципиальной «беспартийности», равнодушия к «партиям», к их политике. Тоскуя о политической жизни, об определенном мировоззрении, в которое входила бы и ясная политическая программа, он одновременно сам закрывал себе дорогу к обретению такого мировоззрения. Любое «направление», любая политическая определенность казалась ему узкой «тенденциозностью», покушением на его духовную самостоятельность, на его право и обязанность честного, правдивого, широкого, не связанного ни с какими субъективистскими представлениями и схемами, изображения реальной жизни. И это, несомненно, было одною из причин того, что Чехов так до конца своих дней и «не удосужился» познакомиться с тем, что составляло в девяностых годах, – не говоря уже о девятисотых, – главное содержание всей политической, всей духовной жизни страны: с ростом рабочего революционного движения, с теорией марксизма. Он заранее был предубежден против этой новой партии просто потому, что она была «партия». Его представление о марксизме (он был знаком только с «легальным марксизмом») так и осталось до конца его дней до смешного искаженным и наивным.
Сама мучительность его поисков, его боль, тоска, чувство пустоты – все это объяснялось, в конечном итоге, именно тем, что он был далек от процесса формирования нового, передового научного мировоззрения – марксизма. А ведь он тосковал именно по научному, цельному, стройному мировоззрению, по научно обоснованной программе действия! И его поиски такого мировоззрения нередко представлялись ему безнадежными. В его творчестве это приводило к настроениям безвыходности, сомнения. Разве при всем прогрессивном, революционизирующем значении «Палаты № 6», при несомненной, сильной ноте протеста, прозвучавшей в ней, не отразились все же в этом произведении настроения тоски и безвыходности? Разве не отразились эти настроения в таком рассказе, как «Гусев», в котором любовное, нежное отношение к Павлу Ивановичу, к человеку бунтарского склада, неутомимому «воителю» против всех безобразий и скверны жизни, переплетается с грустной усмешкой над донкихотством такого рода людей, со скорбью о безвыходности страданий народа, родины? Недаром фигуры протестантов, бунтарей, довольно редкие в произведениях Чехова, обычно выглядят чудаками или слабыми людьми, гибнущими при соприкосновении с действительностью.
Аполитичность, таким образом, влекла к ограниченности художественного зрения писателя, к неполноте картины русской жизни в его произведениях, к отсутствию в них образов целеустремленных, сильных, волевых русских людей, способных к действию, к борьбе, чуждых какому бы то ни было «кисляйству», – людей, о которых мечтал Чехов, которых он звал всей своей тоской, всей своей страстной волей к счастью, к справедливости, к свободе родины!
«Свобода» от «партий» и политики, ложно понятая «независимость» влекла и к тому, что Чехов считал возможным в течение длительного срока сотрудничество в «Новом времени» и дружбу Сувориным. Это не могло пройти бесследно для него, усиливая его политический скептицизм, его «скуку-тоску»…
Ласковый враг
В тяжелую пору сомнений Чехова в самом главном – в своем писательском труде – его стал обволакивать ласковый враг: Суворин.
Знакомство Чехова с Сувориным и начало сотрудничества в «Новом времени» произошли раньше. Личная же близость относится к этому периоду.
Редактор крупнейшей столичной газеты, одаренный публицист, беллетрист и драматург, «лукавый царедворец», приспособивший свою газету и свое перо к потребностям правящей клики, Суворин был человеком двойной жизни. В «аполитичной» эпохе восьмидесятых годов самым либеральным людям казалось возможным отделять писателя от политика, и Суворин в своем общении с литературными кругами умел представиться прежде всего литератором. Его пьесы имели успех, либеральная пресса обсуждала их, совершенно отвлекаясь от политической личности автора.
Когда-то, в шестидесятые годы, он неплохо начинал жизнь. Внук крепостного, крестьянский сын, он начал учителем географии в уездном училище в городе Боброве, получая еще меньшее жалованье, чем учитель Медведенко в «Чайке»: тот получал 23 рубля в месяц, а Суворин – всего 14 рублей 67 копеек. Когда он начал печатать свои рассказы и очерки, то перебрался в Москву из Боброва и жил с женой в десяти верстах от города в избе. Он стал сотрудничать в «Современнике», его принимал лично Н. Г. Чернышевский, произведения его запрещались цензурой, сам он привлекался к ответственности. По заказу Л. Н. Толстого он писал книжки для яснополянских «крестьян, и Толстой сам приносил ему гонорар.
Это было славное начало, которое Суворин предал и опозорил во второй половине своей жизни.
Долгое время он считался порядочным либеральным литератором; его фельетоны за подписью «Незнакомец» пользовались широкой популярностью. Шли годы, газета Суворина «Новое время» становилась все более влиятельной. Суворин нажил громадное состояние на «кухаркиных деньгах»: его газета публиковала объявления кухарок, горничных, нянь, предлагавших свой труд. Сделавшись богачом, влиятельным редактором, которого начали обхаживать, почуяв его нестойкость, царские сановники, Суворин стал менять курс, приспособляться к обстоятельствам, лавировать, по щедринскому выражению, «применительно к подлости». Победа реакции окончательно убедила его в том, что нельзя ждать каких-либо общественных потрясений и изменений. Постепенно «Новое время» стало газетой, отмеченной убийственной кличкой, данной ей Щедриным: «Чего изволите?»
Начав служить реакции, Суворин, в качестве разночинца, выходца из низов и просто умного человека, хорошо понимал всю подлость, грязь, низменность того лагеря, в котором он очутился. В этом особенно убеждает известный дневник его, опубликованный в 1923 году. Здесь, глаз на глаз с самим собою, Суворин изливал все свое презрение к реакционному лагерю, давал уничтожающие характеристики всей верхушке, скорбел о растлении своею таланта, разоблачал гнилостность и мерзость того, чему служил.
Конечно, это лишь усугубляло его вину. Но в душе его, как в трясине, было все, в том числе и способность подделки под раскаяние и даже способность к искренней лжи. – Чехов сказал, что «ложь – это тот же алкоголизм… Лгуны лгут и умирая». По иронии судьбы, он сказал это в письме к Суворину.
Ленин дал исчерпывающую характеристику Суворина в статье с коротким выразительным названием «Карьера»:
«Недавно умерший миллионер, издатель «Нового Времени», А. С. Суворин, историей своей жизни отразил и выразил очень интересный период в истории всего русского буржуазного общества.
Бедняк, либерал и даже демократ в начале своего жизненного пути, – миллионер, самодовольный и бесстыдный хвалитель буржуазии, пресмыкающийся перед всяким поворотом политики власть имущих в конце этого пути. Разве это не типично для массы «образованных» и «интеллигентных» представителей так называемого общества? Не все, конечно, играют в ренегатство с такой бешеной удачей, чтобы становиться миллионерами, но девять десятых, если не девяносто девять сотых – играют именно такую же самую игру в ренегатство, начиная радикальными студентами, кончая «доходными местечками» той или иной службы, той или иной аферы.
Бедный студент, из-за недостатка средств непопадающий в университет; учитель уездного училища, служащий, кроме того, секретарем предводителя дворянства или дающий частные уроки у знатных и богатых крепостников; начинающий либеральный и даже демократический журналист, с симпатиями к Белинскому и Чернышевскому, с враждой к реакции, – вот чем начал Суворин в 50-60-х годах прошлого века…
…Либеральный журналист Суворин во время второго демократического подъема в России (конец 70-х годов XIX века) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущими. Русско-турецкая война помогла этому карьеристу «найти себя» и найти свою дорожку лакея, награждаемого громадными доходами его газеты «Чего изволите?». [14]14
В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 18. стр. 250–251.
[Закрыть]
Суворин был виртуозом искренней лжи. Он умел выставить напоказ, когда ему этого хотелось, ту сторону своей души, которая когда-то была связана с честным и передовым. Он умел представить дело так, что он, Суворин, – это одно, а сотрудники «Нового времени» – это нечто совсем иное и что внутренне он презирает эту грязную банду. Впрочем, последнее не было далеко от истины: он презирал и министров. У молодого Чехова Суворин сумел создать твердое, долго державшееся впечатление, что хотя он, Суворин, и предан своей газете, все же он далеко не целиком ответствен за нее и что если бы не «нововременцы», то он не допускал бы свою газету до многих ее неприличий и безобразий. Он делал вид человека, погруженного в свое писательство, в дела театра, созданного им. Правильно отмечает один из биографов, что «когда Чехов только начинал свое сотрудничество в «Новом времени», то искренне думал, что Суворина нужно спасать от… «Нового времени». [15]15
Юр. Соболев Чехов, М., 934, стр. 151, 194.
[Закрыть]
К Чехову Суворин умел оборачиваться именно своей писательскойстороной. Молодого Чехова очаровали «независимый» ум Суворина, блестящего собеседника, его начитанность, наблюдательность, ироничность его суждений.
Мы знаем, что независимость была одним из устоев всего жизненного кодекса Чехова. В недовольстве либерального и народнического лагеря его сотрудничеством в «Новом времени» Чехов видел покушение на свою самостоятельность. Суворин ничего не требовал от него, не ставил ему никаких условий, не ограничивал его права печататься где угодно. Суворин тонко играл на его струнке – обостренном чувстве независимости, высмеивал «узкую партийность» либеральных журналов, «книжность» либеральных лидеров, их догматизм, даже их трусость, склонность к компромиссам с реакцией. И молодому Чехову казалось, что в самом деле не все ли равно, где печататься, – важно лишь, чтобы рассказы были честными, чтобы они служили прогрессу, а не реакции («я с детства уверовал в прогресс», – писал он Суворину). И если честные рассказы печатаются в реакционной газете, тем хуже для этой газеты! В суворинскую газету он шел со своим лозунгом независимости от всего, в том числе и от «Нового времени».
«Далось им «Новое время»! – говорил Чехов Лазареву-Грузинскому с досадой на тех, кто выражал недовольство его сотрудничеством в суворинском органе. – Ведь поймите же, тут может быть такой расчет. У газеты пятьдесят тысяч читателей, – я говорю не о «Новом времени», а вообще о газете, – этим пятидесяти, сорока, тридцати тысячам гораздо полезнее прочитать пятьсот моих безвредных строк, чем те пятьсот вредных, которые будут итти в фельетоне, если своих я не дам. Ведь это же ясно! Поэтому я буду писать решительно в каждой газете, куда меня пригласят».
Существует легенда о том, что в период сотрудничества Чехова в суворинской газете у него было нечто вроде идейной близости с Сувориным, хотя бы и кратковременной. Это столь же не основательно, как и созданная либерально-народнической критикой легенда об «отсутствии мировоззрения» у Чехова.
Опровержение одной из этих легенд одновременно является и опровержением другой, потому что как раз в отношениях Чехова с Сувориным, наряду с тогдашней аполитичностью Чехова, обнаруживалось и его прогрессивное, материалистическое мировоззрение, из которого Антон Павлович тогда еще не умел делать политических выводов.
Отношения между Сувориным и Антоном Павловичем носили своеобразный характер. Там, где речь шла об оценках отдельных явлений искусства, отдельных, более или менее «нейтральных» сторон жизни, они нередко сходились между собою в мнениях, и Чехов испытывал удовольствие от бесед и от переписки с Сувориным. Но как только оказывалось, что оценить то или другое явление невозможно, не затрагивая принципиальных, коренных вопросов мировоззрения, так немедленно обнаруживалось, что, в сущности, отношения между Сувориным и Чеховым – это отношения непрерывной полемики двух людей, занимающих противоположные идейные позиции.
Влияние Суворина на Чехова сказывалось в том, что Суворин укреплял и порою порождал настроения политического скептицизма у Чехова. Но Чехов постепенно освобождался от этих суворинских влияний. Сущность их отношений заключалась в борьбе, хотя она и выражалась в мягкой, «вежливой» форме.
Суворин обычно не спорит с Чеховым прямо и открыто, его задача другая. Искушенный опытом, он пытается незаметно для молодого писателя привить ему микробы своей внутренней опустошенности, враждебности всему прогрессивному и передовому.
Вот характерный случай, раскрывающий сущность отношений между Сувориным и Чеховым.
Делая вид, что речь идет только о «чисто художественном» вопросе, Суворин расхваливает в письме к Чехову роман французского писателя Поля Бурже «Ученик». Хитрец пускает пробный шар. Он умалчивает о том, что суть романа – атака против передовой науки, против атеизма и материализма.
Но Чехов не принимает разговора на «чисто художественной» почве. Ознакомившись с романом, он отдает должное его занимательности, остроумию. Но он вступает в спор с Бурже и Сувориным о главном. Он отстаивает материализм против идеализма, атеизм против религии. Он берет быка за рога и недвусмысленно раскрывает «главный недостаток» романа. «Это – претенциозный поход против материалистического направления. Подобных походов я, простите, не понимаю… Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины». Чехов высмеивает поповскую клевету, заключенную в романе, о том, что атеизм и материализм ведут к разврату. «Что же касается разврата, то за утонченных развратников, блудников и пьяниц слывут не… Менделеевы, а… аббаты и особы, исправно посещающие посольские церкви».
Поход против материализма и атеизма был знамением времени. Все упадочное и реакционное, что шло от западной философии и литературы, подхватывалось и выдавалось за «последнее слово» истинной культуры. Чехов не только не поддался потоку, захватившему большую часть интеллигенции, но со всем своим упорством стал против течения. Его спор с Сувориным был спором со всей реакцией эпохи.
Разногласия между Чеховым и Сувориным особенно обострились к началу девяностых годов, после поездки Чехова на Сахалин, сыгравшей, как мы увидим, большую роль и в формировании его мировоззрения и в его творчестве. С 1893 года Чехов порвал с «Новым временем» и не давал уже более ни строчки в эту газету. За год до этого, в 1892 году, между ним и Сувориным разгорелся интереснейший спор, содержанием которого был наиболее важный для Чехова, жизненно важный для него вопрос.
На процитированное нами в предыдущей главе письмо Антона Павловича, в котором он говорил о необходимости для писателя больших, вдохновляющих целей, Суворин прислал лукавый ответ. Он рассказывал, что показал это письмо Чехова некоей даме. Дама ужаснулась «мрачности», «пессимистичности» письма и под этим «гнетущим» впечатлением, в свою очередь, написала Суворину письмо. Содержание ее весьма «красивого», «возвышенного» письма сводилось к довольно простой мысли, что жизнь хороша сама по себе и что не нужно никаких целей. «Цель жизни, – писала дама, – это сама жизнь… Я верю в жизнь, в ее светлые минуты, ради которых не только можно, но и должно жить, верю в человека, в хорошие стороны его души».
Суворин целиком присоединяется к высказываниям «оптимистической» дамы.
Знаменателен ответ Чехова.
«Неужели все это искренно и значит что-нибудь? Это не воззрение, а монпасье… Под влиянием ее письма Вы пишете мне о «жизни для жизни». Покорно Вас благодарю. Ведь ее жизнерадостное письмо в 1000 раз больше похоже на могилу/ чем мое. Я пишу, что нет целей, и Вы понимаете, что эти цели я считаю необходимыми и охотно бы пошел искать их, а С. пишет, что не следует манить человека всякими благами, которых он никогда не получит… «цени то, что есть», и, по ее мнению, вся наша беда в том, что мы все ищем каких-то высших и отдаленных целей… Кто искренно думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове, что в этих целях «вся наша беда», тому остается кушать, пить, спать, или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука».
Опять-таки спор попадал в самый центр всей тогдашней общественно-политической жизни, всех, вопросов эпохи. Формула «жизнь для жизни» означала в восьмидесятые годы ренегатский отказ от борьбы с гнусной действительностью, оплевывание святого времени шестидесятых годов, когда выдвигались великие цели и идеалы. «Жизнь для жизни», отказ от «несбыточных благ» означали оправдание теории «малых дел», столь распространенной среди интеллигенции в ту пору, – теории обывательщины, примирения с невыносимой жизнью. «Реабилитация действительности» усиленно пропагандировалась в то время и в кругах либеральной буржуазной интеллигенции (либеральная газета «Неделя» особенно настойчиво выдвигала эти мысли).








