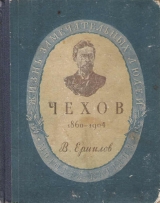
Текст книги "Антон Павлович Чехов"
Автор книги: Владимир Ермилов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Провал «Чайки»
Провал «Чайки» 17 октября 1896 года на сцене Александрийского театра был жестоким, несмотря на то, что в спектакле были заняты лучшие артисты театра, в том числе В. Ф. Комиссаржевская, игравшая Нину Заречную.
В этом провале сыграли роль и случайные причины. «Чайку» взяла для своего бенефиса известная комическая актриса Левкеева, пользовавшаяся любовью и популярностью у купеческо-приказчичьей и чиновничьей публики. При распределении ролей оказалось, что Левкеевой некого играть в «Чайке». Однако преданная ей публика, не зная о том, что любимая артистка не участвует в спектакле, заполнила зал. Пришли посмеяться веселой комедии популярного комического автора и игре известной комической актрисы. Сначала и вели себя так, как будто смотрели развеселую комедию: смеялись в самых неожиданных и неуместных местах, по всякому поводу. Но постепенно стало обнаруживаться, что на сцене разыгрывают вовсе не уморительную комедию, а что-то странное, непривычное, туманное. Главная героиня декламирует что-то о какой-то «мировой душе», о «дьяволе, отце вечной материи» (монолог из пьесы Треплева). Левкеева вообще не участвует в спектакле. Все это начинало восприниматься как обида. В зале назревала атмосфера скандала. Неслись негодующие возгласы, раздавались свистки.
Антон Павлович, бледный, сначала сидел в зрительном зале, затем ушел за кулисы, но так и не дождался конца спектакля. Было уже вполне ясно, что провал полнейший. Актеры были ошеломлены, растеряны и играли все хуже. Плохо играла в этой обстановке и В. Ф. Комиссаржевская, на которую Антон Павлович возлагал все свои надежды. Она произносила свой текст, сдерживая рыдания, подавленная.
Все сложилось как будто нарочно для провала. Состав зрителей был как будто специально подобран, – это была наиболее консервативная публика, с отсталыми, рутинерскими, мещанско-обывательскими вкусами.
И, однако, причина была гораздо глубже.
Тогдашний театр не дорос, до чеховской новаторской драматургии. В лучшем случае он мог лишь добросовестно доносить до зрителя внешнее действие чеховских пьес, не «окунувшись» в то подводное течение, которое, по замечанию В. И. Немировича-Данченко, заменяет в пьесах Чехова «устаревшее действие». Антон Павлович говорил об особенностях своей драматургии: в пьесах нужно изображать жизнь, какая она есть, и людей таких, какие они есть. А в жизни «не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене. Надо сделать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт.
Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни…»
Кстати, именно так происходит в первом действии «Трех сестер», где люди «только завтракают», а в это время разбиваются их жизни, в дом вползает «шаршавое животное» в лице Наташи, которой суждено сыграть зловещую роль в жизни трех сестер.
Слова, произносимые персонажами чеховских пьес, всегда имеют свой внешний и свой внутренний смысл. Люди как будто говорят об обычной житейской повседневности, но каждое слово раскрывает внутреннюю музыкальную тему, характеризует глубокие, не всегда понятные самим персонажам отношения между ними. Ставить пьесы Чехова без понимания этой главной их особенности значило обрекать их на провал или обеднять их, показывая только внешнюю сторону.
С внешней стороны «Чайка» была пьесой о неудачной любви или о многих неудачных «любвях». Захлебываясь от обывательского упоения скандалом, рецензенты писали, что действующих лиц в пьесе «объединяет только разврат». «Обыгрывая» название, острили, что вся пьеса – не «Чайка», а просто «дичь», бредовая чепуха, клевета на живых людей, что Чехов «зазнался», считает возможным открыто показывать свое неуважение к публике и т. д.
Антон Павлович был потрясен провалом. Уйдя из театра, он бродил по ночному Петербургу. На другой день, неожиданно для всех знакомых, ни с кем не простившись, уехал в свое Мелихово.
Спектакль, писал он В. И. Немировичу-Данченко, имел «громадный неуспех». «Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я – по законам физики – вылетел из Петербурга, как бомба».
«Если я проживу еще семьсот лет, – говорил он, – то и тогда не дам на театр ни одной пьесы. Будет! В этой области мне неудача».
Много внутренней жестокой иронии было для Чехова в этом провале. Ведь в «Чайке» изображается провал пьесы непонятого новатора, – как будто Чехов предрекал свою судьбу.
Быть может, больше, чем неуспех пьесы, потрясло Антона Павловича злорадство многих и многих «друзей».
«…ведь в большинстве мои пьесы проваливались и ранее, – писал он, – и всякий раз с меня как с гуся вода. 17-го октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно: – те, с кем до 17-го окт. дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копья… все эти имели странное выражение, ужасно странное… Одним словом, произошло то, что дало повод Лейкину выразить в письме соболезнование, что у меня так мало друзей, а «Неделе» вопрошать: «что сделал им Чехов»… Я теперь покоен, настроение у меня обычное, но все же я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили».
Провал «Чайки» подчеркнул, что Чехову всегда приходилось работать во враждебной среде, что многоликое мещанство, в том числе и литературно-театральное, ненавидело его. «Что сделал им Чехов?» Он доставил им много неприятного всем своим творчеством. И вот теперь мещанство мстило ему так, как может мстить мещанство: грубым, пошлым, отвратительным скандалом, клеветой, травлей.
Чехов быстро взял себя в руки, как это он умел делать всегда, вернулся к обычному труду.
Мы знаем, что это были годы его творческого подъема. Вскоре после провала «Чайки» он создает такие свои шедевры, как «Мужики», «На подводе», «У знакомых». Его гений поднимается все выше, не поддаваясь никаким горестям и неудачам.
Но на здоровье Антона Павловича провал «Чайки» сказался катастрофически. «С этого момента его болезнь значительно обострилась», – свидетельствует М. П. Чехова.
До этого еще можно было прогонять болезнь из своих мыслей, отмахиваться от нее. Теперь она ворвалась в жизнь Чехова властно, неумолимо. Чехов переходит на весь оставшийся ему срок жизни на положение тяжело больного. И весь последний период его жизни – все восемь лет – окрашены трагическим противоречием между душевным и физическим самочувствием Антона Павловича: чем больше сказывался подъем в его идейном, общественном, политическом самосознании, в его чувстве жизни, в его творчестве, тем быстрее шел роковой ход болезни.
В марте 1897 года, за обедом в ресторане «Эрмитаж» с Сувориным, приехавшим в Москву, у Антона Павловича горлом пошла кровь. Пришлось немедленно уехать в «Славянский базар», где Антон Павлович пролежал более суток в номере Суворина. Он говорил: «У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки».
Вскоре опять повторилось кровотечение горлом. Две недели Антон Павлович должен был провести в клинике Остроумова на Девичьем поле.
У Чехова нашли верхушечный процесс в легких. Врачи предписали ему изменить образ жизни, отказаться от напряженной работы, посоветовали поехать на Ривьеру, в Ниццу. Здесь, на юге Франции, он прожил с осени 1897 до весны 1898 года.
Дело Дрейфуса
Злобой дня во Франции было тогда прогремевшее на весь мир дело Дрейфуса.
Альфред Дрейфус, еврей по национальности, артиллерийский капитан при французском генеральном штабе, был обвинен в шпионаже. Обвинение было совершенно бездоказательным. Однако военный суд разжаловал Дрейфуса и приговорил его к пожизненной ссылке. Все дело было грубо состряпано реакцией и погромной черносотенной военщиной. Документы, якобы уличавшие Дрейфуса, представленные военным министром, не были предъявлены ни самому обвиняемому, ни его защитнику. Виновным в государственной измене был не Дрейфус, а майор Эстергази.
Циничный характер судебного процесса, осуждение явно невиновного человека вызвали взрыв возмущения во всей Европе. Борьба вокруг дела Дрейфуса превратилась в острое столкновение двух лагерей – клерикально-реакционного и демократического. В защиту Дрейфуса выступил Зола со знаменитой статьей «Я обвиняю!». Это было грозное выступление против всей правящей верхушки страны, против всех сил реакции. Зола доказывал, что французский генеральный штаб, военный министр, суд виновны в заведомой лжи и клевете.
Зола был обвинен в оскорблении государственной власти и привлечен к суду. Однако этот суд оказался невыгодным для реакции. На процессе обнаружилось с полной ясностью, что «документы», на основании которых был осужден Дрейфус, являлись поддельными. Установлен был даже и виновник подделки документов.
Пришлось пересмотреть дело Дрейфуса. Его привезли из места ссылки, и в конце 1899 года состоялся второй процесс. Чтобы сохранить «лицо», реакционный лагерь настоял на том, чтобы Дрейфус снова был признан виновным, однако на сей раз «заслуживающим снисхождения». После этого президент республики «помиловал» его.
Антон Павлович не только внимательно следил за ходом всех этих событий, но и со свойственной ему обстоятельностью тщательно изучил стенографический отчет судебного процесса и, разумеется, пришел к выводу о невиновности Дрейфуса. Поведение реакционного лагеря во Франции и в России, поднявшего теперь травлю не только Дрейфуса, но и Зола, внушало Чехову омерзение. Реакционные газеты, в том числе суворинское «Новое время», всячески старались очернить знаменитого французского писателя. «Новое время» обвиняло всех тех, кто выступал в защиту Дрейфуса, в том, что они подкуплены «еврейским синдикатом».
Мужество и честность Зола восхищали Чехова. «Зола вырос на целых три аршина, – писал Антон Павлович из Ниццы, – от его протестующих писем точно свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что, слава богу, есть еще справедливость на свете и что, если осудят невинного, есть кому вступиться».
Если уже с 1893 года Чехов порвал с суворинской газетой, то теперь пришел конец и личным приятельским отношениям с Сувориным. Суворин никак не мог сделать вид, что он «ни при чем» в той травле Зола и Дрейфуса, которая велась на страницах его газеты, да и Чехов давно уже преодолел ту свою политическую наивность, которая когда-то позволяла ему отделять Суворина от «Нового времени». Суворин перестал быть в глазах Чехова только литератором: он окончательно предстал перед ним в своем настоящем виде, как беспринципный реакционный политикан. И, несмотря на многолетние близкие отношения, Чехов решился на полный разрыв с Сувориным. В одном из писем к Суворину он издевается над грязными баснями «Нового времени» о «еврейских деньгах»: «Зола благородная душа, и я (принадлежащий к синдикату и получивший уже от евреев 100 франков) в восторге от его порыва». А затем Антон Павлович написал Суворину большое письмо, означавшее для Чехова полный разрыв со «стариком». Он писал, что дело Дрейфуса «заварилось» на почве антисемитизма, «на почве, от которой пахнет бойней», и прямо намекал на грязную старость Суворина, противопоставляя ей чистую старость Зола. «И какой бы ни был приговор, – писал Антон Павлович, – Зола все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошая старость, и умрет он с покойной или по крайней мере облегченной совестью».
Это было не в бровь, а в глаз Суворину, у которого, как видно из его дневника, всегда была неспокойная совесть.
В письме к Александру Павловичу, возмущаясь лживыми сообщениями корреспондентов «Нового времени» о деле Дрейфуса, Чехов пишет: «Как никак, а в общем Новое Время производит отвратительное впечатление. Телеграмм из Парижа нельзя читать без омерзения, это не телеграммы, а чистейший подлог и мошенничество. А статьи себя восхваляющего Иванова! А доносы гнусного Петербуржца!.. Это не газета, а зверинец, это стая голодных, кусающих друг друга за хвосты шакалов, это чёрт знает что».
Суворин, отлично поняв, конечно, что близости с Чеховым пришел конец, все же сделал вид, что все остается по-прежнему. Переписка их еще продолжалась, но от прежних отношений не оставалось и следа.
Разрыв с Сувориным уже не мог быть для Чехова очень большим событием; это подготовлялось постепенно. Антон Павлович давно привыкал к мысли, что нельзя отделять Суворина от его газеты. Но все же такая резкость, ясность политических оценок знаменательна для Чехова этого периода.
Он все более напряженно и взволнованно начинает следить за событиями русской политической жизни, радостно ловя все признаки подъема, происходившего в широких слоях русского общества под влиянием быстрого роста рабочего движения.
Встреча с Художественным театром
Одним из проявлений предреволюционного общественного подъема явилось создание в 1898 году двумя замечательными русскими театральными деятелями, К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, Московского, как он тогда назывался, Художественно-общедоступного театра, которому суждено было произвести переворот в истории русского и мирового театра, стать национальной гордостью нашего народа.
Уже самим названием «Общедоступный» подчеркивались демократические устремления нового театра. Демократизм Художественного театра оказывался прежде всего в самом стиле его постановок, в самом художественном методе изображения жизни. «Встреча» Художественного театра с Чеховым была глубоко закономерной: русский передовой театр, полный творческих сил, смелости, новаторского дерзания, и великий русский демократический писатель, новатор и по духу и по форме своего творчества. И театр и писатель выражали новые, поднимающиеся творческие силы богатырского народа.

А. П. Чехов (1898)
Удача и счастье исторической встречи Чехова с Художественным театром заключались в том, что этот театр понял некоторые важные особенности чеховского стиля, чеховской эстетики, проникновенно разгадал некоторые ее коренные принципы, в том числе скрытость красоты в обыденном, «незаметную» красоту. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко перевели этот чеховский принцип на театральный язык введенным ими новым понятием подтекста, или подводного течения. Это и означало умение раскрыть красоту обыденного, «массового», увидеть «незаметную» красоту за всеми словами, внешними движениями и поступками. Художественный театр понял, что ставить пьесы Чехова значит уметь раскрывать за обыденщиной, за повседневными разговорами людей о житейских делах и будничных заботах скрытую, тайную силу жизни. Тем самым русская литература и русский театр невиданно обогащали и углубляли художественное изображение жизни.
Чеховский принцип «массовости» слился с тем важнейшим творческим принципом Художественного театра, над осуществлением которого так усердно работали К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, – с принципом ансамбля. Любая роль в спектакле, даже состоящая всего из нескольких слов, не может рассматриваться как «второстепенная», а является полноценным художественным образом, со своим «подводным течением». Даже если актеру по его роли приходится произнести в спектакле всего несколько слов, он должен вложить в них такую глубину, полновесность, законченность образа, чтобы зритель мог представить себе всю жизнь этого персонажа, его характер, привычки, его отношение ко всему, происходящему в спектакле.
В этих творческих устремлениях нового театра сказывался, в конечном итоге, тот же демократизм, то же чуткое внимание к рядовому «маленькому человеку», к внутренней значительности обыденного и повседневного. Умение участников спектакля слушать друг друга, переживать все переживания других, все то, что происходит на сцене, для Художественного театра стало требованием не менее важным, чем умение артиста вылепить свой индивидуальный образ, «сделать свою роль». Художественный театр упорно добивался того, чтобы «общение» всех действующих лиц, их взаимодействие сказывалось во всех деталях, чтобы не было ни одного слова, ни одного жеста того или другого персонажа, которые не отзывались бы так или иначе и на других персонажах. Принцип ансамбля, «массовости» помогал театру рисовать движение самой жизни, а не только создавать яркие отдельные, индивидуальные образы. Художественный театр стремился дать зрителю ощущение самого потока жизни, частицами которого являются герои.
Все это, конечно, не значит, что между Чеховым и. «художественниками» не было расхождений. Чехов не был согласен с театром в трактовке «Вишневого сада», «Трех сестер».
Художественный театр возбуждал у Чехова желание работать для сцены и сильно способствовал настроению подъема, которое все глубже охватывало писателя.
Близость Чехова с новым театром началась с того, что «художественники» решились «реабилитировать» с таким шумом провалившуюся «Чайку». Долго колебался Антон Павлович перед тем, как уступить настояниям В. И. Немировича-Данченко и разрешить театру ставить пьесу. Волновался он, волновался и театр. 14 октября 1898 года состоялось открытие Художественного театра спектаклем «Царь Федор Иоаннович», а 17 декабря того же года состоялась премьера «Чайки». Этот спектакль решал судьбу театра. После успеха «Федора Иоанновича» другие спектакли прошли довольно вяло, театр только еще нащупывал свой стиль. «Чайка» была программной постановкой, в которой театр по-настоящему познавал сам себя, утверждал свое художественное мировоззрение.
Была и еще серьезная причина для волнения. Еще раз пережить провал «Чайки» для Антона Павловича было бы таким ударом, который мог вконец подорвать его здоровье.
Но успех «Чайки» превзошел все ожидания. Это определилось уже после первого акта. Сначала артистам показалось, когда закончился акт, что все худшие опасения подтвердились. Зал молчал…
К. С. Станиславский рассказывает:
«Мы молча двинулись за кулисы. В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами. Бросились давать занавес… В публике успех был огромный, а на сцене… целовались все, не исключая посторонних, которые ворвались за кулисы».
Так пришла, наконец, к победе чеховская «Чайка», вытерпевшая столько страданий. Теперь уже символика пьесы оборачивалась совсем другой стороной. Пьеса о победе творческой воли принесла победу воле новаторов, утвердила к жизни новый театр, принесший и новые идеи и новые формы. И мы с волнением встречаемся каждый раз в зале Художественного театра с эмблемой чайки на скромном занавесе, – с этим по-чеховски изящным символом непобедимой воли к победе правды и красоты.
«Чайка», с которой и без того было связано так много личного у Антона Павловича, переплелась с большим событием в его жизни. В сентябре 1898 года, на репетиции «Чайки», Антон Павлович познакомился со своей будущей женой, О. Л. Книппер. Затем он присутствовал на репетиции «Царя Федора Иоанновича». «Меня приятно тронула, – рассказывал он потом в одном из писем, – интеллигентность тона, и со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность – так хорошо, что даже в горле чешется… Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».
Ирину играла О. Л. Книппер.
Большая любовь входила в жизнь Антона Павловича в общей атмосфере красоты, волнующего ожидания праздника искусства.
И вот – надо было покидать Москву и Мелихово. Врачи решительно требовали переселения Антона Павловича на юг, в Крым.
Ялта

Дача А. П. Чехова в Ялте
Мелихово пришлось продать. Некоторое время и Антон Павлович и Мария Павловна колебались, – не оставить ли им Мелихово за собою. Слишком многое было связано с ним.
Но как раз в это время, в октябре 1898 года, умер Павел Егорович, и Мелихово как-то опустело без него.

А. П. Чехов в Ялте (1900)
О переселении в Ялту Чехов думал с тяжелым чувством. Он и раньше недолюбливал Ялту. Еще в 1888 году, приехав сюда, он писал сестре:
«Ялта – это помесь чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещански-ярмарочным. Коробкообразные гостиницы, в которых чахнут несчастные чахоточные… рожи бездельников-богачей с жаждой грошовых приключений, парфюмерный запах вместо запаха кедров и моря, жалкая, грязная пристань, грустные огни вдали на море, болтовня барышень и кавалеров, понаехавших сюда наслаждаться природой, в которой они ничего не понимают, – все это в общем дает такое унылое впечатление…»
Не природа Крыма, а буржуазная пошлость тогдашней Ялты отталкивала Чехова. Однако и природа эта была прекрасна на месяц-два, – жить хотелось Антону Павловичу среди среднерусских пейзажей, от которых он был неотделим. Отвращение к ялтинскому «духу», к безвкусице, наглости буржуазной толпы с ее нарядами, скукой; тоска по любимой женщине, с которой он мог встречаться, даже после того, как она стала его женой, лишь урывками, когда она приезжала в Ялту или когда кратковременное улучшение здоровья позволяло ему приехать в Москву; тоска по любимому театру, по любимой Москве, Петербургу, чувство отрезанности и одиночества, особенно обидное в период общественного подъема, в котором Чехов хотел лично участвовать, быть в курсе всех событий, – все это делало жизнь в Ялте непереносимой. Антон Павлович называл Ялту своей «теплой Сибирью», «Чёртовым островом»

А. П. Чехов в Ницце (1898)
Большой радостью для него был приезд в Крым Художественного театра. До этого Антон Павлович был знаком с театром лишь по некоторым репетициям, на которых он присутствовал, да еще по спектаклю «Чайка», который был показан специально для него, в чужом помещении, когда Чехов, после окончания театрального сезона, приехал на короткое время в Москву. Теперь же театр привез для гастролей в Севастополе и Ялте целый репертуар, в котором был и «Дядя Ваня».
«Это была весна нашего театра, – вспоминал К. С. Станиславский, – самый благоуханный и радостный период его молодой жизни… Мы сказали себе:
«Антон Павлович не может приехать к нам, так как он болен, поэтому мы едем к нему, так как мы здоровы. Если Магомет не идёт к горе, гора идет к Магомету…»
Это была благоуханная и радостная весна и в жизни Чехова. К нему, больному, тоскующему на «Чёртовом острове», приехал театр, так высоко поднявший и «Чайку» и «Дядю Ваню», театр, полный молодых сил, веры в будущее! Этой весной Антон Павлович связал свою жизнь с О. Л. Книппер.
В Ялте в это время был «почти весь литературный мир» – Горький, Мамин Сибиряк, Куприн, Бунин, Станюкович, Елпатьевский, Чириков.
«Ежедневно, – вспоминает Станиславский, – в известный час, все актеры и писатели сходились на даче Чехова, который угощал гостей завтраком. Хозяйничала сестра Антона Павловича, Мария Павловна, наш общий друг. На главном месте хозяйки восседала мать Антона Павловича, прелестная старушка, всеми нами любимая…»
Антон Павлович построил дом в Аутке – «белую дачу», как называли ее местные жители, развел сад. Кроме того, он купил еще маленькое именьице Кучук-Кой, километрах в сорока от города.
Жить в Ялте еще и потому было непереносимо для Антона Павловича, что его угнетал контраст праздной роскоши сытых пошляков и страшной нищеты чахоточных больных-бедняков. Он хлопотал о множестве тружеников, приезжавших сюда в надежде поправить здоровье.
«Мне очень часто, – вспоминал Горький, – приходилось слышать от него:
– Тут, знаете, один учитель приехал… больной, женат, – у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил…

А. П. Чехов и Л. Н. Толстой в Гаспре (1901)
Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый, двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «именье», он оживленно заговорил:
– Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание – очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии; учителю нужно все знать, батенька, все!»
Никогда не покидало Чехова чувство личной ответственности за всю жизнь страны. «Знаете, – говорил он Горькому, – когда я вижу учителя, мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват… серьезно!»
«Белая дача» в Ялте притягивала к себе людей со всех концов страны, – среди них много «маленьких людей», вступавших на порог чеховского дома со страхом и благоговением. Антон Павлович владел искусством быстро возвращать их к естественности и простоте. И они уходили с чувством, что побыли у своего человека.
Гремела его слава по родной стране и по всему миру, а он все острее чувствовал неудовлетворенность своим творчеством. В ответ на вопрос жены, почему он ничего не рассказывает ей в письмах а произведениях, над которыми работает, он объясняет свое молчание тем, что «ничего нет ни нового ни интересного. Напишешь, прочтешь, и видишь, что это уже было, что это уже старо. Надо бы чего-нибудь новенького, кисленького…»
Тут было не только его постоянное недовольство собой как писателем, но и чувство новизны всей той жизни, в которую вступала родина, стремление сказать о том новом и великом, что назревало в стране. Он писал Горькому: «Я мало, почти ничего не знаю, как и подобает россиянину, проживающему в Татарии, но предчувствую очень многое».
«С каким удовольствием, – писал он В. Ф. Комиссаржевской, – я поехал бы теперь в цивилизованные страны, в Петербург например, чтобы пожить там, потрепать свою особу. Я чувствую, как здесь я не живу, а засыпаю, или все ухожу, ухожу куда-то без остановки, бесповоротно, как воздушный шар».
Он считал, что и климат московский ему полезнее крымского. Некоторые из врачей, лечивших его, как профессор Остроумов, в клинике которого Антон Павлович лежал в 1897 году, придерживались этой же точки зрения.
Болезнь уносила и уносила его «куда-то без остановки, бесповоротно, как воздушный шар», – уносила вопреки жажде жизни, которая у него была теперь сильнее, чем когда-либо.

А. П. Чехов и Л. Н. Толстой в Гаспре (1902)
Последние годы жизни Антона Павловича были окрашены дружбой с Л. Н. Толстым и Горьким. Осенью 1901 года Толстой, перенеся воспаление легких, жил в Гаспре. Чехов нередко бывал у него. По словам Горького, «Чехова Лев Николаевич любил, и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды Антон Павлович шел по дорожке парка… а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле, на террасе, весь как-то потянулся вслед, говоря вполголоса:
– Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня, просто – чудесный!»
Горький вкладывал в свое чувство к Чехову столько нежной любви, страстного восторга, восхищения каждым душевным движением Антона Павловича, всем его обликом, что нельзя иначе назвать это чувство, как благоговейным удивлением, что существует такой прекрасный человек на свете.
И Чехов любил Горького, одним из первых оценил его и предрек, что из Горького «выйдет большущий писателище». Многое сближало их между собою и, быть может, в первую очередь преклонение перед трудом, разумом, культурой.
Горький, по его словам, не видевший «человека, который чувствовал бы значение труда, как основания культуры, так глубоко и всесторонне, как Антон Павлович», отмечал, что это выражалось у Чехова «во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накоплять их, не устает любоваться ими как продуктом творчества дела человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:
– Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша».
Горький и Чехов нашли самые потаенные, заветные тропки друг к другу. В мировом искусстве не было художников, которые так глубоко чувствовали бы поэзию труда, как Чехов и Горький. Оба они в творчестве своем выразили могучее трудолюбие своего народа. Вера в то, что народ русский создаст на родной земле жизнь, достойную своего величия, была непоколебима и у Горького и у Чехова.
Горький чувствовал самое главное, коренное и в творчестве и в человеческом облике Чехова.
Он хорошо понимал его внутреннюю силу, твердость воли.
«В его серых, грустных глазах, – вспоминал Горький, – почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порой эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий задушевный голос звучал тверже, и тогда – мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы, крепко, твердо и не уступит ей».
Нельзя не вспомнить в связи с этим, что другой проникновенный художник, И. Репин, тоже воспринимал Чехова как сильного, мужественного человека:
«Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица. Враг сантиментов и выспренних увлечений, он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества.
Мне он казался несокрушимым силачом по складу тела и души…»
Антон Павлович делился с Горьким такими своими мыслями, которые раскрывают нам все отношение Чехова к главным героям его творчества – отношение и любовное, и грустное, и ироническое. Мы надеемся на то, говорил Чехов Горькому, что жизнь будет лучше «через двести лет», но «никто не заботится, чтобы это лучше наступило завтра».

А. П. Чехов и А. М. Горький в Ялте (1901)
Антон Павлович любил своих героев, мечтающих о прекрасном будущем, но он и иронизировал, с грустной своей и мудрой усмешкой, над бездейственностью их мечты, над тем, что они не умеют бороться за ее осуществление.
С именем Горького связано было и серьезное общественно-политическое выступление Антона Павловича – протест против изгнания Горького из числа почетных академиков. Горький и знаменитый драматург А. В. Сухово-Кобылин, автор «Свадьбы Кречинского», «Дела» и «Смерти Тарелкина», в феврале 1902 года были избраны почетными академиками по разряду изящной словесности. Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, поэт А. М. Жемчужников были избраны почетными академиками еще в апреле 1899 года, когда, по случаю столетия со дня рождения Пушкина, был основан при Академии наук разряд «изящной словесности».








