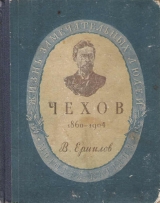
Текст книги "Антон Павлович Чехов"
Автор книги: Владимир Ермилов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Суворин хотел поймать Чехова на его словах о том, что «цели нет». Суворин вполне присоединяется к этим словам. Конечно, конечно, радуется он, нет никаких целей! Как будто оба собеседника согласны между собой. Но Суворин делает маленькое добавленьице: нет – и не нужно! И именно это добавление Чехов берет под огонь, сразу вскрывая всю мнимость «солидарности» с ним Суворина, всю пропасть, разделяющую их. Чехов мучается тем, что эпоха, как ему кажется, не выдвигает больших общественных идеалов; он ищет больших целей, потому что не может примириться с жизнью, как она есть, с «жизнью для жизни». Суворин же «ценит то, что есть». Резко, короткими гневными фразами Чехов снимает весь покров «красивости», «поэтичности» с формулы «жизнь для жизни», обнажает ее эгоистическую, косную, черствую, мертвенную сущность.
Суворину до того хотелось, чтобы Чехов встал на позицию «жизни для жизни», что в своих рецензиях он изображал Антона Павловича сторонником этой позиции.
«Миросозерцание у него совершенно свое, – писал Суворин о Чехове, – крепко сложившееся, гуманное, но без сентиментальности, независимое от всяких направлений, какими бы яркими или бледными цветами они ни украшались… Ничего отравленного какими-нибудь предвзятыми идеями нет у этого талантливого человека… Он сам как будто хочет сказать, что надо жить просто, как все, и вносить свои лучшие намерения в развитие этой простой, обыкновенной жизни, а не тратить их на подвиги несоразмеримые и без пути не стремиться зажигать моря».
Хитер был старый царедворец, хорошо знавший искусство тонкой лести, и тончайшую вел он игру с Чеховым. Как ловко сплетает он в своей рецензии правду с ложью!
Как хитро он использует стремление Антона Павловича к духовной независимости, которое для Чехова означало прежде всего независимость от мещанства и обывательщины! Незаметным поворотом Суворин превращает стремление к такой независимости в мещанскую «независимость» от идей и идеалов.
Чехова, с его отвращением к обывательскому примирению с пошлостью жизни, Суворин изображает обывателем, «ценящим то, что есть», и поучающим своих читателей «жить, как все».
Антон Павлович далеко не всегда умел отделить правду от лжи в суворинской паутине. Но в самом главном, решающем, он все-таки достаточно твердо, с чеховской принципиальностью, противопоставлял «суворинщине» непримиримость своего стремления к правде, свою совесть и разум русского демократического интеллигента-разночинца.
Даже в период своего полного расположения к Суворину Чехов никогда не прощал ни ему, ни его газете того, что считал морально недопустимым, нечестным, несправедливым. Например, в марте 1889 года он пишет Суворину: «Недавно в «Новом времени» среди газет и журналов была сделана цитата из какой-то газеты, восхвалявшей немецких горничных за то, что они работают целый день, как каторжные, и получают за это только 2–3 рубля в месяц. «Новое время» расписывается под этой похвалой и добавляет от себя, что беда-де наша в том, что мы держим много лишней прислуги. По-моему, немцы подлецы… Во-первых, нельзя говорить о прислуге таким тоном, как об арестантах, во-вторых, прислуга правоспособна и сделана из такого же мяса, как и Бисмарк…»
Назвав немцев подлецами, Чехов тем самым обвинил в подлости и «Новое время», присоединившееся к восхвалению немцев.
Суворин вынужден был молча сносить такие пощечины от Чехова. «Молодо – зелено», – думал, должно быть, старый лукавец. Он всегда имел возможность представить дело так, что не он виноват в той или другой подлости своей газеты, а его сотрудники: он занят литературой, газета идет «сама собой»…
Расхваливая произведения Чехова, он вместе с тем разрешал своим сотрудникам бранить Чехова на страницах «Нового времени». Тем самым подчеркивалось, что Суворин – это одно, а «Новое время» – другое; подчеркивалась вместе с тем «идейная независимость» Суворина, его «широта взглядов», «терпимость» ко всяким мнениям (кстати сказать, все то же самое, на чем обычно играет и современная буржуазная печать). Старая лиса, Суворин отлично понимал, что Чехов никогда не порвет с ним только из-за личной обиды.
Изучая письма Антона Павловича к Суворину, мы испытываем двойное чувство: и гордость за Чехова, рискующего попасть в ловушки, расставленные для него хитрым, ласковым врагом, и все-таки выбирающегося из этих ловушек, и обиду за политическую наивность Антона Павловича. Это двойное чувство мы испытываем, читая, например, совет Антона Павловича Александру почаще вступать в резкий спор с Сувориным и вообще занять в редакции идейно-самостоятельную, независимую позицию. Чехов тогда еще надеялся «облагородить» суворинскую газету.
Закончив свой рассказ «Припадок» (11 ноября 1888 года), Антон Павлович спрашивает Суворина: «Отчего у Вас в газете ничего не пишут о проституции? Ведь она страшнейшее зло. Наш Соболев переулок – это рабовладельческий рынок».
Чехов еще не догадывался о том, что «Новое время» сознательно замалчивает страшные социальные язвы.
Он правильно написал однажды Суворину, что «бывает наивен» в своих письмах к нему. Понадобился срок для того, чтобы он перестал быть наивным в своем отношении к Суворину.
Казалось бы, много было данных у Суворина для глубокого влияния на Чехова. И иронический ум, и меткость, здравый смысл, деловитость суждений об искусстве, и блеск таланта, и «размах». Суворин протянул ему руку тогда, когда Чехов был еще «осколочником» и литературные знакомства его ограничивались Лейкиным и мелкой газетно-журнальной братией.
Но главное, что могло создать почву для глубоких влияний Суворина на Чехова, – это призрак пустоты, посещавшей Чехова, его недовольство собой как писателем, его представление, что он занимается «вздором», трудность и, как казалось ему порой, безнадежность поисков ясных целей и идеалов в эпохе «безвременья». Все это, при склонности Чехова к иронии, могло, казалось бы, привести его к философии полного скептицизма, к насмешке надо всем. А тут-то и ждала бы его суворинская опустошенность.
Суворин звал его к спокойно-скептическому отказу от поисков «несбыточного». Он играл и на трезвости ума Чехова. Разве не видно, что все поиски безнадежны, что «целей нет» и не может их быть? Разве не смешно донкихотство?
Да, суворинская опасность в жизни Чехова была серьезной, она сосредоточила в себе все яды эпохи.
Но и эту опасность Чехов откинул в своем непрерывном восхождении вверх. И «лейкинщина» и «суворинщина» остались далеко внизу, а чеховский гений поднимался все выше и выше.
Смерть брата
Летом 1889 года Чехов с семьей жил на Украине, около Сум, в живописном уголке, снимая дачу на берегу реки Псел, на хуторе Лука.
Лето обещало быть чудесным. Украинская природа, поэтичность украинского народа восхищали Чехова; в самом облике украинцев он находил много близкого себе, нередко называл себя, южанина, «хохлом». Правда, подобно Левитану, он был поэтом среднерусской природы; именно она возбуждала в нем, как говорит Тригорин в «Чайке», страстное, непреодолимое желание писать. Но очарование украинского пейзажа захватило его. К тому же перед ним открывалась широкая возможность предаваться любимому занятию – уженью рыбы.
Но все было отравлено ожиданием смерти Николая. Неразбитый «графин водки» сыграл свою роковую роль. Семья перевезла больного художника на Луку. Неизбежность его близкой смерти Антону Павловичу, как врачу, была ясна. С мужеством трезвого диагноста он, как и всегда, смотрел правде прямо в лицо. На тревожный запрос Александра из Петербурга о состоянии Николая Антон Павлович отвечает, что нельзя спрашивать, выздоровеет ли Николай, а можно лишь спрашивать, сколько времени может он еще прожить.
С Николаем уходило из его жизни многое.
Это было и окончательным прощанием с молодостью, и утратой близкой души, в облике которой было много родного, – утратой чего-то непосредственно-поэтического, наивно-художественного, бессознательно-талантливого, юношески-беспечного, детски доверчивого.
Это было еще одним жестоким напоминанием об одиночестве.
Пушкин спасался от одиночества в дружбе. Вокруг него была культурная среда ценителей прекрасного. Пусть была она тончайшим слоем в тогдашней России, но она облегчила и жизнь и творчество поэту. Среда передовых людей страны была шире в сороковых, гораздо шире в шестидесятых годах. Некрасов хорошо знал, что его поддерживают Чернышевский, Добролюбов, молодая Россия, идущая за ними.
Положение Чехова было совсем иным. Литературная среда, с которой он был связан, критики были несравненно ниже и мельче его.
Все это делало особенно тяжелым и его личное горе.
К этому присоединялась болезнь самого Антона Павловича, которая все тревожнее давала знать о себе, и его странное отношение к своей болезни. Он отмахивался от нее.
В октябре 1888 года он писал Суворину:
«Каждую зиму, осень и весну, и в каждый сырой летний день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве…»
Он рассказывает далее, что впервые заметил у себя кровохарканье еще четыре года назад, что и после этого замечал у себя кровь, и все же он убежден в том, что у него нет чахотки. Если бы кровотечение, случившееся в 1884 году, было свидетельством начинавшейся чахотки, то его уже не было бы в живых. «Вот моя логика».
Зная ясную, неумолимую логику Чехова, мы чувствуем, что здесь что-то не так, что он не мог внутренне, до конца удовлетвориться такой поверхностной «логикой».
Он старался убедить в том, что он не болен, и окружающих и самого себя. Впоследствии он напишет Лике Мизиновой со своей обычной сдержанностью: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, я здоровье прозевал так же, как Вас».
Не случайно, должно быть, он поставил в связь мысль об утерянном здоровье с мыслью об утерянной возможности любви. По-видимому, была у него не вполне осознаваемая, но постоянная боязнь, что личное – большая любовь, тревожное сознание роковой болезни – ворвется в его труд, помешает мыслям о главном. А ведь главное еще не найдено. И нужно было бы еще «сорок лет учиться», чтобы стать настоящим писателем, «тут дорог каждый час…»
Ему было скучно думать о том, что он болен.
А тут страшный кашель и смертельное кровохарканье Николая властно напоминали Чехову и о его болезни, как будто кто-то нехорошо смеялся над созданной им иллюзией.
Николай «таял, как воск», и у Чехова «не было ни одной минуты», когда бы он «мог отделаться от сознания близости катастрофы».
Даже и в эти тяжкие дни, с тоской глядя на болезнь любимого человека, нежно ухаживая за братом, он оставался верен беспощадной ясности своих наблюдений над жизнью, над людьми. В письме к Александру, в котором он пишет о неизбежной близкой смерти Николая, Антон Павлович добавляет, что Николай капризничает, ведет себя с окружающими «по-генеральски». «Николай, – грустно иронизирует Чехов, – кажется, всерьез вообразил себя генералом. Привередник ужасный».
Невольно вспоминаются слова Горького в одном из писем к Чехову:
«Чую облик Вашей души, он кажется мне суровым».
В июне 1889 года художник Чехов умер. «Бедняга Николай умер, – писал Антон Павлович. – Я поглупел и потускнел. Скука адская, поэзии в жизни ни на грош, желания отсутствуют и проч. и проч.».
Смерть брата затронула Антона Павловича очень глубоко, тесно переплелась со всеми трудными мыслями, мучившими его. Умирание Николая, раздумье о жизни, прожитой братом, – все это влилось новой безрадостной струей в поток главных мыслей Чехова.
Он не мог никуда уйти от своих постоянных мыслей об «общей идее», великой цели человеческой жизни. Все горести, как и все радости его личной жизни, неразрывно переплетались в его сознании с этими его мыслями.
И теперь проблема мировоззрения, «общей идеи» предстала перед ним еще с одной стороны.
Ужасна жизнь без мировоззрения. И как ужасно умирание мыслящего человека, не знающего цели, во имя которой прожита его жизнь!
Только сознание осмысленно прожитой жизни, только чувство личной связи с будущим, вера в то, что «весь я не умру», что мои радости, мои страдания, мой труд не пропадут бесследно, а вольются, пусть маленькой каплей, в океан жизни народа, родины, мира, – только такое сознание может придать высокое достоинство и жизни и смерти человека.
Общая идея
Во второй половине 1889 года появляется одно из значительнейших произведений Чехова – повесть «Скучная история».
Мы помним, что в предыдущем году у Антона Павловича был замысел рассказа о «мыслящем человеке», который оказывается банкротом в острый момент своей жизни, потому что у него нет мировоззрения.
Настроения и раздумья, вызванные смертью брата, ворвались в этот замысел и изменили его.
Тема мыслящего человека, не имеющего «общей идеи» и поэтому терпящего крах при столкновении с трудными вопросами личной жизни, в «Скучной истории» тесно сплетается с темой банкротства такого человека и перед лицом смерти.
Неизбежность близкой смерти героя окрашивает все настроение «Скучной истории».
Чтобы читатель не отвлекался от главной темы, возраст героя приближен к тому возрасту, когда ожидание смерти не является странным. Герою повести шестьдесят два года.
Для того чтобы подчеркнуть тему страданий мыслящего человека, Чехов делает своего героя известным ученым, профессором медицины.
Мрачен весь колорит повести.
Наблюдения над умирающим братом, быть может, мысли о собственной болезни, уменье художника и врача перевоплощаться в своего «пациента» – все это помогло Чехову с угрюмой правдивостью нарисовать внутренний мир человека, ожидающего смерти.
В «Скучной истории» два главных лица – старый профессор и Катя, юная женщина, оставшаяся сиротой еще в раннем детстве и воспитывавшаяся в семье профессора. Покойный отец Кати, окулист, назначил профессора опекуном своей дочери. Профессор любит Катю больше, чем свою дочь, любит больше всего на свете. В своей семье он давно стал чужим. Для Кати ее опекун – самый высокий авторитет во всем.
Катя уже успела быть актрисой, потерпеть много тяжелых неудач. Она переживает по-своему те же страдания, что и ее опекун. У нее нет «общей идеи»! Умная, образованная, красивая женщина, она уже не может после своих жизненных неудач тешиться «личным счастьем». Это пройденная полоса для нее. Ей необходимо сознание цели жизни, без этого она не может жить. Для старого ученого Катя – единственная радость, но он теряет и ее, потому что не может ответить на ее вопрос, обращенный к нему. Это все тот же классический прямой вопрос: «что делать?» Последний разговор, происходящий между нею и профессором, – разговор, после которого она навсегда уходит и из его жизни и, быть может, судя по ее настроению, из жизни вообще, – обнажает страшную внутреннюю пустоту героя повести.
С отчаянием Катя говорит ему: «Николай Степаныч! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного бога, скажите скорее, сию минуту: что мне делать?.. Ведь вы умны, образованы, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?»
И он отвечает: «По совести, Катя: не знаю… Давай, Катя, завтракать».
Он хорошо понимает ее страдания. «Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, – размышляет он, – я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!»
Но чем же он может помочь своей любимице, если не может помочь самому себе?
Сущность своих страданий он характеризует точно:
«Сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить… и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека.
А коли нет этого, то, значит, нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара… Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой…
Я побежден…»
Потрясающую историю старого ученого, пришедшего перед лицом смерти к выводу, что он напрасно прожил жизнь, Чехов, со своей нелюбовью к громким словам, назвал скучнойисторией. Но если и можно назвать скукойте чувства, во власти которых находится герой повести, то перед нами какое-то еще небывалое расширение самого понятия скуки, – вроде того, как Байрон расширил понятие скорби до мировой скорби.
Чехов, как мы уже сказали, воплотил в своих произведениях поиски и чаяния той части русской разночинной интеллигенции, которая не могла «ужиться» с буржуазией и буржуазным обществом, понимая враждебность этого общества культуре и интеллигенции как таковой, но не знала революционного выхода, была чужда революционному пути, хотя порою и в плотную подходила к догадке о его необходимости.
В «Скучной истории» Чехов остро и глубоко поставил коренные проблемы судьбы интеллигенции в буржуазном обществе. Это общество не может вдохновить интеллигенцию высокими общечеловеческими, общенародными целями, идеалами. В буржуазном обществе даже лучшая, честная интеллигенция обречена на идейное, интеллектуальное, психологическое измельчание, вырождение, на духовную пустоту, которая означает духовную смерть. Избавлением от этой «скучной истории» может быть только обретение больших социальных идеалов, которые не могут быть выдвинуты «хозяевами» буржуазного общества.
Отсутствие целостного представления о мире, сознания смысла жизни, живой связи с людьми, разорванность мыслей и чувств, существующих «особняком», раздробленность сознания – все это неизбежно в обществе, раздробленном на отдельные частички, в обществе, не вдохновленном единой целью, общей идеей.
Особенности эпохи, напряженно ищущей, под гнетом реакции, новые цели, новые идеалы, тоска художника, не могущего жить без великой вдохновляющей идеи, – все это дало возможность Чехову поставить тему, имеющую не временное, преходящее, а широкое мировое значение.
Так подтверждался закон о том, что художник, умеющий глубоко выразить главные темы своего времени, тем самым создает произведения, далеко выходящие за рамки своей эпохи.
Поиски смысла жизни, невозможность жить без сознания общей цели – это свойственно передовым людям всех стран и наций. Но нигде эти поиски не были такими страстными и напряженными, как у русских людей.
В эпоху упадка, безидейности и обывательщины среди большой части интеллигенции Чехов и его герои мучительно тоскуют по «общей идее».
Чехов не хотел быть в положении своего героя, отвечающего на вопрос: «что делать?» – честным! но бессильным: не знаю! Читателю мало было знать что писатель честен. Ему надо было знать, что делать. И Чехов чувствовал себя обязанным ответить на этот вопрос.
Дальняя дорога
Вскоре после смерти брата Антон Павлович удивил своих знакомых и родных неожиданным решением. Он начал собираться в путешествие на Сахалин.
М. П. Чехов рассказывает, что «собрался Антон Павлович на Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно, так что в первое время трудно было понять, серьезно ли он говорит об этом, или шутит».
Почему он решил поехать именно на Сахалин? Он никогда не проявлял никакого особого интереса к этому острову.
Поездка на Сахалин была по тем временам самым настоящим путешествием, утомительным и далеко не безопасным. Великой Сибирской железной дороги еще не было. От Тюмени нужно было ехать в тарантасе четыре тысячи верст. Антон Павлович хорошо знал, что его ждут и дорожная грязь, и разливы могучих сибирских рек, и жестокая тряска, и множество других испытаний, тяжелых и для вполне здорового человека. А он незадолго перед тем отказался от предложения об одной приятной поездке по той причине, что в вагоне у него всегда усиливается кашель. Но что значит вагонная тряска в сравнении с тарантасной, к тому же продолжающейся не день, не два, а многие недели!
Намерение Антона Павловича всем казалось непонятным. Его спрашивали о причинах поездки, писали ему недоуменные письма. Чехов отшучивался, стремился представить поездку легкомысленной, просто желанием «встряхнуться», а когда уж очень приставали с расспросами, то он делал серьезный вид: он хочет написать научный труд, диссертацию о Сахалине и тем самым хоть отчасти заплатить свой долг медицине – своей «законной жене», которой он изменил для литературы – своей «любовницы».
При «легкомысленном» варианте оставалось непонятным, почему нужно «встряхиваться» именно в тарантасе и именно в путешествии на Сахалин. Для того чтобы «встряхнуться», гораздо больше подходила обыкновенная комфортабельная поездка за границу. Кстати, после Сахалина Антон Павлович и совершил такую поездку.
При варианте же «деловом» опять-таки было неясно, почему для диссертации потребовался Сахалин. Чехов в свое время усиленно работал над интереснейшей научной темой – историей русской медицины, собрав для этого труда много материалов. Если ему так сильно хотелось «заплатить долг медицине» созданием научного труда, то почему бы он не мог вернуться к начатой и уже более или менее освоенной теме? Или почему бы он не мог, наконец, выбрать любую тему, не связанную с трудной поездкой?
Несомненно, что Антон Павлович хотел написать научный труд. Но несомненно и то, что он излагал далеко не все мотивы своего решения о поездке на Сахалин и тем самым «вводил в заблуждение» и своих родных, и своих знакомых, и, добавим, своих биографов. Один из последних, основываясь на объяснениях Чехова, свел все мотивы поездки к следующему: «В скучной и нудной жизни», которую до сих пор влачил Чехов, таких «двух-трех дней» не было (Антон Павлович писал в одном из писем, что в его поездке, вероятно, встретятся таких «два-три дня», о которых он будет вспоминать всю жизнь с восторгом или горечью. – В. Е.), а надо, чтобы они были, иначе нечем будет жить! Вот как нам представляется настоящее объяснение неожиданного для всех решения Чехова поехать на Сахалин». [16]16
Юр. Соболев. Чехов. М., 1934, стр. 160, 217.
[Закрыть]
Биограф не замечает, что он ничего не ответил на главный вопрос: почему же для ярких двух-трех дней надо было ехать на Сахалин, а не, скажем, в Ниццу?
Чехов очень хорошо знал, что Сахалин, превращенный царским правительством в место каторги и ссылки, стал островом ужасов. Он отдавал себе полный отчет в том, что ему предстоит встретиться с сосредоточением в одном месте всех возможных видов человеческого унижения и страдания. Со своим повышенным чутьем к страданию и боли он готовился к тому, что его пребывание на Сахалине будет для него сплошной мукой.
Ключ к разгадке наиболее важных мотивов решения Чехова следует искать в двух его высказываниях. Одно из них мы встречаем в ответе на недоуменный вопрос Суворина: зачем Антону Павловичу понадобился Сахалин? Суворин писал, что поездка не имеет никакого смысла, потому что, дескать, Сахалин никому не нужен и неинтересен.
Прежде чем перейти к отповеди Суворину, Чехов сначала подчеркивает полное отсутствие у него каких бы то ни было претензий.
«Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий».
Далее он приводит в объяснение своего путешествия не главный, но действительно имевший для него известное значение мотив: «Поездка – это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я… стал уже лениться. Надо себя дрессировать».
После всего этого он переходит к главному. Тут-то и прорывается и его недовольство письмом Суворина, и признание подлинных мотивов своего решения о поездке.
«…Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно?.. Не дальше, как 25–30 лет назад, наши же русские люди, исследуя Сахалин совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся на то, что бог дурно создал человека. Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные, ответственные задачи…
…Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждений, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей… виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно».
И Антон Павлович как бы спохватывается: не звучит ли все это претенциозно, не получается ли что-то вроде декларации, провозвещающей великие последствия его поездки? И он возвращается к первоначальному скромно-будничному тону письма.
«Нет, уверяю вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе.
Я же лично еду за пустяками».
Другое высказывание Антона Павловича, в котором тоже прорвалось ценное признание, содержится в письме к Щеглову. Тот высказал мнение, что современная критика все же приносит известную пользу писателю. Чехов возражает, что если бы критика в самом деле помогала писателям, то «мы знали бы, что нам делать, и Фофанов не сидел бы в сумасшедшем доме, Гаршин был бы жив до сих пор, Баранцевич не хандрил бы, и нам не было бы так скучно, как теперь, и Вас не тянуло бы в театр, а меня на Сахалин».
Биограф, объяснивший поездку Чехова на Сахалин только желанием Антона Павловича получить два-три ярких дня, трактует приведенное высказывание Чехова в письме к Щеглову в духе обывательской «скуки» и обывательского же стремления от скуки «проветриться».
Но мы хорошо знаем, что означала на чеховском языке скука и что означало его недовольство современной ему критикой. Мы знаем, что скучной историей он назвал тоску человека, не имеющего «общей идеи». Его недовольство критикой было связано все с той же тоской по великим целям и идеалам. И именно с этой тоской связывает он свое решение поехать на Сахалин.

Автограф А. П. Чехова. Письмо из Сибири по пути на Сахалин
Цель поездки Чехова на Сахалин была связана прежде всего с поисками ответа все на тот же вопрос: «что делать?»
В своей эпохе «малых дел», отсутствия идеалов у интеллигенции Чехов нашел для себя то, к чему всегда стремились русские писатели: возможность подвига.
Конечно, если бы ему сказали, что его путешествие на Сахалин – подвиг, он рассмеялся бы. Он сам всячески старался «снизить» свое путешествие, представить его «пустяком». И все же поездка была подвигом. И дело тут не в его болезни, не в трудностях пути, не в изнурительном, непрерывном полугодовом труде, а в стремлении прямо, лицом к лицу, сойтись с самой ужасной правдой и рассказать о ней всем.
Бывает, что писатель отправляется в экзотическое трудное дальнее путешествие под влиянием своего неуспеха, в заботе о своей репутации, о славе. Чехову, как мы знаем, не нравился его успех. Он боялся своей славы, боялся стать «модным писателем». Ему казалось, что он «обманывает» читателя, не указывая ему целей жизни.
Своей поездкой на Сахалин он хотел «заплатить долг» не столько медицине, сколько своей совести русского писателя.
Совесть великого народа – русский писатель всегда чувствовал свою ответственность перед народом за всю жизнь страны.
Когда Чехов пишет: «мы сгноили в тюрьмах миллионы людей», «мы… размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей», то это означает именно то, что написано: Чехов всем существом своим чувствует и свою личную ответственность за все преступления царского правительства.
Критикуя либералов за их приспособление к мерзости царской России, Ленин подчеркивал, что либералы способствуют политическому развращению населения царским правительством, ослабляют «…и без того бесконечно слабое в русском обывателе сознание своей ответственности, как гражданина, за все, что делает правительство». [17]17
В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 5, стр. 53.
[Закрыть]
Всем своим творчеством Чехов воспитывал в своем читателе именно такое сознание ответственности, потому что у него самого оно отличалось исключительной силой и остротой. И его решение о поездке на Сахалин вытекало из этого сознания.
Была и еще серьезная причина для путешествия.
Чехов знал, что на своем длинном пути он встретит множество людей, увидит жизнь страны. Подмосковье, Петербург, родные южные места, Кавказ, Крым, Украина – всего этого было ему мало в его ненасытной жажде познания родины.
Антон Павлович готовился к своей поездке со всей присущей ему научной обстоятельностью, дотошностью. Он изучил, проштудировал целую библиотеку трудов по самым различным отраслям науки. История, этнография, геология, биология, уголовное право, тюрьмоведение, метеорология, география – таковы были науки, по-новому, а многие впервые изучавшиеся Антоном Павловичем. «Целый день, – писал он, – сижу, читаю и делаю выписки… Умопомешательство: «Mania Sachalinosa»… Приходится быть и геологом, и метеорологом, и этнографом».
В апреле 1890 года родные и знакомые проводили Чехова в Ярославль. Там он сел на пароход до Казани, оттуда – по Каме до Перми, затем по железной дороге до Тюмени и – здравствуй, колесуха, здравствуй, матушка Сибирь!
Кажется, сама природа решила всячески затруднить Чехову его поездку. Сначала его долго мучил «страшенный холодище» и днем и ночью: весна выдалась необычно поздняя. Потом, с потеплением, пошла такая грязь, что он в своем тарантасе «не ехал, а полоскался». Не раз ему приходилось переплывать сибирские реки во время буйного разлива на лодках, ежеминутно рискуя утонуть. Кое-какие штрихи, дающие представление о поездке, мы получаем из писем Антона Павловича к сестре, обращенных и ко всей семье.
«…Грязь, дождь, злющий ветер, холод… и валенки на ногах. [18]18
Сапоги, купленные Антоном Павловичем оказались узки.
[Закрыть]Знаете, что значит мокрые валенки? Это сапоги из студня. Едем, едем, и вот перед очами моими расстилается громадное озеро, на котором кое-где пятнами проглядывает земля и торчат кустики – это залитые луга. Вдали тянется крутой берег Иртыша; на нем белеет снег… Начинаем ехать по озеру. Вернуться бы назад, да мешает упрямство и берет какой-то непонятный задор, тот самый задор, который заставил меня купаться среди Черного моря, с яхты, и который побуждал меня делать немало глупостей… Должно быть, психоз. Едем и выбираем островки, полоски. Направление указывают мосты и мостики; они снесены. Чтобы проехать по ним, нужно распрягать лошадей поодиночке… Ямщик распрягает, я спрыгиваю в валенках в воду и держу лошадей… Занимательно! А тут дождь, ветер… спаси, царица небесная!..»








