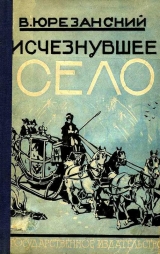
Текст книги "Исчезнувшее село"
Автор книги: Владимир Юрезанский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
XIII
Растревоженными, подавленными остались Турбай.
– Ох, беда неминучая идет на нас… – удрученно вздыхали, и никли на селе.
– Видно, свет белый узлом затянется над нами…
Через несколько дней совершенно неожиданно приехал: градижский нижний земский суд для производства следствия и дознания: оказалось, что дело решили пустить полным ходом и передали для следственных допросов в город Градижск, находившийся в пятидесяти километрах от Турбаев. Едкой болью еще жила у турбаевцев память о голтвянском земском суде, – поэтому к градижскому суду отнеслись враждебно, зло, с ненавистью.
– Ну, убили. Чего еще вы хотите от нас? Сто раз уже допрашивали. Всем селом убили, всей громадой. Ну, кусайте нас, ешьте!.. – отвечали раздраженно и дерзко.
– А зачем же имение разграбили? Придется разграбленные вещи собрать. Или заплатить наследникам за все…
– Заплатить? На том свете жаром под пуза Базилевских заплатим! Ничего не отдадим. Ни единой щепочки не вернем. Мы девять лёт подданнические повинности на них справляли. Пусть сначала за эту работу нам заплатят… А за то, что они у нас разграбили-отняли, кто будет платить? Вы, что ли, заплатите?..
Так, ничего не добившись, градижский суд и уехал обратно.
Тогда под прикрытием вооруженной охраны приехал из Екатеринослава посланный Коховским асессор Гладкий. Он объявил то, чего не решился объявить сам Коховский: постановление покойного Потемкина и теперешнего наместничества о переселении.
Смятение и ропот охватили всю громаду.
– Никуда мы отсюда не пойдем! – заявили твердо.
– Смерть примем, а не пойдем!
– Эта земля нашим потом-кровью полита, костями дедов-прадедов уложена. Не покинем ее, хоть убейте!..
– Постановление утверждено государыней императрицей и должно быть выполнено, – сухо, металлически четко заявил Гладкий. И строго блеснули очки на его одутловатом полном лице.
– Не может этого быть!
– Враки!
– Обман!.. – зашумели турбаевцы.
– Не поверим ни за что!..
– Разве можно с живыми людьми так поступать?
– Что мы, стадо овец, или что?..
– Шлите выборных к наместнику. Может, наместник сумеет как-нибудь смягчить вашу участь, – уклончиво и неопределенно разводил руками асессор.
В ответ неслись угрожающие крики:
– Не только к наместнику, мы до самой царицы дойдем.
Весь вечер и всю ночь как на огне кипели Турбаи. И на утро поклонились степенным пожилым казакам: Гавриле Воронцу и Ефиму Хмаре:
– Идите, сделайте милость, потрудитесь, отыщите защиту царскую, добейтесь пощады.
Недолги сельские сборы: в то же утро вышли Воронец и Хмара в дальний путь.
Плакали их жены. Дул ветер. Сиротливо, пусто и тяжело вернулись потом бабы в притихшие и словно насторожившиеся хаты.
Одновременно громада решила, также послать выборных к Коховскому для переговоров.
– Только тридцать человек нельзя посылать, – с осмотрительностью и беспокойством постановили единогласно. – А вдруг их там арестуют? В капкан своих людей совать не годится. Разве можно чиновничьим словам доверяться? Здесь он льстивой лисой крутится, хвостом машет, а там зубастым волком обернется…
– Правильно! Довольно пяти человек.
– Хватит!
Выбрали пять человек. Коховский удивился, что мало, но был доволен, что его все-таки послушались.
– Вот что, казаки, – говорил он, стараясь быть убедительным и мягким. – Сами знаете, преступление вы совершили вопиющее, неслыханное. Наказание за это ждет вас ужасное. Если не выдадите вожаков и убийц, правительство вынуждено будет наказать все село поголовно. Для вашей же пользы, для вашего спасения прошу: выдайте преступников! Выставьте человек двадцать, – остальным легче будет. Я сам буду просить тогда государыню о помиловании.
Долго волновались и говорили выборные. Снова и снова перечисляли все невыносимые трудности жизни под властью Базилевских. Упрашивали Косовского не судить строго, не губить людей понапрасну. И после нескольких дней разговоров уверились, что выдача нескольких людей как преступников – единственное спасение. Будут наказаны эти несколько, – и правосудие удовлетворится. Наказание немногих освободит Турбаи от переселения. Ценою выданных жизней будут куплены воля и прощение для всех остальных.
С этим они и вернулись в Турбаи.
XIV
Сухой, душный занялся день. Безветренный воздух был зноен и глух. На западе, у краев земли, клубились смутные, мглистые облака. В полях вызрела, побелела рожь. Кое-где уже поднялись среди золотистого моря колосьев первые пробные копны. Настала горячая пора жатвы, когда каждый день дорог, когда нужно спешить всеми силами во-время убрать хлеб. Но тихи и безлюдны – пусты были турбаевские поля. Темной тенью вошло в село страшное: надо выдать своих, близких, живых людей на расправу, на муки, на избиение, быть может, на казнь… Кого выдать? Кого выбрать на верную погибель?..
Разрозненными кучками стоял народ около хаты атамана Цапко. В растерянности многие топтались среди улицы и возле своих хат. Тяжело, жутко вырастал день. Почти не было слышно разговоров. Как говорить о смерти? На кого указать? Угрюмо горели глаза казаков. Темны, хмуры были бабы, присмирели дети, – беда подавляющей стопой наступила на грудь каждому.
И вдруг, среди гнетущего безмолвия, встал с завалинки дед Грицай, белый, сухонький старичок, подошел медленными шагами к атаману, сказал просто:
– Пиши меня, Трохиме.
– Куда? – не понял Цапко.
– Согласен за громаду, за мир пострадать. Пожил. Довольно. Показывай, что я убийца, если им непременно крови нашей нужно…
Стало нестерпимо тихо. Никто не взял пера, никто не записал деда Грицая, но, когда он отошел от атамана и снова опустился на завалинку, все посмотрели на него как на покойника. И уже тусклым жарким шопотом, черным ветром полетела эта весть от хаты к хате.
– Эх, пропадать, так с треском!.. – зло топнул ногой и плюнул Васька с гребли, удалой, бесшабашный парень, затейщик на погулянках, частый гость красноглазовских шинков. – Я же их, окаянных, действительно убивал! Раз дед Грицай идет добровольно, я тоже не отказчик. Гони, атаман, и меня чертям в зубы!
Васька с ухарской мрачностью достал из кармана широчайших штанов трубку и закурил, окутываясь едким дымом.
– Яша, – позвал он через минуту, уловив на себе пристальный колеблющийся взгляд своего закадычного дружка Яшки Голоты. – Давай вместе покатимся. Ты же бил?
– Ну?..
– Вот и все. Вместе били, вместе гуляли, вместе котам на потеху пойдем. А? Пусть об нас хоть девки поплачут!
Посмотрел Голота на атамана, посмотрел на громаду, окинул взглядом соседние хаты, переступил с ноги на ногу:
– Ладно. Пусть будет так.
– Вот это друг!.. – крепкой горячей рукой обнял его Васька с гребли. – Теперь нам Павлушку Нестеренка уговорить, и наша компания готова: хоть сейчас в поход.
Черными, большими, страшными стали глаза у Павлушки: тут же, во дворе, стоял парень. Опустил он ресницы. Впились, вонзились глаза в землю. А в сердце огнем полоснуло: «Устя!..» Уговорился он с ней пожениться после Покрова. Сколько теплых разговоров о будущей жизни короткими весенними ночами было! Сколько ласковых слов нашептала она ему о счастьи… Молчал Павлушка. Казалось, что вокруг него какие-то стены раздвинулись, стал он на виду у всех, выделенный, вытолкнутый, видный со всех сторон.
– Нет, хлопцы, не троньте моего Павлушку… – тихо и очень глухо сказал в отдалении его отец Петро Нестеренко.
– А что? – медленно повернул Васька голову и уставился хмуро.
– Не троньте… Верно: все знают, – он тоже убивал. Да и кто не убивал? Так… Но у него жизнь начинается. Лучше я с вами пойду.
Заплакала, забилась, запричитала где-то у ворот Нестеренкова баба. А Петро был очень бледен и тих. И, как бы оправдываясь, добавил:
– Здоровье мое стало слабое. Все равно не прошкандыбаю долго…
Жгучим, саднеющим гулом шли по селу имена добровольно вызвавшихся.
С Хорольского заулка, от кузни, приплелся больной, хрипло кашлявший Прищепа, иссохший от своей неотвязной многолетней сухотки, и, безнадежно махнув рукой, задыхаясь, сел рядом с дедом Грицаем на завалинку:
– Берите и меня, пока смерть не забрала. Для счету…
Потом вызвались бездетные вдовцы – Келюх, Дремлюга, Марченко и молодой парень Степура.
– Келюх, – послышались робкие отговоривающие голоса, – зачем ты сам в огонь лезешь?… Не ходи.
Но взволнованно и обреченно посмотрел Келюх.
– Как же? Ну, ты иди… Раз приходится выкуп за змеиную кровь давать, значит, надо кому-то итти. Нет, что же… Дело мое одинокое, бобыльское…
Горечь, которой не было сил сдерживать в груди, толкала людей на жертву за село: казалось, еще час-два такого напряжения – и уже вереницей будут вызываться добровольцы.
– Довольно! – крикнул Колубайко. – Будет с них. Зачем народ переводить зря?..
– Довольно!.. – точно очнулась, зашумела, задвигалась громада.
– Давайте лучше так сделаем, – продолжал Колубайко. – У нас перед убийством много молодежи в бега пошло. Вот их как убийц и покажем. Будто испугались наказания и скрылись бесследно. Кто может теперь проверить, что они раньше убежали? А список с ними будет большой…
– Правильно, правильно… – облегченно вздохнула громада.
– Гарась убежал, – стали вспоминать.
– Журба.
– Муха.
– Даниляк.
Насчитали десять человек.
Вечером началась гроза. Ослепительно вспыхивали молнии, и глухо урчал гром бесконечными потрясающими гулами. Но дождя не было. Сухо блистали огромные просторы то синего, то фиолетового света. Грохот с неба скатывался за дальние, невидимые во тьме края горизонта и сотрясал землю тяжелыми толчками. От грозы еще тревожней и безысходней было на селе…
Утро встало пасмурное, серое, в глухих низких облаках. Все село вышло за околицу провожать отдающихся в пасть беспощадного закона.
«За громаду, родные, страданья принять готовятся. Хотят вольность и право казацкое нам спасти», – с тяжелым чувством думал каждый.
В чистых белых рубахах, как перед смертью, шли девять человек среди огромной толпы. В поле, за греблей остановились, – начиналась узкая дорога между волнистых стен спелой ржи.
– Простите нас, если кого чем обидели!.. – поклонился дед Грицай.
И за ним на все стороны поклонились остальные.
– Нас простите! Нас… – зашумели горькие, вспыхивающие голоса.
– Спасибо вам, браты! Спасибо. Сердцем говорю: век не забудем, – обнимал и целовал каждого атаман Цапко. – Все село, внуки и правнуки почитать вас будут. Не выдавайте никого. Держитесь крепко!..
– Не выдадим. Пока сил хватит…
И вот отделились, тронулись девять человек. Уменьшались, уплывали длинные белые рубахи. Пошли с ними и два назначенных провожатых с списком. Громада стояла неподвижно. Волны золотистой ржи скоро скрыли, заслонили фигуры ушедших.
Глухо плакала Нестеренкова баба. Бледен и подавленно нем был Павлушка.
XV
Сурово, злорадно, ненавидяще-враждебно встретило екатеринославское наместническое правление турбаевских казаков. Робкой кучкой, будто странники, идущие на богомолье, переступили они через порог высокой канцелярии, а там уже пошел перепархивать от стола к столу острый слух: «Убийцы Базилевских… Смотрите, смотрите, какие злодейские рожи»…
Доложили Коховскому. Вышел он нервными мелкими, шажками, близоруко прищурился и закричал тонким надменным голосом:
– Почему девять? Где остальные?.. Ведь я же сказал, – двадцать!..
– Так что… ваша светлость, остальные в бегах… скрылись неведомо… – стали объяснять провожатые.
– Что-о? Убежали?.. Как же вы вели их? Где ваше оружие? Головы поснимаю! Арестовать их! Заковать в кандалы мерзавцев!..
Моментально солдаты схватили турбаевцев, вывели во двор, загнали в большой затхлый каменный сарай, надели на них тяжелые железные наручники и ржавые ножные кандалы.
– Да мы не убийцы! Что вы делаете? Мы только провожатые… – плакали двое и указывали на список, который не успели сдать.
Только на другой день разобрались в канцелярии в списке, и провожатых освободили. А девять назвавшихся убийц, по распоряжению Коховского, были отправлены по этапу в Градижск, где в нижнем земском суде шло дознание об убийстве.
Тяжелы кандальные цепи, не мил свет белый на степных дорогах, в духоту, в жару, в пыль, когда железо нестерпимо едко раскровянит ноги, когда сил нет итти – и в глазах черными пятнами кружится поле и небо, а спины и плечи ноют от ударов солдатских пищалей. Не дошел Прищепа до Градижска, не одолел худым, исхарканным сухоткой телом трудного пути: на третьем перегоне упал, захрипел кровавой пеной изо рта и умер – погас, точно свечной огарок, сбитый пинком ноги с своего места. Тут же, в степи, среди сиротливых просторов закопал его конвой – и погнал остальных дальше.
Глухими высокими палями – заостренными сверху, плотно уставленными бревнами – окружена была градижская тюрьма, старая, ветхая, словно змей-горыныч, с незапамятных времен поднявшаяся своим страшным частоколом на краю маленького, захудалого городка. Стены тюрьмы почта развалились: сгнили, затрухлявились, потемнели. Чтобы поддержать их и не дать рассыпаться окончательно, вкопали снаружи толстые дубовые подпорки. Так и стояла тюрьма неуклюжей раскорякой, ногастым пауком, будто лохматый разбойный калека на костылях.
– Да мы же эту лешеву хибару в тар-тарары опрокинем! – шепнул тихо Дремлюге Васька с гребли, окинув загоревшимися глазами страшную постройку.
Но внутри, на изъеденных крысами, прогнивших полах, в решетчатых тесных застенках, дремали старые, еще от времен царя Петра и его отца Алексея Михайловича, скрипучие деревянные станки – орудия муки и пыток. И потемнела, поникла бесшабашная бодрость Васьки с гребли: горьким стоном застонал, заметался он белым телом на скрипучих станках.
Начались допросы. Медленно, не торопясь, шло дознание. Вызывали турбаевцев по одному. Задавали вопросы, точно ядовитым жалом до дна прощупывали, когда не добивались тех ответов, каких ждали, – пускали в ход пытки.
Нечеловеческие крики и вопли бились под низкими потолками. Всаживали под ногти гвозди, припекали каленым железом пятки ног, поднимали на дыбу, подвешивали вниз головой, раздергивали суставы рук и ног. Когда деда Грицая за упорное молчание подвесили за ноги, и, наливаясь кровью, заболталась у пола его седая измученная голова, он просил и молил о пощаде.
– Называй всех смутьянов, всех вожаков, всех убийц! Ну? – зыкал на него стряпчий, ведший следствие.
Но молчал дед Грицай, давил в груди своей готовые вырваться имена, – и его оставили висеть до утра.
Ночью от натуги и невероятного прилива крови у старика лопнули и студенистой слизью вытекли по капле глаза. Утром его сняли в безжизненном состоянии. Лишь на другой день он пришел в себя с пустыми кровавыми впадинами вместо глаз.
После этого случая начались оговоры. Под пытками казаки называли имя за именем турбаевских жителей, часто самых старых стариков, как заговорщиков против Базилевских и как убийц. И злорадные чиновничьи перья записывали, нанизывали, подсчитывали.
К осени градижский суд уже доносил Коховскому, что указано еще пятьдесят девять человек и в том числе атаман Цапко. Коховский приказал вызывать указанных по-двое, по-трое в Градижск, будто бы в качестве свидетелей, и нещадно сажать в тюрьму.
Пытки продолжались. Вновь поступающие турбаевцы от нестерпимой муки оговаривали тех, кто остался в селе, и списки, строчимые тюремщиками, росли, наполняясь аккуратной затейливой вязью все новых и новых имен.
Атаман Цапко заболел: ему начали являться какие-то привидения, он целыми днями кричал, плакал, буйствовал, но никто из властей не хотел верить, что он сошел с ума: считали это притворством. Суд с тупой радостью сообщал Коховскому, что последние арестованные могут назвать еще пятьдесят девять совершенно новых убийц, а может быть, и неограниченно больше.
Даже солдаты, охранявшие тюрьму, приходили в ужас от тех жестокостей, которые совершались за прогнившими старыми стенами! Тюремный надзиратель Пыльников, подкупленный подосланными людьми из Турбаев, согласился устроить им тайное свидание с заключенным Келюхом: село, взволнованное новыми арестами, понимало, что происходят оговоры, и хотело воздействовать на сидящих в тюрьме сельчан.
Ночью, когда все спали, Пыльников вызвал Келюха во двор. Было очень темно. Вверху невидимо летели тяжелые декабрьские облака. Густыми порывами дул шумный холодный ветер. В тюремной конюшне, куда Пыльников подвел Келюха, сидел заранее спрятанный там новый турбаевский атаман Кузьма Тарасенко.
Келюх даже задрожал от неожиданной радости. И сам первый заговорил:
– Не вините, не кляните нас! Пусть простят на селе. Слезно просим. Так пытают, сил нет вытерпеть. И отца родного, и мать выдашь… На кого угодно показывать станешь, только не мучьте, пожалуйста.
– Сильно больно?
– А, господи… – дергающимися губами мучительно проговорил Келюх. – Как мы живы до сих пор, не знаю!
Помолчал Тарасенко. Трудно и взволнованно в темноте вздохнул. Прошептал едва слышно:
– Бежать надо.
– Бежать, – согласился Келюх так же тихо. – Но как? Ведь стража кругом…
– Это наше дело. Не беспокойся. Спроси там всех потихоньку. Если не боятся сделать попытку, мы пришлем из села таких людей, что к чортовой матери разнесут эту гнилушку.
– Да зачем спрашивать?.. – горячо припал к самому уху Келюх. – Босые по морозу на край света пойдем, только вызвольте.
– Ну, значит, и предупреди. А мы будем готовиться.
Между тюрьмой и Турбаями установилась почти непрерывная связь. Словно светлый огонь прошел до людям: тюрьма жила нетерпеливым ожиданием освобождения, головокружительными надеждами избавления от мук.
Наконец все было условлено и приготовлено.
В ночь на 2 февраля 1793 года ватага человек в сорок турбаевской молодежи, с Павлушкой Нестеренко во главе, подкралась к тюрьме, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы не заметили часовые. Необъятная тьма несущимся ветровым морем гудела вокруг. Метель широкими снежными взмывами хлестала с долей и неслась через глухой тюремный частокол, через город – в холодные просторы степных сугробов. Медленно и зябко прохаживались наружные часовые с пиками в руках, пригибая закутанные головы от ветра.
Вдруг в тюрьме, как было условлено, погас свет. Раздался пронзительный свист Павлушки. Прижавшиеся к земле фигуры кинулись на часовых, набросили на них сзади мешки и в одно мгновенье связали, заткнули им рты. Молодые парни уже ломали, выворачивали подгнивший частокол. Бревна трещали, рушились. Турбаевцы, как дикие кошки, бросились на тюремное здание, откуда несся глухой гул; там, внутри, шла клокочущая ожесточенная борьба. Заключенные выламывали двери и окна, избивали и вязали внутреннюю стражу, срывали замки, освобождали одну камеру за другой. Скоро вся охрана была смята, скручена, обессилена, пики и пищали у нее отобраны – и заключенные лавиной, безоглядным роем устремились в ночь.
Для турбаевцев были заготовлены кожухи, свитки, шапки, сапоги. На бегу, на снегу, они одевались и поспешно исчезали по заметенной дороге, во мраке и мгле сыпучей широкой метели.
XVI
Неумолкающим гневным говором, с проклятиями и стонами, точно костры, горели в Турбаях рассказы бежавших о градижской тюрьме. Ночи были длинны, темны – и у тех, кто перенес своим телом жуткую боль пыток, слова лились как исповедь, чтобы поняли родные и соседи, что страданья были свыше сил, что не оговаривать не в состоянии был никто, несмотря на честность и силу душевную.
Среди этих пламенных рассказов много потрясающего прокатилось по селу о помешавшемся атамане Цапко: в ночь бегства он отбился от турбаевцев, заблудился, захлестанный метелью, в снежных сугробах и замерз в степи. Его тело, объеденное волками, нашли через неделю недалеко от села. На похороны Цапко собралась вся громада – от мала до велика, – и в подавленной тишине страшный гроб засыпали мерзлыми комьями земли.
Село угнетенно затаилось. Спокойной жизни не стало. Казалось: несутся Турбаи на льдине в половодье – в какую-то неотвратимую пучину. А в Градижске и в Екатеринославле в это время ошеломленные власти не знали, как беспощадней и злее наказать бежавших. Суд в переполохе не сразу донес Коховскому о разгроме тюрьмы: только через несколько дней выехали перепуганные земский исправник и стряпчий для личного доклада наместнику. Коховский был вне себя от бешенства, стучал кулаками по столу, ругал исправника, стряпчего и весь градижский суд за слабость, за недостаточную предусмотрительность, за бестолковую охрану. Он немедленно отправил в Петербург нарочного с подробным донесением о событиях, прося царицу разрешить ввести в Турбаи воинскую силу для расправы. Царица разрешила – и 16 апреля подписала об этом специальный указ на имя Коховского.
Через месяц, в середине мая, когда нарочный с указом вернулся в Екатеринослав, Коховский командировал в Турбаи батальон Бугского егерского полка и две сотни донских казаков под командой секунд-майора Карпова. Карпов был известен в наместничестве еще со времен Потемкина своими лихими кутежами и неслыханными охотами на нищих. Перед проездом царицы ему было поручено изгнать из пределов Новороссии и Крыма всех нищих, так как Екатерина приходила в гнев от одного их вида. Карпов с невероятной рьяностью принялся за дело, захватывал нищих поодиночке, накапливал до нескольких десятков, затем выгонял в поле, заставлял бежать и спускал вдогонку своры борзых собак. Остервенелые псы иногда загрызали насмерть бегущих в трепыхающихся лохмотьях людей. И после нескольких недель такой травли нищие действительно исчезли, а Карпова прозвали приятели в шутку – «нищегоном таврическим и новороссийским».
– Соблюдайте строжайшую тайну, майор, – наказывал Коховский Карпову перед отправлением.
– Слушаюсь.
– Помните: никто не должен знать на селе, зачем вы пришли, иначе вспыхнет кровопролитный бунт. Действуйте хитростью. Вот вам список отъявленнейших вожаков, которых нужно выловить во что бы то ни стало. Добавьте к списку ихнего теперешнего атамана. Придумайте, что хотите, но вожаки должны быть здесь. Иначе я не позволю вам вернуться.
– Понимаю. Будет исполнено.
– Еще раз повторяю: тайна, хитрость, распорядительность и беспощадность.
– Слушаюсь…
Пахучими белыми кистями зацветали в садах около хат акации, когда на полевой дороге, за греблей через Хорол, показался под Турбаями отряд секунд-майора Карпова. Отряд остановился на привал и выслал к атаману Тарасенко двух солдат-провиантщиков.
– Не возьмутся ли ваши бабы хлеба нам для отряда напечь? – спросили они. – Мы деньгами платим, не на дармовщинку.
– А что за отряд? – подавляя глухую тревогу, поинтересовался Тарасенко. – Куда путь держите?
– Да в Гадяч – на маневры. У нас что ни лето, то маневры.
– Что ж, можно будет… – успокоившись, ответил Тарасенко. – Сейчас пошлю оповестить. Почему не взяться – возьмутся.
– А нельзя ли пока печеным разжиться? Нам бы вот на обед, на ужин да на утро, пока свежий поспеет.
– Можно.
– Так пусть несут прямо в лагерь, кто хочет. Там и деньги казначей заплатит.
Потянулись бабы с караваями в лагерь за греблю, понесли под вышитыми узорными полотенцами крутые полные хлебы. И сейчас же возвращались с деньгами;
– Хорошо платят, смотрите: новенькими гривнами дают! – рассказывали встречным. – Говорят, скот покупают тоже. Будто бы сходится их там, у Гадяча, целая армия – и вот в провианте, нужду имеют.
Потом пришел к атаману вестовой.
– Командир просит тебя притти в лагерь: насчет пастбищ, подвод и дров поговорить надо.
– Гаразд. Приду.
Около хаты Игната Колубайки тоже появился солдат.
– Говорят, у тебя скот продажный есть? Зайди-ка к командиру. Может, продашь или подряд на поставку возьмешь.
С таким же предложением другой солдат стучал в окошко к Грицаю.
Через час, в надежде на заработок или на выгодную продажу чего-нибудь, в лагере собралось много народу. Когда секунд-майор путем окольных расспросов и разговоров уверился, что среди пришедших есть все указанные Коховским лица, он внезапно скомандовал предупрежденной заранее роте егерей:
– Окружай!..
Солдаты с пиками наперевес кольцом охватили, турбаевцев, сжали, стиснули их в тесную кучку. Немедленно было выхвачено десять наиболее влиятельных на селе людей. Среди них попали: Тарасенко, Колубайко, Грицай, Келюх, Степура, Васька с гребли и Павлушка Нестеренко. Их связали как пленников, кинули на пустые обозные телеги, крепкими веревками прикрутили к тележным нахлесткам. Отряд сейчас же снялся и ушел в сторону Градижска, где к тому времени старую тюрьму починили, поправили, укрепили – залатали крепкими дубовыми заплатами.
Турбаи были обезглавлены. Плач стоял в улице.
Растерянность и страх за будущее вошли в каждую хату.
Сергунька горел как в лихорадке. Мать его безутешно плакала, а он только побледнел и сжался да глаза опускал в землю от пылающего в них страдания и острого затаенного огня.
Черные дни тревог пошли, понеслись над селом.








