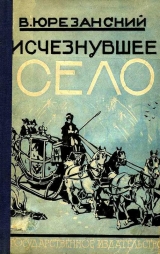
Текст книги "Исчезнувшее село"
Автор книги: Владимир Юрезанский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
XI
Едва зажгла заря алый свет над полями, едва крепкой прохладной синью и высотой раскрылось утро, как турбаевцы были уже на ногах. Снова собрались все около хаты атамана Цапко. Тысячи мыслей, тысячи планов, предположений и догадок о том, что надо делать дальше, передавались из уст в уста – в тревоге и торопливости. Все знали твердо: будет расправа. Расправа жестокая, неслыханная, беспримерная. Как предотвратить ее, чем умилостивить властей, как склонить на свою сторону беспощадные карающие сердца тех, кто будет решать турбаевскую судьбу?..
Постановили обратиться к самому сильному в государстве человеку, к «тайному мужу» царицы – к Потемкину, который состоял в то время новороссийским генерал-губернатором. Постановили как можно скорее добраться до него, чтобы выхлопотать снисхождение. Не на местных же властей надеяться: ведь те поголовно подкуплены Базилевскими и готовы будут с враждой и злобой опустошить Турбаи, подвергнуть жителей самым чудовищным и безжалостным наказаниям.
– Первое дело, сыны и братья, это, чтобы не растеряться, – говорил столетний дед Кондрат, волновавшийся не менее других. Его редкие седые волосы развевались на ветру, худые, костлявые руки упирались на темный калиновый посошек. Он был похож на пророка, пришедшего к своему народу в час невзгоды.
– Пока человек не растерялся, он еще может из любого несчастья выкрутиться. Но раз растерялся, оторопел, – шабаш, крышка, конец. Тут уж никакого спасенья не жди.
Турбаевская громада сразу же проявила организованность и порядок. Немедленно были собраны все вещи Базилевских, разбросанные и разнесенные из господской усадьбы. К вещам, к погребам, к амбарам и кладовым, – всюду были поставлены караулы.
– Пусть ни одна соринка не потеряется. Мы же не грабители, – распоряжался атаман Цапко.
Потом вывели из заключения арестованных властей. За ночь чиновники осунулись и посерели. Выходя из темного амбара, они думали, что настали их последние минуты, что разгневанное село предаст их пыткам и казням, – и снова умоляли о пощаде.
– Громада дарит вам жизнь, хоть вы и не стоите того по подлости вашей! – громко и зло сказал атаман Цапко. Голос его звучал начальнически строго.
– Пишите постановление, какое вы с самого начала должны были написать, без вчерашнего несчастья. Пишите, что суд признал всех турбаевцев вольными казаками – по старине, кровному праву и по указу сената. Постановление суда отметьте вчерашним числом… Затем вы должны нам подписать тридцать казенных бланкетов с пропусками на свободный выезд из Турбаев. Мы вас не тронем: убирайтесь ко всем чертям, чтобы вашего поганого духу здесь не было. Но перед тем, как уйти отсюда, оставьте удостоверение, что все бумаги выданы вами добровольно, без всякого утеснения или принуждения с нашей стороны.
Чиновников привели в судейскую избу, развязали посиневшие, затекшие руки. Судьи робко, бочком расселись на вчерашние места и молча, поспешно, старательно начали писать постановление. К постановлению приложили большую сургучную гербовую печать.
Турбаевцы потребовали также, чтобы суд приложил свои печати ко всему имуществу Базилевских, которое громада временно принимала под свою охрану. Судьи с угодливой готовностью ходили по амбарам, по кладовым, по погребам и всюду накладывали печати.
Затем громада выбрала ходоков к Потемкину. В ходоки попали почтенные седые старики. Их снабдили гербовыми пропускными бланками, подписанными судом. Ходоки через час вышли из Турбаев.
Тем временем собрали разбежавшихся дворовых и приказали им взять из помещичьего дома трупы Базилевских, отвезти в село Остапье, где и похоронить в фамильном склепе. После этого отпустили на все четыре стороны чиновников:
– Проклятые ваши души: сколько горя-злосчастия вы нам понаделали тут! В Турбаи больше вовеки не смейте показываться. А если узнаем, что вы против нас будете показания давать, начальство навинчивать, уничтожим все отродье ваше, как мух. Вы от нас нигде не спрячетесь: со дна моря достанем! Помните это!.. Не мы, так дети наши с вами разделаются.
Судьи, советник, стряпчий и офицер молча, трусливо оглядываясь, кучкой пошли по селу, все ускоряя и ускоряя шаг. Толстая туша исправника Клименко едва поспевала и плелась последней. Они не верили своему счастью, не верили, что уходят живыми, шаги их были напряженно торопливы, словно турбаевская земля обжигала им пятки.
Затем громада вынесла из клуни солдатские ружья, переломала и разбила их в щепы. Кто-то разложил посреди улицы из обломков костер. Огонь быстро охватил сухие куски ружейных лож и загудел жарким полыхающим треском.
Тогда Цапко, окруженный казаками, отпер тяжелые ворота каменной воловни, где сидели связанные егеря.
– Ну что, будете воевать за панов? Будете стрелять в нас? Саблями рубить? – сурово оглянул он сбившихся в кучу солдат.
Те просительно зашумели, разноголосо, вперебой, все сразу:
– Да разве мы собаки?
– Нам никто ничего не объяснил…
– Мы люди подневольные!..
– Вовек против вас руки не поднимем!
– Помилуйте!..
Цапко приказал развязать егерей.
– Ступайте, куда хотите. Вы нас не тронули, мы вас не обидим.
Поклонились егеря атаману и казакам:
– Спасибо вам крепкое! Спасибо.
Заволновались обрадованно, зажужжали, высыпали на улицу. А один из них, с большими серыми глазами, пылко обращаясь к другим, воскликнул:
– Братцы! Бежим от солдатской каторги на Дон, на Понизье или в дикие горы кавказские. В полку нас не помилуют. Забьют, засекут шомполами!
И тут произошло такое, чего турбаевцы совсем не ожидали. Егеря со злобным остервенением стали срывать с себя треуголки, мундиры, пояса, бляхи, бросая все это в костер. От сукна и войлочных валеных шляп повалил густой смрадный чад. Ветер понес его белыми размашистыми космами вбок от села.
Егерям дали переодеться в старые домотканные обноски. Через полчаса пестрые торопливые фигуры, в которых ничего уже не было солдатского, группами по два, по три человека вышли за околицу. Скоро они скрылись, затерялись в зелени убегающих к горизонту хлебов.
XII
Как дым от пожара летит над степными просторами, так облетела весть о турбаевских событиях всю Полтавщину. Помещики всполошились, но временно стали мягче обращаться с своими подданными, чтобы не довести их до непоправимого ожесточения, подобно Турбаям. Крепостные же крестьяне и казаки, которых казацкая старши́на постепенно переводила на крепостное положение, лишая воли, тайно шептались между собою и с надеждой ждали таких же взрывов и в других местах. Власть стала лютой и злой, подозрительно присматривалась к малейшим признакам непокорства. Начался сыск, доносы.
Турбаевские ходоки были на второй же день арестованы на шляху, у переправы через Ворсклу, и отправлены в градижскую тюрьму. В ту же тюрьму вскоре был посажен арестованный в Лубнах Осип Коробка. Его судили, обвинили в подстрекательстве к бунту и приговорили к наказанию плетьми на месте преступления, то-есть в Турбаях. Но ехать туда для исполнения приговора никто не решался, и Коробка оставлен был сидеть до общего суда над турбаевцами.
Остапьевский помещик Петр Федорович Базилевский, похоронив братьев и сестру, поднял невероятный шум. Он немедленно собрался в дорогу и поскакал в Петербург с огромной жалобой к царице. Екатерина передала дело всесильному вершителю судеб государственных – Потемкину. Базилевский повернул обратно и вместе с другими братьями стал осаждать любимца царицы многочисленными прошениями о розыске и наказании убийц, и даже об уничтожении села Турбаи.
Потемкин, будучи человеком властным, стяжательным и неостановимо жестоким в проведении мгновенно возникавших широких планов, решил воспользоваться этим случаем для увеличения своего собственного богатства: он хотел выкупить турбаевцев у Базилевских казенными деньгами и переселить на свои южные заднепровские земли.
Но начался дунайский поход против турок. Потемкин как главнокомандующий отправился в действующую армию, в Бессарабию, и турбаевское дело осталось в неопределенном положении. Наследники убитых, четыре брата Базилевских, засыпали правительственные и судебные учреждения жалобами, пустили в ход и подкупы, и связи, и всяческие иные средства, чтобы добиться строжайшей кары для Турбаев. В конце концов своей неотступной назойливостыо они надоели всем, – и разбирательство преступления пошло обычным в те времена медленным ходом.
Но старший из Базилевских, полковник Петр Федорович, был неутомим: он придумывал и изобретал способы беспощадной, самой жгучей и злой мести, какую можно было бы пустить в ход, не дожидаясь официальной расправы за убийство.
Однажды в Остапье на барский, двор пришел вертлявый человек и просил доложить барину, что хочет поговорить с ним по нужнейшему делу. Человек был невысок ростом, боек, скор на слово и огненно рыж. Особенно ослепительной, но какой-то неверной, жуликоватой казалась клочковатая размашистая борода. Вселяли необъяснимое беспокойство и его голубые бегающие глаза – мутные, мышиные – в вывороченных, кровянистых, как сырое мясо, веках. Когда вошел Базилевский, человек суетливо сорвал с головы шапчонку и угодливо закланялся:
– Осмелюсь побеспокоить, я казенный откупщик по питейному делу, Красноглазов, – сами изволите видеть, прозвище по причине глаз моих. У меня ваша милость, есть планец, вроде изобретения – свести до нитки село Турбаи, пролившее братцев ваших родную, единоутробную кровь. Если пожелаете, буду служить вам верой и правдой, на полную силу мозгов моих.
Полковник Базилевский встрепенулся, присмотрелся пристально, зажегся привычным злорадным чувством, увел Красноглазова в кабинет и начал подробно расспрашивать про план. Неутихающая жажда мести жила в нем, как тлеющий уголь, он с пламенным упорством лелеял в себе мечту об уничтожении Турбаев.
—…Турбаевцы, ваша милость, держатся громадой, кучкой, семьей, надо их разбить, надо вражду и распрю там посеять, чтобы они сами себя съели, – торопливым, тусклым, ехидно вкрадчивым тенорком затараторил Красноглазов. – Вы спросите, каким средством? Есть такое! Есть. Самое сильное, – сильней его не придумаешь: водочка! Она, матушка, из них зверей поделает, доносам-ябедам научит и в нищету обратит.
– Что же ты, накачивать их будешь, что ли?
– Зачем накачивать? Вы только доверьтесь, ваша милость, а я уж сумею, я уж такие сеточки да силки расставлю, – от меня не уйдут. Будьте покойны. Сначала, благословясь, один шинок открою, приманю, потом – другой, а потом, глядишь, с божьей помощью, и третий. Куда ни пойдешь, – везде шинок, везде хмельное веселье. Вот тут-то и пойдет дым коромыслом.
Долго совещался Базилевский с откупщиком, долго уговаривался об условиях. Наконец согласились, сладились, и Красноглазов отправился в Турбаи.
И вот, словно грибы после дождя, один за другим выросли на селе три шинковых дома, выросли незаметно среди мглы и смуты трудных, глухих дней. Вино полилось рекой, по исключительной дешевке, отпускалось в кредит, без денег, в счет будущих урожаев и заработков. Началось беззастенчивое спаивание народа. А цель у Красноглазова была своя, тайная, корыстная, приобретательская: он хотел завладеть теми огромными богатствами, какие остались после убитых Базилевских и хранились громадой в кованых сундуках, в складах – под печатями и замками. Эти богатства, словно клад, не давали ему покоя. Постепенно, вкрадчиво, с видом доброжелательского недоумения, стал он среди хмельного шума и гама в шинках заводить тихие речи с теми из пьющих, кто победнее да погорячей нравом:
– Для кого вы бережете панское добро? А?.. Неужели прямо в рай за бережливость норовите угодить?.. Ах, чудаки-святые! Ведь приедут судьи, – все отнимут, все отпишут наследникам…
Речи эти были как яд. Они возбуждали сомнения, волновали, озлобляли людей против атамана, против тех, кто в вихре событий выдвинулся стойкостью, рассудительностью, бесстрашием. Некоторые начали громко высказывать недовольство:
– Чье же это добро в панских сундуках? Разве не наше? Разве не нашими мозолями, не нашим потом нажили себе все это, Базилевские?
Им отзывались другие, вспоминавшие еще не исчезнувшую горечь обид:
– Девять лет мы работали на кровопийц наших… За что? Хоть копейку, хоть грош какой-нибудь расколотый за это видели?..
– А сколько горя-издевательства натерпелись…
– Помните, как они скот наш отбирали, когда нас на крепостную линию стали гнуть?
– Грабили, подлецы, как разбойники! Кто лес наш за греблей вырубил? Кто сено забрал, что в копнах уже на хорольском поймище стояло?..
Все больше и больше становилось сторонников раздела помещичьего имущества.
– Да мы же сами себя погубим, если панские деньги, как дураки, в сундуках хранить будем! Я спрашиваю: властей надо подмазывать, не скупясь и ничего не жалея, чтобы они нашему делу легкий оборот дали? Суду за снисхождение нужно заплатить?.. Чем мы заплатим? Какими достатками? А тут, можно сказать, несметные тысячи у нас же в руках, в своем кулаке зажаты, и мы их, как собаку на сене, держим. Что же это, правильно?.. Да если с умом взяться, если хороший ход найти, – мы за эти денежки могли бы так дело повернуть, что совсем никакого суда не было бы. За такие тысячи и Потемкина купить можно…
Но атаман и громадянские главари стояли на своем: надо доказать правительству, что турбаевцы не разбойники, не воры, не грабители, что они ищут правды, что только наглые издевательства и притеснения, как в черную яму, толкнули их на кровопролитие.
Тогда ночью, осенью, молодые ребята напали на погреб, где хранились иностранные вина, разбили дверь и перепились вдребезги. Иностранных вин оказалось мало: на следующую ночь был взломан винокуренный амбар, – и пьянство шумом, гульбой, криками, бесшабашными песнями, нелепыми драками на целую неделю захлестнуло село.
Однако случилось такое, что переломило последнюю стойкость турбаевцев.
Из Киева донеслись слухи, что какие-то ретивые начальники из наместнического правления собираются до суда послать в Турбаи воинскую команду для поголовной порки жителей. Тогда атаман Цапко отступил от своего первоначального плана и в сентябре месяце 1790 года два раза в присутствии громады доставал из кладовых деньги. Эти деньги выборные старики по осенней распутице дважды переносили в Киев и пересыпали в чьи-то бездонные, ненасытные карманы.
Так прошло два года после убийства Базилевских.
Постепенно турбаевцы стали уже успокаиваться, думая, что, может быть, высшие власти действительно поняли, что именно Базилевские и подкупленный ими нижний земский голтвянский суд, выезжавший в Турбаи, своим поведением вызвали убийство. Рождалась надежда, что дело заглохнет, зарастет бурьяном канцелярской переписки и забудется, особенно после того, как крупная многотысячная взятка тяжело опустилась в недра наместнического правления.
Но, как на грех, произошел административный передел губерний, и Полтавщина с Турбаями отошла к новому – екатеринославскому наместничеству. Полковник Базилевский и его три брата с особым рвением начали донимать новое начальство бесчисленными жалобами и напоминаниями. Турбаевское дело вновь стало во всей своей остроте и, словно черная туча, жутко надвигалось на село.
Громада послала двух ходоков в Екатеринослав. Ходоки узнали там о происках и домогательствах-наследников Базилевских, требовавших снести с лица земли село Турбаи и даже самое имя это уничтожить, чтобы никто о нем не слыхал и не помнил. Узнали также, что будто бы Потемкин, назначая екатеринославским наместником своего приверженца Коховского, передал ему и турбаевское дело с наказом переселить село на дальние глухие земли – в безводную степь, которую он надеялся при помощи бесплатных рабочих рук превратить в жилой край. Итти к Потемкину, умолять о защите и о перемене решения оказалось невозможным, так как любимец царицы неожиданно умер где-то в бессарабских степях, – и его наказ подлежал теперь непременному исполнению.
Когда ходоки вернулись с этими вестями домой, село пришло в неописуемое волнение. Старая ржавчина озлоблений волной поднялась из глубины сердец. Снова вспыхивали гневом тысячи глаз, снова раздавались проклятия, снова в ожесточенном отчаянии сжимались кулаки.
– Весь род их подлый уничтожить надо. Искоренить дочиста, чтобы и следа не осталось.
В кипучем шуме собралась громада. Потребовали у атамана немедленно открыть все панские кладовые, коморы, погреба, каретники и амбары, чтобы разделить имущество между народом. Атаман сам признал:
– Нет нашей силы правду свою доказать. С этими людьми только кровью разговаривать нужно.
Забрали в приказную избу все деньги, векселя и документы, чтобы обеспечить средства на дальнейшие хлопоты, а с бесчисленных замков сорвали печати, двери кладовых распахнули настежь, – и все имущество Базилевских пошло громаде на раздел.
Целых шесть дней продолжался дележ. Распределили все, что только можно было взять. Шубы, платье, полотна, сукна, разную посуду, серебро, мебель, сбрую, кожу, хлеб, меха, солод, – до последней мелочи, до последней крошки богатое достояние рекой перешло на село.
Не забыли и самых зданий. С крыш срывали балки, стропила, доски. Стены, сложенные из бревен, раскатали. В доме сняли оконные рамы, ставни, двери, косяки. Простенки разбивали, разламывали, валили на землю, превращали в мусор. На седьмой день от имения Базилевских ничего не осталось, кроме изрытых груд камней, обожженной глины и щепок.
– Вот вам, собаки!.. Вы нашей гибели докапываетесь, – так мы же следов ваших не оставим на земле. Все гнездо ваше змеиное истребим.
В дыму бессильного горького гнева начались кутежи. Помещичье серебро, сукна, меха, ковры, шелка и другое добро в узлах, под полами свиток, в карманах и всякими иными способами потекло в шинки Красноглазова. Откупщик повеселел и в бойком возбуждении метался, как огненный петух: план его удался, цель осуществлялась. Он богател с каждым днем.
Зимой, на крещенье, умер столетний Кондрат Колубайко. Он высох точно мощи и перед смертью едва слышно предостерегающе и жалобно шептал тонкими морщинистыми губами:
– Сны вижу, сны… Пожары… Великие идут огни!.. Ох, пожары… Сердце мое болит, деточки! Тяжко… Сгорите вы… сгорите… Сергунька, где ты?
Сергунька после убийства Базилевских зимами жил дома. Он вырос, вытянулся, ему уже было четырнадцать лет. С наступлением весны и лета он уходил с Калинычем в степи: ходили от села к селу, от деревни к деревне, от хутора к хутору и пели под тихий рокот бандуры – слепой Калиныч теплым старческим голосом, Сергунька – глубоким чистым альтом. Получалось сильно, очень скорбно, веяло древностью, точно седые ковыли стлались: слушать их собирались целыми толпами. Сергунька уже знал почти все думы. И, когда похоронили пожелтевшего, вытянувшегося в гробу прадеда, еще крепче, еще теснее привязался к Калинычу.
Бродячая жизнь волновала его волей, просторами и теми особыми мыслями, которые так легко приходили среди степей. Он испытывал необыкновенные чувства, когда в каком-нибудь селе, сидя на завалинке, на солнце, Калиныч трогал струны и запевал, а он с особой проникновенностью вступал своим голосом, словно хотел влить в каждое слово свое трепетное, гулко бьющееся сердце. Слова жили, вырастали, летели птицами, рисовали огромные картины:
Ей да на синему мopi,
на бiлому каменi,
там сидiв сокол ясен-бiлозiрець!..
Низенько голову склоняє,
жалiбненько квилить-проквиляє,
на високе небо поглядає
що половина сонця-мiсяця похмарнила
та у тьму заступило…
Не гаразд на синему мopi починає:
зо дна моря хвиля уставає…
Он как бы ощутимо видел и море, и тучи, и ясного сокола на белом камне – и невольно мысль перекидывалась на родные Турбаи: казалось, тучи подавляюще наступают на село, готовы захлестнуть его своей чернотой и силой, а он, Сергунька, ясным соколом, белея крыльями, один вылетает против тьмы, чтобы не пустить ее, отогнать, отбросить…
Осенью, когда расползались от грязи полевые дороги, когда дожди и ветры нагоняли холодов, Калиныч и Сергунька, коричневые от загара, возвращались домой – ждать новой весны, новых походов.
В марте месяце 1792 года в Турбаи приехал наместник Коховский: именным указом царицы руководство расследованием убийства Базилевских было поручено ему. Он с опаской въезжал в село, о котором наследники убитых распространили далеко вокруг темную лихую славу. С Коховским в виде охраны скакал эскадрон конницы с пиками, в стременах, с саблями за поясами.
Стояли ясные весенние дни. Поля вспахивались под яровое. Сады обмазывались известью. Белились хаты к Пасхе. Всюду шло трудовое, заботливо-хозяйственное оживление, неустанная работа большого человеческого муравейника.
И Коховский был поражен, так как ожидал увидеть не мирное селение, а скопище разбойников, шайку одичавших, закоснелых преступников.
– «Да, тяжеленько им будет расстаться с этой благодатью… – думалось ему, когда кони гулко мчали карету вдоль широкой турбаевской улицы. – Разве можно об этом объявить? Убьют…»
– Выдайте зачинщиков, – говорил он громаде, – пусть кару понесут те, кто действительно виноват в зверском кровопролитии. Зачем вам всем страдать?
Но турбаевцы наотрез отказались и в оправдание твердили, как случилось несчастье:
– Никакого намерения к убийству мы не имели. Никаких зачинщиков не видели и не знаем. Нас доняли, замучили, истерзали издевательствами – довели до преступления. Мы все зачинщики. Все одинаково виноваты.
– Что вы вздор городите! – хмурился Коховский, внутренно чувствуя, что так именно события и произошли.
Но вслух строго кричал:
– Не может все село быть убийцами трех человек. Выдавайте преступников без всяких оговорок.
Турбаевцы клялись в правоте своих слов. Бабы плакали. Гул упрашиваний и причитаний стоял на площади.
– Мы люди. А с нами как со скотом обращались! Мы искали воли, которая нам по закону, по всем правам принадлежала, а откормленные барчуки, лежебоки, лентяи, в землю втоптать нас старались, всячески унижали, оскорбляли, насмехались. Ведь мы же жить хотим, а не в петлю лезть!
Плач, говор и возбуждение все шире разливались по площади. Коховский боялся, как бы это не вылилось в новую необузданную вспышку гнева, и, поднимаясь, заявил:
– Пришлите ко мне в Екатеринослав тридцать человек выборных. Здесь, с целой громадой, я ни о чем не договорюсь. Выбирайте немедленно и притом таких людей, которые бы знали все.
Подкатила карета – шестеркой, цугом, – лошадей не распрягали, они стояли наготове, тут же, на площади; закачались пики эскадрона – солдаты на всякий случай не сходили с коней, чтобы в любой миг быть в боевой готовности, – и Коховский уехал.
Сухие клубы пыли взнялись за отрядом.








