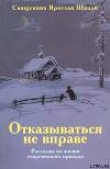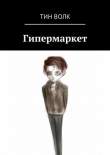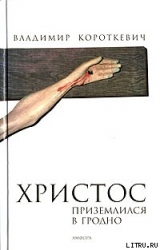
Текст книги "Христос приземлился в Гродно. Евангелие от Иуды"
Автор книги: Владимир Короткевич
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 31 страниц)
Глава 60
ВЕРА ФОМЫ
Если сильно захочешь, то сбудется всё:
Царство, бунт, любовь и житьё.
Баллада.
Фома видел всё, что видел Христос, хоть глаза его были залиты слезами. Он видел всё, потому что всё понимал. И он не мог больше. Он молился, мучительно призывая всю свою веру, которой у него было очень мало, и всё желание своё, которому не было предела.
– Чуда! Чуда! Не только я – все... Все хотят чуда! Пусть исчезнет с позорного этого эшафота! Пусть исчезнет! Пусть исчезнет!
Он до боли зажмурил глаза, до онемения стиснул волосатые, задиристые, грешные свои кулаки.
– Молю. Молю. Все молят. Пусть исчезнет. Пусть будет в полях. Среди добрых, среди своих... Пусть исчезнет из этого Содома! Пусть исчезнет!
И тогда ударил Перун.
Он ударил так сильно и страшно, что всех хлестнуло воздухом.
Фома раскрыл глаза. Над стеной, над тем, что когда-то было стеной, стояла страшная, чёрная с кровавым подбрюшьем, туча, и оттуда падали камни и тянулся на толпу, покрывая её, удушливый дым.
Но Фома смотрел не на тучу. Он смотрел на эшафот со сломанным крестом. Возле эшафота лежали палач и подручные. Лежали ничком и те, богато разодетые.
А на эшафоте никого не было.
Глава61
БЕКЕШ
...Нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем...
Второе послание к Коринфянам, 6:9.
Бекеш со своего контрфорса видел всё. Видел, как взрыв пороховых бочек вдребезги разнёс стену и обрушил её вовне, на склон, ведущий к Неману. Видел, как грохот и камни заставили всех, кто не ожидал ничего подобного – стражу, именитых и церковников на гульбище, – броситься ничком и как, пользуясь этим, какие-то люди рывком стащили Христа с эшафота и помчались через толпу узким проходом, который сразу затягивался за ними, как затягивается ряской просвет от брошенного в пруд камня.
Затем он увидел, как группа людей перелилась через обломки камней в проломе, услышал через некоторое время шальной топот конских копыт и понял, что люди эти свершили невозможное.
Тянулся над низринутыми дым, и рассеивался, и краснел от яркого огня (запылала конюшня и деревянные сооружения возле стен), но стража уже оклемалась и бросилась к пролому.
Бекеш видел, как какие-то люди, будто случайно, путались у них по ногами, оказывались как раз у них на дороге, падали, как будто от толчков, прямо под копыта выводимым из конюшни лошадям.
Кони ржали и не хотели идти на людей. А мешавшие стражникам по одному рассасывались, терялись в толпе, кричащей и рвущейся к воротам.
А в проломе всё ещё бряцали, звенели мечи. Маленький строй сталью сдерживал тех всадников, что уже могли броситься в погоню.
Бекеш чувствовал небывалое воодушевление, сам не зная почему. Не зная. Ибо это было как раз то, чего не хватало людям его круга.
И ещё он видел, что женщина, красивая высокой, утончённой красотой, шла от эшафота. Она улыбалась, но из глаз её лились слёзы.
– Дальше ничего, – услышал он её тихие слова.
Она шла к опустевшим уже воротам, но казалось, что идёт она в никуда. А за ней, на некотором расстоянии, ехал на коне молодой человек с красивым и умным лицом, которое сострадало, любило, всё понимало и прощало всё.
И Каспар на минуту пожалел до боли эту женщину, красота которой была когда-то такой смертоносной, а теперь такой беззащитной перед бедами, горем и памятью о несчастной любви. А затем снова начал глядеть на огонь и слушать музыку мечей, которая уже затихала (он не знал, что заслон отступал к лодкам, чтобы переправиться за Неман).
Отсветы огня плясали по его лицу, отражались в тёмно-синих, больших глазах.
– Алейза... Альбин-Рагвал, – вдруг тихо, но твёрдо сказал юноша. – Только не пугайся, хорошо?
– Что?
– Я скажу тебе сейчас страшное. То, чего я никогда не слышал. А может, и ты не слышал.
– Ну?
Францисканец действительно испугался. Тон молодого человека был таким, каким говорят, отсекая всю свою предыдущую жизнь. А он любил этого юношу больше, чем любил бы сына.
– Бога нет, брат Альбин.
Впервые за всё время на румяных устах Бекеша не было и тени улыбки. Раньше он всегда, хоть ямкой в уголке рта, улыбался жизни. Теперь это был суровый и справедливый рот мужчины.
– Если бы не те люди, этого человека распяли бы. И Бог позволил бы опоганить безвинной смертью символ Своих мук.
Он говорил, прислушиваясь к тому, как звенели мечи.
– Этот крест сегодня убил во мне веру. Я теперь знаю: только война, а мира с ними не может быть. И пусть убьют. И пусть откажут в отпевании. Если я, Каспар Бекеш, умру, и тогда завещаю высечь на своём надгробном камне: «Не хочу признавать Бога, ада не боюсь... не беспокоюсь о теле и тем более о душе, она умерла вместе со мной».
Кристофич был устрашен и всё же любовался им. Резкое в скулах, чудное человеческое лицо. Мальчик породил свою мысль. Мальчик не побоялся восстать – стыд ему, Кристофичу, бросить мальчика на новом пути. Что ему до Бога, если рядом есть вот этот, дорогой ему человек? И всё же Альбин сказал:
– Брось о смерти. Ты будешь жить долго. Будешь великим учёным. Будешь славой Гродно, славой Белоруссии, славой Литвы.
«Не знаю, каким я учёным был, – так завещаю я написать на камне. – Но был я богоборцем. Ибо тела не будет и души не будет, но добро, но дела, но сердца людей не перестанут быть. Один человек научил меня этому. Не был он Богом, но не было среди всех лживых богов подобного ему. – Голос его срывался от волнения. – И я всей жизнью... Всей смертью своей... И не боясь её... передавал вам его ненависть и любовь, белорусские и все прочие люди. Смерти не боясь, передавал вам... добро».
Огонь скакал по лицу Бекеша. А поодаль затихал, замирал лязг мечей.
Глава 62 и последняя.
ПОСЕВ
Людская жёсткость, злостные желанья
Не смогут нападеньем безудержным
Глаза мне чёрной заслонить завесой,
Упрятав Солнца яркое сиянье.
Дж. Бруно.
Уже несколько дней все они жили на хуторе Фаустины. Жили и радовались солнцу, безмятежным нивам, пересеченным кое-где гривками лесов, тенистому саду и старому тёплому дому под многолетней толстой крышей.
Тянулась по дну лощины маленькая речушка, звенела ночью. Над речушкой, на взгорке, были старые, почти заброшенные, деревенские могилки и полуразрушенная часовенка в зарослях шиповника.
На третий день пришли на хутор Фома и Тихон Ус. Никто не говорил им, где искать Христа, просто Ус вспомнил, кто из «братьев во Христе» остался жив после резни, у кого есть в деревне свояки; наконец сообразил, что к кровным своякам они навряд ли пойдут, и почти с полной уверенностью повёл Фому на хутор невесты Клеоника.
Все думали, что их давно нет в живых. Вестун сам видел «смерть» Фомы под колоколом, и потому радости не было конца, тем более что при нападении на эшафот погибло очень мало людей, а остальные рассеялись и были в безопасности.
Фома и Ус принесли дивную весть.
...На следующий день после неудавшейся Голгофы тысячник Корнила пригласил Комара и Лотра к себе «на угощение». Получил согласие. Когда же те вошли в трапезную дома Корнилы, то увидели там Ратму и поняли, что это конец. Люди Ратмы между тем разоружили во дворе стражу пастырей и встали в дверях трапезной.
На вопрос, что всё это значит, Корнила ответил, что всю жизнь он веровал, и выполнял приказы, и даже считал за святую правду, что вот Павел уничтожал христиан и именно поэтому его возвели в апостолы и святые. Теперь же он решил, что остаток жизни надо хоть плохо, но думать. И первое, что он надумал, это поглядеть, какое право имели они отдавать ему приказы, другая ли, лучшая ли у них кровь.
Предлагал решить дело Божьим судом: один против двоих. Причём те будут драться за себя, а он берёт на себя защиту правды Братчика. Поклялся и заставил поклясться Ратму, что если погибнет, пастыри выйдут со двора целыми и свободно вернутся домой:
– Поскольку... это... только Ян Непомуцкий мог гулять с собственной головой под мышкой.
Пастыри бились не хуже добрых воинов. Почти час стоял в трапезной лязг мечей, звучали выкрики, слышалось хриплое дыхание, рвущееся из трех глоток, падала посуда, ломались лавы и столы.
...А ещё через час Ратма со своими людьми тронулся из Гродно в Новогрудок. На носилках несли израненного Корнилу, перешедшего на службу к новому, могучему властелину вместе с наиболее преданными из своих людей, а один из воинов вёз в туго завязанной кожаной торбе две отрубленных головы. Головы не были запачканы в крови, ибо их отсекли уже у мёртвых.
Воевода торопился. Он надеялся ещё в дороге догнать некую персону и вручить ей доказательство того, что клятва выполнена, что персона та может спать спокойно.
Христос, услышав о неожиданном защитнике его правды и исполнителе Божьего суда, безмерно удивился, но и задумался. Он, поначалу такой беспомощный и слабый, остался жив, а из тех, могущественных, что навязали когда-то ему страшную игру, не осталось ни единого.
Нужно было, однако, бросать хутор и подаваться дальше. Хребтовичу никто ничего не сумеет сделать. Он человек могущественный и, памятуя о его доброте, не только войско, но и простые люди не бросят магната. А мощь короля сильно подрублена.
Но сюда, на эту землю, могут нагнать после всех событий войска, усилить пристальный надзор за всем. Надо было уходить.
...Возможно, когда-нибудь я поведаю вам, что было написано двумя свидетелями, Фомой и Иудой, в их Евангелии, когда достигли они склона дней своих. Расскажу, как жил мужицкий Христос дальше, какие творил дела, как нашёл с Анеей свой путь и свою звезду, как приобрёл себе и друзьям понимание, вечную славу и вечную молодость, но теперь достаточно об этом. Я кончаю писать, и рука утомилась держать перо.
Скажу только, что Фаустина с Клеоником, понятно, остались на хуторе, и с ними остался Марко Турай, а остальные, во главе с Христом, решили идти на юг, в нетронутые пущи на границе Полесья и Беловежья, в место, известное Христу. Идти, корчевать и жечь там пни, строиться, жить вольной жизнью и ждать, ждать света.
Решили перед уходом задержаться ещё на несколько дней, чтобы помочь молодым и их другу привести в порядок землю. Уже и так сделали немало: дом перестроили и заново покрыли, пристроили к нему два отдельных трёхстенка, для Марка (ведь женится же когда-то), поставили новый сарай, расчистили сад.
Нужно было теперь пособить им вспахать, засеять их нивы рожью и озимой пшеницей. Пусть молодые хоть первые месяцы своей жизни побольше будут друг с другом, не отдают всей силы земле. Сильнее будут любить.
Фома подстрелил для них двух вепрей, а Ус солил мясо и коптил окорока своими золотыми руками. Христос с кузнецом свалили десятка два отборных лип, привезли их на хутор и свободным костром, чтобы солнце не доставало, сложили под навесом. Года через два будет у резчика запас сухого, непотрескавшегося дерева на всю жизнь. А Иуда пошёл куда-то, поговорил с кем-то и привёз два воза уже готового, дозревшего дерева, той же липы и груши. Работай зимой, сколько руки выдержат.
Начинало осенеть. Молодые и Марко умоляли либо оставаться до весны, либо идти сейчас же, ведь не в берлоге же с медведями жить, надо же иметь крышу над головой, запас мяса и всё такое.
Христос, однако, только отмахивался. Во-первых, есть тройная доля денег, закопанная ими отдельно от остальных (вот бы знали). Тех денег, что добыли, обобрав сокровищницы в Новогрудке (не отдавать же рясникам?). Во-вторых, он обещает всем хату. Большую просторную хату в пуще, где они будут жить и ждать. Обещает хату и всё необходимое для жизни, пока не взойдёт первое жниво на новых полях. Все знали: он не лжёт.
...В тот день, подготовив всё для посева, сидели они все вместе у могилок. Крыша часовни чуть просела, склонившийся деревянный куполок словно кланялся речушке под горой, спокойным безымянным могилам, прозрачному осеннему воздуху и далёким деревьям, пылавшим на взгорках.
Это была хорошая, настоящая жизнь! И потому, что вскоре они должны были оставить здесь троих людей и, возможно, никогда больше не увидеть их, в сердцах горела грустная любовь к ним, ко всем друзьям, сидящим здесь, ко всем на свете добрым людям.
Христос тискал в ладони комок земли:
– Они правильно сделали, что ушли. Сеять действительно давно пора.
Кудрявился вокруг часовни солнечный шиповник, расшитый лакированными оранжевыми и красными ягодами. Солнце прошло зенит и начинало клониться к закату.
– Эх, – вздохнул Фома. – Вот поработаем славно, сядем ночью вечерять. Под яблонькой, под звёздами... Тут бы самый смак выпить... И корчма недалеко... Выпить да яблочком, прямо с ветки, закусить.
– Ишь, ласунчик, – сказал Христос. – Ишь, малимончик. Сахар губа чует. А вот я вас спрошу, пока деньги не выкопаем, на какие доходы вы, благородный рыцарь, выпивать будете? Как один друг говорил: «В водке лик свой искупав, Фома-шляхтич задремал».
– Сам знаю, – грустно отозвался Фома. – А хорошо было бы – задремать не задремать, а хоть бы лицом ткнуться.
– Ну, – встрял Иуда. – Так в чём, я спрашиваю, закавыка?
– Деньги, – ответил Христос. – Не понимаешь?
– Вуй, дурные головы, – воскликнул Иуда. – И не знают ничего! А тридцать сребреников, что я у Матфея отобрал?
– Неужто отобрал? – ахнул Вестун.
– А то, – приосанился Иуда. – Тогда, когда вы меня из лодки вынимали. Помните, отстал я?
Ус и Клеоник с Марком весело расхохотались. В стороне, обнявшись, смеялись Фаустина с Анеей.
– И по-моему, нечего нам думать. И по-моему, Христос, нам с тобою сейчас самое дело их разом пропить.
– А я? – спросил Фома.
– Ну и тебе немного дадим, – посулил Иуда. – Всем немного дадим. Разве я сказал, что мы не дадим?
Христос, смеясь, взял две почти полуведёрные баклаги и оплетённую лозой сулею. Подал их Иуде.
– Тогда лупи. – Он взглянул на солнце. – Ещё успеешь. Это и вправду самый неожиданный конец истории: пропить разом тридцать сребреников.
Подхватив баклаги и бутыль, долговязый Иуда, как журавль, лупанул по пашне....Ус надел на шею Юрасю сеялку.
– Иди первым, – предложил он.
Христос, смеясь, проводил Иуду глазами. Потом перешагнул через поваленное трухлявое распятие и встал на меже пашни.
Приладился, пошёл, работая одной рукой. Равномерно, со свистом, в такт шагам правой ноги, разлеталось зерно. И Ус подумал, что на том месте, где так работают, обязательно взойдут ранние, сине-зелёные, а с самого начала красноватые всходы.
Христос оглянулся. За ним шли, половиной журавлиного клина, остальные. Фома сеял двумя руками и показал Христу язык: «Знай шляхту!».
И тогда Христос примерился и тоже начал работать двумя. Широко, ровно ложилось в борозду зерно.
Иуда уже скрылся. Неопалимые купины деревьев стояли на взгорках. Тосковал вокруг часовни шиповник. А сеятели поднимались на вершину круглого пригорка, как на вершину земного шара. И первым шёл навстречу низкому солнцу Христос, мерно размахивая руками. И, готовое к новой жизни, падало зерно в тёплую, мягкую землю.
Вышел Сеятель сеять на нивы Своя.
7 апреля 1965 г. – 29 апреля 1966 г.
Челябинск (Шагол) – Рогачёв.
СЛОВО ОТ ПЕРЕВОДЧИКА, ИЛИ МЕТАМОРФОЗЫ ЮРАСЯ БРАТЧИКА
Боже, не верь нашим лживым молитвам.
Не воскресай. Тебя снова убьют.
Владимир Скобцов.
Второе пришествие – тема не только богословская и даже не столько богословская, сколько литературная. Писатели и поэты во все времена пытались представить себе и описать либо само Пришествие в различных его интерпретациях (Кузьмина-Караваева, Гессе, Борхес, Хайнлайн и многие другие), либо, как Кампанелла, его последствия. По сути об этом же говорится и в романе белорусского писателя Владимира Короткевича «Христос приземлился в Гродно», который вы, уважаемый читатель, сейчас держите в руках.
Я не буду занимать ваше внимание пересказом сюжета, тем более что послесловие этого и не предполагает, но несколько слов о моральных аспектах романа мне хочется сказать. В самом его начале мы не видим ни Христа, ни апостолов – их там нет и быть не может. Да и происходит действие романа далеко не в Назарете и даже не в Иерусалиме. Перед нами – Беларусь XVI столетия, а вместо Христа с апостолами – труппа лицедеев, сборище непрофессиональных комедиантов, ставших таковыми не от хорошей жизни, а попросту – шайка бродяг или, по авторскому определению, «самый настоящий сброд: любители выпить, подъесть, переночевать на чужом сеновале, когда хозяина нет дома», и «на лицах у них было всё, что угодно, только не святость». И предводитель этого сброда, Юрась Братчик, ничуть не лучше всех остальных – точно такой же мошенник и плут, способный без зазрения совести обмануть, украсть и посмеяться над одураченным простаком. Скажу больше, он, может быть, даже хуже своих товарищей, потому что единственный из всех получил образование в коллегиуме, а образованный негодяй гораздо хуже негодяя необразованного. На первый взгляд с ним, да и вообще с этой компанией вроде бы всё понятно. Но...
Но обстоятельства сложились так, что отцы Церкви были вынуждены официально, привселюдно объявить Юрася Братчика Христом, а всю его шайку – апостолами. И вот тут-то начинают происходить удивительные метаморфозы.
Народная мудрость гласит: если человека постоянно называть свиньей, то рано или поздно он захрюкает. Короткевич утверждает противоположное: если человека постоянно называть Богом, то рано или поздно на него снизойдёт Дух Святой и он Богом станет. Юрась Братчик этого не знает и поначалу относится ко всему с ним произошедшему как к страшному, неприятному, опасному приключению, и стремится к одному – «вознестись как можно скорее» и исчезнуть для всех, чем дальше, тем лучше. Но он уже избран и сам себе не принадлежит, а Дух Святой не дремлет и подспудно, постепенно внушает Юрасю мысли Бога, а разворачивающаяся перед глазами Юрася панорама белорусской жизни только укрепляет эти мысли – опять же, Дух Святой знает, куда вести новоявленного Христа и что показать ему. И со временем, как и полагается. Божьи мысли перерастают в Божьи поступки. В конце концов однажды Юрась, взглянув на мир глазами Бога, оскорбился и, как и Христос за пятнадцать столетий до него, кнутом изгнал из храма торговцев. Вот тогда-то люди и поверили в него, и это изгнание стало переломным моментом в метаморфозах Юрася.
После этого эпизода ни один самый ярый моралист не сумеет найти ни в словах, ни в действиях Юрася ничего бесчестного. Внешне он вроде бы остаётся таким же, как и всегда – человеком до мозга костей, но вместе с тем он становится Богом для всех окружающих, а в конце концов и для себя самого. Характерно, что и автор после этого начинает называть его исключительно Христом. А Дух Святой (или Короткевич, как представитель Его) ведет Юрася все дальше, делает слова его все более Божьими, поступки – все более совершенными, и наконец, после ограбления чудотворной иконы Матери Божьей Остробрамской, у читателя поневоле возникает, мне кажется, не может не возникнуть мысль: а не идет ли здесь речь о Втором пришествии Сына Божьего на землю? Никто, кроме Него, не смог бы поступить так – отнять церковные ценности и раздать их бедным людям прямо возле храма.
Итак, цепь метаморфоз завершается, и перед нами предстает Мессия, Сын Божий, посланник Бога на земле. Все мы в последние времена видели немало новоявленных мессий, из которых скандально известная так называемая Мария Дэви Христос – самая, скажем так, популярная, но далеко не единственная. Сразу должен заметить, что и слова, и поступки людей, объявлявших себя в наши времена посланцами Бога, не идут ни в какое сравнение с делами Юрася Братчика. Но почему же в таком случае предсказанное в Откровении Иоанна Богослова Царствие Божие так и не наступило? Вопрос серьезный, и ответить на него очень нелегко, но я попытаюсь.
Прежде всего должен оговориться: попытка создать Царствие Божие в одном, отдельно взятом городе была сделана, но, как мы видим в романе, не удалась. И вовсе не по вине Христа. Он избегал насилия. Он хотел, чтобы всем было хорошо, но люди не были к этому готовы. Впрочем, что можно сказать о людях XVI столетия, если, невзирая на весь социальный прогресс, и сейчас, в XXI веке, люди до сих пор не готовы достойно встретить Мессию и войти в Царствие Божие? Я не хочу охаивать нашу новейшую историю, я убеждён в том, что Ленин тоже хотел переустроить мир по лучшему образцу, но и его теория о построении совершенного общества в одной, отдельно взятой стране с треском провалилась. Люди не готовы. Вот главная причина. При этом Короткевич с любовью и пиететом выписывает образы людей из народа и, показывая читателю Небесный Иерусалим, искренне верит в то, что когда-нибудь, пусть не скоро, люди изменятся к лучшему и Царствие Божие наступит.
Вторая причина – Христос со своими людьми оказался в окружении очень умных и сильных врагов, а бунт в одном, отдельно взятом городе подавить достаточно легко. Это вам не Советская Россия... Да и враги Христа – представители Святой Церкви – это не попы Демьяна Бедного, это образованнейшие люди, обладающие передовыми знаниями того времени и, главное, умеющие ими пользоваться. Кстати, должен заметить, что в советское время была сделана попытка перевести «Христа» на русский язык, не знаю, насколько удачная, и, мало того, по мотивам этого романа был снят фильм «Жизнь и вознесение Юрася Братчика» со Львом Дуровым в главной роли, но ни перевод, ни фильм так и не увидели свет. О причинах этого теперь можно только догадываться, но я предполагаю, что профессионально внимательный цензор заметил помимо всего остального и то, что позиция, дела и, что особенно характерно, речи противников Христа уж слишком смахивали на дела и речи советских партайгеноссе. Впрочем, почему именно советских? Роман с таким же успехом можно приложить и к сегодняшнему дню, да и не только к нему. «Христос» – произведение вневременное, равно как и шварцевский «Дракон». А к подобным произведениям цензоры всех времен и народов всегда относились крайне настороженно.
Но Дух Святой и здесь не дремлет – именно Он заставляет шевелить мозгами некоторых противников Христа, после чего эти противники морально перерождаются. Именно Он вкладывает в Христовы уста страшные слова проклятия на местной Голгофе, именно благодаря Ему враги Христовы гибнут один за другим, и каждый из них получает именно ту смерть, которую заслужил.
Итак, Сын Божий сталкивается с сильными врагами и человеческой косностью и, казалось бы, терпит поражение. А что же его апостольская шайка? Вот тут-то Короткевич удивляет читателя парадоксом: на протяжении всего романа он строго следует канве Священного Писания и достоверно её обыгрывает, но когда дело касается апостолов, он намеренно от неё отходит. Десять из двенадцати апостолов не идут на крестные муки вслед за Учителем, на протяжении всего романа они своими делами всячески дискредитируют Его и Его дело, а в финале предают и продают Его оптом и в розницу, каждый из них получает свои тридцать сребреников, и они уходят, они исчезают непонятно куда, в безвестность, в забвение. И только двое из них остаются с Христом до конца – Фома Неверный и Иуда Искариот. Только они провожают Его на Голгофу и воссоединяются с Ним впоследствии, уже навсегда. Да, именно впоследствии, потому что Владимир Семенович Короткевич, добрый представитель Духа Святого в романе, спас Христа от распятия, свершил чудо, в которое искренне хочется верить. И поэтому поражение Христа в итоге оборачивается его моральной победой, и мы с внезапно нахлынувшим светлым чувством читаем и перечитываем последнюю фразу романа: «Вышел Сеятель сеять на нивы Своя».
Владимир Короткевич не рядовой писатель, это Творец, обогативший мировую литературу произведениями на родном языке. А таких мастеров слова, по утверждению многих литературоведов, в Беларуси было только двое – Максим Богданович и Владимир Короткевич. Одно лишь то, что произведения Короткевича были переведены на двадцать один язык, причем не только на английский, немецкий, французский, испанский и русский, но и на такие экзотические, как вьетнамский и монгольский, не говоря уже обо всех славянских, чувашском, узбекском и других, может свидетельствовать о мировом признании таланта Короткевича. Белорусской литературе, увы, с этим очень часто не везло – многие уроженцы Беларуси стали польскими и русскими литературными классиками. Достаточно вспомнить Элизу Ожешко, уроженку Гродно, и гордость польской культуры, поэта мирового масштаба Адама Мицкевича, родившегося под Новогрудком (Гродненская область), чтобы согласиться с этим утверждением. Короткевич же, прекрасно зная и русский, и польский языки, писал только по-белорусски, несмотря на то что люди, облечённые властью, неоднократно предлагали ему писать по-русски. Но он очень любил свою белорусскую мову. Кто знает, может быть, именно потому он и остался практически незнаком русскому читателю. Наиболее известные в России романы «Черный замок Ольшанский» и «Дикая охота короля Стаха», переведенные на русский язык и экранизированные, – лишь верхушка айсберга по имени Владимир Короткевич, лишь очень небольшая часть его творчества.
Думаю, можно представить, какую сложную и ответственную задачу я поставил перед собой, взявшись за перевод «Христа», а когда я сам это осознал, было поздно – процесс пошел. Для начала я сел в автобус и с книгой в руках поехал в город Гродно, чтобы посмотреть своими глазами на места, где всё происходило. А через несколько дней, обойдя Гродно и окрестности, а также побывав практически во всех упомянутых в романе городах и весях, я вернулся в Минск с твердым намерением перевести «Христа» на русский язык. Работая над романом, я старался сохранить музыку живого белорусского языка, которым Владимир Семенович, нужно заметить, владел в совершенстве, в отличие от многих нынешних политиков и дикторов белорусского радио и телевидения, но насколько хорошо это получилось – судить уже не мне.
После всего сказанного мне остается добавить только одно: если Бог пошлет мне такое же вдохновение и в будущем, то надеюсь, что перевод романа Короткевича, который вы, уважаемый читатель, только что прочли, окажется далеко не последним. Произведения Владимира Семеновича не устарели с годами, наоборот, в нынешние времена они стали актуальными как никогда. Они не устарели, напротив, мне кажется, что их еще до конца не оценили, не осмыслили, что их нужно переводить и публиковать, что имя и книги Владимира Короткевича необходимо знать и помнить.
Александр Сурнин.