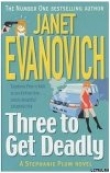Текст книги "Кайф"
Автор книги: Владимир Рекшан
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
А Мишка Марский, да-да, Летающий сустав, умотал то ли в Бостон, то ли в Чикаго. И умотал, свинья, даже не попрощавшись.
Я бы мог много вспомнить разного и страшного, на целую повесть! Но электричка уже тормозит возле платформы Балтийского вокзала, и пора вспоминать, для чего я, нарушив трудовую дисциплину, оставил кочегарку и прикатил в город...
У меня в трудовой книжке имеется выдающаяся запись: Руководитель семинара по рок-поэзии. Работай я в собесе, за такие записи не начислял бы пенсии. А мне и не начислят, поскольку никакой рок-поэзии нет. Однако осенью восемьдесят четвертого я заключил с Домом народного творчества договор, по которому обязался обучать слушателей семинара этому несущественному ремеслу.
На общеклубном собрании торжественно объявили о начале работы семинара, и в ближайший понедельник в скромной комнате меня поджидало человек с тридцать. Аудитория представительная. От квазихиппи до резких мальчиков в черных кожанках с бритыми макушками. Троглодиты, олухи царя небесного и неформальные объединенцы – так расписал их мысленно по сословиям. Я хоть и полный георгиевский кавалер рок-музыки, но предстоящее меня волновало. Я прихватил гитару и побрякал олухам перед разговором, как бы давая понять, что свой. Свой не свой, но работа началась.
Но ведь это невыносимо трудно заниматься тем, чего нет!
Сперва я пытался вести разговор в торжественно-академическом стиле и несколько распугал немытых рокеров амфибрахиями. Работать приходилось в потемках, методом тычка и, тыкаясь так, я набрел на Поэтику Аристотеля и стал плясать от Поэтики, как от печки. Получилось ненавязчиво и весело. Немытые рокеры приносили сочиненные тексты, распевали их под гитару, а мне приходилось каждый раз устраивать представление, дабы, ругая услышанное, не тревожить революционных рок-н-ролльных чувств и не заслужить обвинений в конформизме. За достижение почитаю разоблачение плагиата в творчестве одного троглосеминариста. Подправленный до народного ума текст Гумилева выдавал за свой.
Стиль, вроде, был найден, дело двигалось, но как-то пришли трое вежливых таких, в кожаных курточках, с челками, внимательными взглядами и полуулыбками. С магнитофоном пришли и вежливо слушали мои разглагольствования, а в перерыве один спросил:
– Мы хотим показать и обсудить тексты.
Настроение у меня было приподнятое, я только что удачно шутил и разделывался с троглодитскими сочинениями.
– Что ж, давайте тексты. А группа как называется? – Труд.
– Оригинальное название! У вас и запись есть?
– Да, – отвечает подошедший, а те, что с ним, уже прилаживают к розетке магнитофонный провод.
– Что ж, давайте тексты, – повторяю.
Мне протягивают картонную коробку от бобины, на которую наклеено Труд, вырезанное заглавие всесоюзной газеты, и несколько газетных информаций.
– А где тексты?
– А вот. Мы исполняем уже опубликованное и хотелось бы залитовать. Ведь опубликованное литуют сразу, да?
Немытые рокеры (конечно они мытые, просто я так привык их про себя звать) собрались слушать. Бобины закрутились, из динамиков полетели смутные звуки, – выкрики, бряканье нестроящих гитар, а я стал вчитываться в опубликованные тексты. Одна информация говорила о том, что неподалеку от Бонна собрались неонацисты на очередной шабаш, то да се, и, мол, неонацисты активизируются. В музыкальном варианте смысл выворачивался наизнанку и доходил до слуха лишь многократный рефрен, исполняемый под стук пивных кружек: Неонацисты активизируются! Неонацисты активизируются! Дальнейшие композиции развивали тему. Немытые рокеры веселились, приняв все за шутку, а я растерялся... Я родился через несколько лет после войны, а они после первых полетов в космос. Мы, вроде, говорили про одну музыку, про Битлз, Стоунз, про хард, рэггей и прочее, но принадлежали, получалось, к разным цивилизациям. Я не мог шутить над такой... музыкой будет сказано неправильно... а они шутили, а эти трое еще и сочиняли такую.
Немытые рокеры, эти в основном славные олухи, троглодиты, объединенцы и девушки, искренние в своем неосмысленном до конца несогласии с ложью и жестокостью жизни, они ждали моей реакции, представляя, видимо, как я стану возмущаться и буду нелеп в клокочущем гневе. Я же хотел не возмущаться, а набить хари молодцам из Труда, спустить их с лестницы, чтобы отбили они свои скотские мозги... Но это было б поражением, и я не набил им хари за провокацию, за Джона Леннона, за мою минувшую юность. Нет, я не проиграл, но и не нашел путей к победе.
– Вы их залитуете, да? – Трое вежливых в курточках смотрели с полуулыбочками. – Ведь опубликованное литуют сразу, да?
– Да, – согласился я и не проиграл, – это опубликовано... Но ведь есть авторское право. И я залитую вам тексты, если вы принесете согласие авторов заметок на исполнение, – но и не выиграл.
Курточки застегнуты, магнитофон собран, ушли без улыбочек и даже без полуулыбочек, но и мне не до смеха...
Руководство Дома народного творчества посчитало, что условия договора я выполнил, и со следующей осени семинар продолжился. Решил так: пусть немытые рокеры учатся стройно высказываться по поводу рок-музыки. Учась высказываться, они разберутся с мыслями, а разобравшись с ними, научатся стройно высказываться на бумаге, то есть сочинять слова, если неймется, к музыке рок. Но немытые рокеры – бу-бу, в кайф, не в кайф – робко рассуждают и коротко. Удлинять беседы приходилось мне опять же, и к концу второго сезона я навострился рассуждать о рок-н-роллах пространно и красиво. Хоть с закрытыми глазами, хоть посреди сна или любви, оторви меня от гуманитарного моего дела, от борща, в парилке к голому с веником подойди и, отдышавшись, я скажу:
– Уже много лет разрушается национальное музыкальное мышление у россиян, и можно определенно сказать, что у теперешнего поколения его просто нет. Поставьте в ряд мальчиков разных национальностей, от каждой республики по мальчику, и попросите спеть. Всякий республиканский мальчик споет национальное, а российский мальчик споет про Крокодила Гену...
Если после бани, борща, любви, сна – дать собраться с памятью, я докажу это примером из собственной жизни. Мы уже не мальчиками оказались во Франции. Нам уже тюкнуло по восемнадцать и на банкете мы могли хватануть винца. На банкете французы горланили хором общие свои песни, вдруг смолкли, предложив нам, из России, спеть. Нас оказалось человек шесть из команды в боковой от главного зала комнате и нам очень хотелось спеть им так, чтобы... Но проще с гранатой под танк! Будет уместным сутрировать ситуацию до кощунства! Мы не знали полностью ни одной песни! Очень, до дрожи хотелось спеть им так, чтобы... Спели Калинку. И в ней мало что помнили, кроме саду якодка малинка, малинка моя. Собственно, Калинка не народная песня, а стилизация, так что позор на наши головы.
– Из чего складывается национальное музыкальное мышление? – начну я вопросом, если уж начну высказываться. – Я не теоретик, конечно, но думаю, подобное мышление складывается из религиозной музыки, которую человек слышал и исполнял в церкви или на улицах во время религиозных шествий и музыки бытовой, самосочиненной, что сопровождала россиянина от рождения до смерти, называемой условно теперь народной. Церковь отделили от государства и атеизм – стержень нашего мышления. Так! Но почему прекрасную церковную музыку отделили вместе с культом, вместо того чтобы переправить ее на профессиональную сцену и оставить в сознании? Видимо, страшно, что проскользнут в памяти слушателей отдельные мало понятные им церковно-славянские слова. А западную религиозную музыку можно. А Бартнянского нельзя... Бытовая же народная музыка осталась в сельской местности, да вот из сельской местности почти уехали все в города. Бытовая народная музыка погибла вместе с прежней полупатриархальной деревней...
Говорю как человек сугубо городской: музыкальный вакуум в наших головах, и его заполняют восемь с половиной композиторов и пять с половиной поэтов-песенников. И они не виноваты в этом. Почему и не сочинять песни за тысячи рублей авторских отчислений? В век стандартной еды, одежды, мыслей мы стандартно поем про крокодилов, динозавриков, кашалотиков, дельтапланы, каскадеров, виндсерфинг, много про что поем, про то, что лучше бы и не знать... Но тысячи и тысячи рублей в наше танцующее и кайфующее время стало возможным заколачивать и на отечественном роке, так что и россиянский рок почти раздавила холодная махина стандарта...
Помню, был влюблен сокровенно в девушку, страдал. Увидел через несколько лет случайно и узнал, что пошла она по рукам...
Ах, да! Два сезона мучил и раздражал семинар некто Д. С выбритым пробором, отутюженный, всегда в галстуке, как комсомольский секретарь, поэт постпостсимволистского толка прибился случайно с напором жениха. Рвался писать манифесты и декларации, несколько раз предлагал свергнуть меня и назначить его. А третий сезон начали без Д. Он исчез. Наверное, его жениховский напор увенчался успехом в естественном направлении.
У меня набралась полная авоська рок-н-ролльных виршей, и сгоряча я стал проводить изыскания по семиотике рока и, кажется, нащупал контуры знака новаторства и знака вторичности. Словно прошлогоднюю солому корова, так начинающие немытые рокеры дожевывают сны, свечи, чертовщину и мистику, дзэн, медитацию, наркотики.
Век информации. Мир растворен в газетных столбцах. Хочется петь, но губы зажаты в тисках, потому что жалкая пародия на Homo Sapiens, нагим ты с рождения впал в нирвану, эти стихи мне нашептывал демон, и я хочу, чтобы путь познания был долог, чтобы уйти прочь с наступлением рассвета, хотя гордый, демон на стоянке такси спрячет крыло под серым плащом, так что в итоге смотри на мир сквозь цветные стекла, пока часы не пробили полночь. Такой, так сказать, круговорот личности в природе. Такая путаница. Такая каша в голове. Гречневая наша российская каша рок-н-ролла.
Но ведь они хотят высказаться, они неловко прорываются сквозь чащу родного наречия...
Все может быть, пусть даже дзэн и медитация, черт с ними, но не может быть наркотиков. Как им объяснить, как рассказать о черных щупальцах безумия? Хорошо, что пока метафорические наркотики у большинства. Сколько уже рокеров подохло от таких метафор, ставших былью! Ведь это тулупчик с чужого плеча, а точнее – джинсишки с чужой задницы, а примеривать джинсишки с чужой задницы – нет, это не талантливо.
Запад! С Запада к нам пришли все основные виды цивильного искусства балет, станковая живопись, поэзия, роман. Теперь пришел сверхцивильный, урбанистический рок. Но раньше, что ни приходило, не касалось непосредственно неграмотного большинства. Раньше рынок цивильного искусства был узок и не было стандартов массовой культуры. Пришел Байрон, а стал Пушкин, пришел аббат Прево, а стал Достоевский. Дело не в примерах! Дело в том, что были Битлз, а приняли Бони М, был Джимми Хендрикс, а приняли Модерн Токинг. Были великие рок-артисты, а навязывать стали стандарт эротики и звуков. А по собственным росткам национального рока прошлись тяжеленными сапогами глупости. Но теперь зачесали в макушке и, пропустив за последнее десятилетие через профсцену всю пошлятину доморощенную и уцененку рока забугорного, замордовав в прессе Шевчука из ДДТ, Науменко из Зоопарка, Гребенщикова из Аквариума и прочих разных, проросших на гибельных наших суглинках и болотах, проснулись вдруг, выдернули из равноправной грядки Аквариум и чистят, приглаживают, причесывают, шелушат ботву, готовя к употреблению Гребенщикова как поп-звезду самопального свечения... Но дело не в аквариумах конкретно. Дело в массовой глупости или трусости проявить ум...
Смотрю передачу: гонят рок-номер, после его обсуждают должностные лица, сидя в кресле, – так да сяк; гонят еще рок-номер и опять рассуждают. Неплохо так рассуждают, а, вот, в рок-номере на всю страну рок-мальчики пели про то, что, дескать, трава, она, туда-сюда, моя любовь к тебе больше или меньше любви к траве и прочия, прочия... Трава – это марихуана, анаша, гашиш. Это каждый знает. А каждый третий из тех, кто знает, курит. А знают ли те, кто в креслах? Не знают? Нечего тогда сидеть в креслах и заниматься тем, в чем не рубишь...
Сколько-то лет назад удивился, когда понял, как поперла в средства массовой информации поп-культура. Затем вместо удивления пришла уверенность: это все враги шуруют! Хотят нас изнутри взорвать! А теперь думаю – какие враги! Дураки! С нами в идеологии воевать не нужно. Главное дуракам не мешать – они нас в итоге изнутри и взорвут...
Ладно! Уже третий сезон я обучаю троглодитов, олухов царя небесного, неформальных объединенцев и девушек.
Мы с Николаем не предавались на сцене каннибализму, и успешным наше концертирование можно назвать с натяжкой. Но все-таки, если шибко захочешь, просто стать звездой рока, если был ей раньше. Этому я не научишь. Это где-то в печенке, в поджелудочной или предстательной железе.
А как им хочется! Как бы им объяснить, что имеются занятия в мире и понадежнее!
Как-то не так на небе расположились звезды и порядочный семинар превратился неизвестно во что. С каждым разом все больше пролетариев рок-труда забредало на занятия. Особенно после того, как перед ними сильно выступил кудрявый талант из Новосибирска – Наумов. Сильный гитарист, словообильный и торчковый, клевый, кайфовый автор текстов. И правда, да-да, все очень сильно, но опять это заигрывание с наркотиками в текстах... Пусть торчково, кайфово, клево сделано, но – не надо. Ведь метафора искусства кончается могилой жизни. Но как объяснить? И кто объяснит мне, почему в Ленинграде наркотик приобрести проще, чем туалетную бумагу?
В ноябре прослушивали трио Зря. Троглодитов и остальных набилось человек с пятьдесят, и, собственно, обсуждение оказалось сорванным. Трио Зря медитировало. Это мы знаем – медитация. Такая штука. Аккуратная музыка, а кайфа нет, потому что нет драйва. А без кайфа, – говорят рокеры, – нет лайфа.
А в конце декабря пришел Фрэнк. Есть такой человек. Не хочу вспоминать, но вспоминаю Валеру Черкасова, когда встречаю Фрэнка. Он долго приставал, просился выступить на семинаре. Мы договорились. И в конце декабря пришел Фрэнк на занятия, и вместе с ним пришло сто человек неформальных объединенцев, настолько неформальных и настолько объединенцев, что мои олухи, троглодиты и девушки забились по углам, а пришедшие с Фрэнком валялись на полу, курили, входили, выходили и плевали на руководителя. А Фрэнк... Унты стоптанные на каблуках, рваные джинсы, волосня с перхотью ниже плеч и глаза в разные стороны. Бледное, серое лицо и высокий, гадкий, бесовский голос мучает блюз:
– Свобода есть, свобода пить, свобода! Свобода спать с кем хочешь из народа... – или:
– Я – бич, бич!..
Автостоп, хипповые прокламации про то, как он, такой-сякой, не так уродился и прочая антимилитаристская окрошка с психоневрологическим уклоном.
Всего час бесовских игр, завораживающих, затягивающих в черную воронку без дна...
Для того я и нарушаю трудовую дисциплину кочегара, чтобы на улице Рубинштейна встретиться с троглодитами и девушками в скромной аудитории. Я иду от Владимирской по Загородному. Витрины магазинов занавешены льдом, и прохожие в меховых, шерстяных драпировках спешат, не глядя друг на друга. Но и радужную надежду вселяют холода – может, разом, словно динозавры давно, вымрут в городе панки и иже с ними, разгуливающие и в ледяном январе без шапок.
Действительно холодно. Я надел на себя все, чем обладаю из одежды, но все равно приходится передвигаться почти бегом. И слава богу – ведь я опаздываю. Опаздываю всю жизнь. Где-то ведь на пирсе в Ораниенбауме огонь в топке моей занимается все сильнее, превращаясь в новую субстанцию огня-флогистона, и хотелось бы успеть вернуться до того, как перегорит уголь, улетучится в пространство тепло, а холод заморозит воду в трубах и разорвет трубы льдом, приговаривая ту часть меня, ведающую топкой, к ужасным дисциплинарно-административным карам.
Протискиваюсь в тугую дверь и поднимаюсь по сумрачной, скучно освещаемой лестнице. На втором этаже смолят никотин олухи, троглодиты, объединенцы и девушки. Здравствуйте, – я говорю, а они нестройно: Здравствуйте, – а девушка посмелее: Вот и учитель воскресной школы, говорит, а я: Правильно, – соглашаюсь. – Фрэнк, зараза, нас чуть не угробил. Воскрешать пора.
Прохожу в коридор, а из коридора в аудиторию.
– Здравствуйте, – говорю тем, кто в коридоре и в аудитории. А там все те же – олухи, троглодиты, объединенцы и девушки.
– Здравствуйте, – отвечают мне.
Они рассаживаются и затихают. Человек тридцать все-таки есть. Я хочу собраться и сказать как рассуждаю последнее время. Ведь в смысле души мы сейчас возле, в который раз, разбитого корыта или, точнее, перед развороченной кладкой, развороченной на кирпичики, хотя который раз строили на века. Да, получилась нелепость. Но кирпичики-то целы, и все-таки стоит строить здание нового самосознания, в котором жить нам и нашим детям с рок-н-роллами там или без. Ведь, вы, девушки, родите детей, может, от олухов царя небесного и родите, а те дети родят себе других детей... Но, нет, я долго шел к таким рассуждениям и неизвестно еще куда пришел.
– Ничего себе маевочку нам прошлый раз Фрэнк устроил.
– В кайф! – смеются в ответ.
– Да, но я не хочу, чтобы меня выгнали с работы. Такая запись в трудовой книжке погорит!
– В кайф! – смеются в ответ.
– В кайф-то оно в кайф, но сегодня все будет тихо, мирно и занудно. У кого слабый мочевой пузырь, прошу сходить облегчиться. Перекуров не будет. Я сегодня вам мемуары почитаю. Свои! Избранные места почитаю, так сказать, в педагогических и честолюбивых целях. Я волнуюсь, однако!
Публика молодая, ей бы пошуметь, она и шумит.
За моей спиной рояль. С оборота бью в до-мажор обеими руками. Олухи, троглодиты, объединенцы и девушки затихают. Жаль, что мухи спят до лета, а то был бы слышен их полет. Я достаю папку с листами и раскладываю их перед собой, шуршу ими, откашливаюсь, вспоминаю неожиданно все, словно жизнь это не смена лиц и мест, словно происходила она сразу, словно на битловском Сержанте возникают люди, люди, люди, цвета и даже запахи, терзания и ревность возникают будто впервые, ненависть, наивность и честолюбие юности, друзья и ссоры с друзьями, враги, пинки и то, что неожиданно открылось в звуке, что помогло выжить в юности, может, это самое трудное – выжить в юности и дожить до того, что называется человеком; я откашливаюсь, беру верхний листок и глухим, чужим каким-то голосом начинаю:
– В июне тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года мне исполнилось восемнадцать лет.
CODA Заканчивается повесть, но продолжается жизнь. Весной восемьдесят седьмого освободился Никитка и мы встретились у него, возле рояля: Никитка, Витя, Николай и я. Очень давно я не виделся с Никиткой и сперва просто не узнал в рослом и дюжем мужичине давешнего юношу со скрипкой.
– Круто, мужики, круто сети-то плести. – Там Никитка не мог выполнить каких-то норм по плетению сетей, но сторожа узнали о былом сотрудничестве Никитки со Стасом Наминым и с сетей сняли. – У нас такой крутняк, такие гитаристы сидели, – говорит Никитка, называя группы и фамилии рок-артистов.
– А у меня рассеянный склероз, – жалуется Витя. – Видели, как ноги волочу? Белое пятно в медицине. Четыре месяца в больнице – ноль. Онемение членов!
– Инвалид рок-н-ролла, – говорит Николай.
– Жертва безудержной юности, – говорю я.
Мы сидим возле рояля и вдруг договариваемся выступить на рок-н-ролльной маевке Коли Васина, который – жив, жив курилка! – ангажировал под это дело клуб железнодорожников.
И зал неожиданно аукнулся довольным воем.
Лето же началось очередным рок-фестивалем в комсомольском Дворце молодежи, на котором Петербургу позволили заместить инвалидную вакансию, в пределах которой мы и порезвились, как пятнадцать лет назад, – Никитка порвал четыре струны, я почти порвал голосовые связки, а Николай казенные барабаны. Даже Витя пытался совладать с рассеянным склерозом. Могло получиться и хуже. Даже так нас приняли на ура, но главное, что с нами, нет, рядом с нами был Никита Лызлов.
Катапульта перестройки забросила его в кресло зама гендиректора по науке некоего объединения, в котором он, дай бог, когда-нибудь защитит докторскую, и теперешняя масть не позволила ему появиться на сцене, но все-таки он находился рядом – бегал за струнами для Никитки, когда тот рвал их, щелкал фотоаппаратом на память.
За неделю комсомольско-рок-н-ролльного мероприятия на Петроградской стороне выпили все плохие кислые вина и закомплексовали тамошнюю милицию, которой, похоже, в условиях проснувшейся демократии, предложили особо руки кайфовальщикам не заламывать, но быть начеку. Хватательный рефлекс у милиции, впрочем, в крови, и поэтому постоянно кого-то задерживали и постоянно кого-то отпускали. Всех моих знакомых задержали по разу, Президента Рок-клуба задержали и отпустили, меня и самого стоило задержать и отпустить, но тут на комсомольскую сцену стали забираться панки. Шведо-канадские же дипломаты забегали с видеокамерами. Первые панки поливали зрителей из кислотно-пенного огнетушителя и погасили заодно пару усилителей Динаккорда на полторы тысячи золотых рублей, вторые панки обтошнили себя перед концертом и матерились в микрофон, третьих панков попытались побить металлисты из Пскова, одетые в настоящие кольчуги, и возле сцены началось побоище... Все-таки была и музыка. Был Шевчук, был Науменко и Борзыкин, иногда было в кайф. Была и гласность. По стенам раскатали куски обоев, и каждый мог выразиться письменно. И выражались.
Эти сатурналии, эти ипотезы, эти гестрионско-скоморошьи дела изучались старательно хорошими ребятами из комсомола. Они могут еще три пятилетки их изучать и не понять ничего, если не уяснят себе гносеологическую сущность сего базарно-смехового, эротическо-языческого, существовавшего всегда под иными личинами, социально-громоотводного явления, нашедшего основу в африканском, примитивном, пещерном ритме.
Впрочем, о дадзыбао-обоях. Мне удалось умыкнуть ту их часть, что касалась Петербурга. Для того мы и собрались через пятнадцать лет, ведь такого сам не придумаешь, а ведь как-то надо заканчивать повесть. Откликов оказалось достаточно и не очень обидных, а сверху резким почерком наискосок чья-то восторженная рука начертала: Бэби, я обторчался вчерняк!.
Вот она жирная черта итога, дебет и кредит рок-судьбы. Бэби, я обторчался вчерняк!. На этом, собственно, можно и ставить точку. Но я все-таки поставлю многоточие...