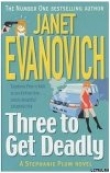Текст книги "Кайф"
Автор книги: Владимир Рекшан
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Но и Славяне не уцелели, проходя через тернии. Саша Тараненко, главный электронщик Славян, хотел еще и творческой свободы, тайно лелея амбиции. Он уговорил славных и гордых Лемеговых работать с ним, а я плюс Мишка, плюс Белов, Останин и Корзинин стали притираться друг к другу, пробовать репетировать, думали, как сложить новую программу, чтобы новый Петербург не уступал прежнему. Я еще надеялся на диктаторство и в итоге был провозглашен Первым консулом, что справедливо, поскольку собрались-то под вывеской Санкт-Петербурга, моего детища, но Юра Белов был пианистом почти профессиональным, а Николай Корзинин был барабанщиком, если и не явно ярче Лемегова, то уж профессиональней во сто крат, с опытом игры на трубе и хоровой практикой в пионерские времена. Белов и Корзинин сами сочиняли музыку и хорошо сочиняли, просто им не хватало сумасшедшей ярости, присущей Петербургу, и концертной удачи.
Очередные авантюристы устраивали очередные авантюры. Теперь без всяких профкомов платили до сотни за отделение, а иногда и вообще не платили, если авантюру прикрывали власти, а иногда не платили авантюристы просто по своей авантюристической прихоти.
Новым составом мы выступили на Правом берегу Невы в неведомом мне зале с балконом, с которого свалился во время концерта в партер кайфовальщик.
Кайфовальщик не пострадал, а мы убедились, что Санкт-Петербург приняли и в новом составе, и очень приняли простенькую лирическую композицию Я видел это. Она даже стала на время гимном гонимых рок-н-ролльщиков, и Коля Васин всякий раз поднимался в партере со слезами, текущими по заросшим щетиной щекам, и подпевал вместе с залом:
– Я видел э-это! Я видел э-это!
Если трезвой литературоведческой мыслью попытаться оценить исполняемые Петербургом строки, то получится ерунда, наивность и глупость инфанта (а именно так и оценивают почти всегда тексты рок-групп).
– Я, – там пелось, – видел, как. восходит солнце... Я видел, как заходит солнце... – и еще: – Как засыпает все вокруг... – и еще пару слов насчет молчания, а последняя строчка: – Как заколдован этот круг, – и припев: – Я видел э-это!
И вот я думаю сейчас и не могу додуматься. Наверное, здесь оказалась закодированной трагедия юности, почувствовавшей, как время вколачивает, ее в структуру жизни, в ее жесткую пирамиду. Наверное, семиотический смысл этих слов обнимал главное, иначе ведь успех не приходит...
На моей совести много хорошего, а много и нехорошего. И одно из нехорошего – это выступление в школе номер 531 на проспекте Металлистов. Школа как школа, но ведь я там учился и был юношей, уважаемым, спортивной знаменитостью и председателем Ученического научного общества. На счету нашего общества не значилось ровным счетом ничего, но добрым учителям я должен был запомниться юношей опрятным и доброжелательным.
Бывший мой соученик, издали причастный к року, парень сметливый и жадный, и знавший о разгуле подпольной музкоммерции, подъехал к директору школы, полноватой, пожилой женщине, наврал ей, что смог, воспользовавшись ее добрыми чувствами, и договорился в выходной день использовать актовый зал. Мы провели в школе номер 531 рок-н-ролльный утренник, получилось нечто вроде Утренней почты. В ранний час кайфовальщики вели себя смирно и мы смирно поиграли им ватт на двести. Несколько композиций Юра Белов исполнил без моего участия, а в некоторых композициях Санкт-Петербурга не участвовал Мишка. Он, печально околачивался по сцене с бубном, понимая, кажется, что жестокий закон эволюции перевел его или почти перевел в должность бубниста.
С кайфовальщиков мой соученик собрал по два рубля и потирал, думаю, от жадности руки. А может, и ноги.
Все было нормально. Но вот посреди среднесумасшедшего по накалу ритм-блюза я заметил, что дверь в актовом зале отворилась и в дверях остановилась пожилая, полноватая, седая женщина. Это была директор. Она жила неподалеку от школы и решила заглянуть и побеседовать с бывшими учениками.
Повторяю, в зале было все нормально. Но нормально для меня, и я был нормален для себя, но не для нашего бедного директора. Она постояла с минуту в дверях, дождалась окончания среднесумасшедшего ритм-блюза, сделала шаг назад и аккуратно прикрыла дверь...
Где-то в начале 1972 года у меня вдруг зажило колено. Я еще не сомневался в олимпийских победах, ревностно следя за прессой и за тем, как прогрессируют бывшие сверстники и конкуренты. Я лечил колено всеми известными способами, но оно не проходило почти два года, иногда в самые неожиданные минуты выскакивали мениски, которые я научился забивать обратно кулаком. Иначе нога не сгибалась. Случалось, мениски выскакивали и на сцене, приходилось забивать их на место между припевами и куплетами. Скакать по сцене я все-таки мог, а вот тренироваться – нет.
Я плюнул и перестал лечиться, и колено вдруг зажило.
Явился на стадион, на меня посмотрели горестно, а тренер, великий человек, сказал:
– Давай попробуем.
Меня называли хиппи, а я им не был и вовсе не отказывался от спортивного поприща.
Санкт-Петербург же не выходил из штопора славы, но мешал дух недоговоренности. Мишка маялся с бубном, а Юра Белов тащил все новые и новые песенки. К тому же распалась довольно занятная группа Шестое чувство, и вокруг Петербурга слонялись безработные бас-гитарист Витя Ковалев и барабанщик Никита Лызлов, не претендовавший в тот момент именно на барабаны, поскольку Николаю Корзинину он был не ровня, а претендовавший просто на искрометное дело, которому он мог предложить свою предприимчивость, ум, веселый нрав и некоторую толику аппаратуры Шестого чувства, совладельцем каковой и являлся с Витей Ковалевым.
В апреле семьдесят второго я уехал в Сухуми на спортивный сбор, а, вернувшись в Ленинград, заболел инфекционным гепатитом, желтухой, и чуть не сдох в Боткинских бараках от ее сложной асцитной формы. То есть началась водянка. Кто-то из врачей все же догадался назначить мне специальные таблетки, после которых я выписал за сутки ведро и побелел обратно.
В первые дни, мучаясь от болей, я читал бодрые записочки, присылаемые друзьями-товарищами по року. Валера Черкасов (о нем – впереди), помню, прислал открытку с текстом приблизительно такого содержания: Говорят, ты совсем желтый. И говорят, ты вот-вот сдохнешь. Нет, ты, пожалуйста, не сдыхай. Ты ведь, желтый-желтый, обещал поменять мой "Джефферсон аэрплайн" на твой "Сатаник". Так что давай сперва поменяемся, а после подохнешь. С японским приветом, Жора!.
Опять наступило лето и началось оно яро – дикой жарой, безветрием, лесными пожарами. В СССР приехал Никсон, а клубника поспела аж к началу июня. Назревала разрядка.
Женя Останин приносил в больницу книги по технике рисования, в котором я упражнялся, лежа под капельницей, а когда я, прописавшийся и побелевший обратно, смог выходить на улицу, то и выходил, и мы с Женей гуляли по территории больницы, подглядывали в полуподвальчик прозекторской, где прозекторы потрошили недавних гепатитчиков. За деревянным забором, отделенные от аристократов-гепатитчиков, весело жили в деревянных домиках дизентерийщики. Аристократы относились к ним с презрением и называли нехорошим словом. Женя Останин учился на художника, и говорили мы с ним о сюрреализме.
Ботва на моей яйцевидной башке достигла рекордной длины, главврач стал требовать невозможного, а Коля Корзинин с Витей Ковалевым пришли заключать соглашение. Билирубин и трансаминаза еще шалили над нормой, а Никсон уже подписал исторические документы. Мы-то не подписывали ничего, но устно решили: отныне Санкт, его величество, Петербург есть: Коля Корзинин барабаны, Витя Ковалев – бас, Никита Лызлов – просто хороший человек и чуток рояля, и плюс мои билирубин и трансаминаза. Остальное же побоку. Дело есть дело. Дело-то есть дело, но молодость все же еще и жестока.
Родители, испуганные сыновней водянкой, взяли меня опять белого и похудевшего из больницы на поруки и стали кормить диетическими кашами, от которых я сбежал в компании с Колей Зарубиным, будущим барабанщиком группы Валеры Черкасова За. Но это он позже стал за что-то, а тогда мы просто прихватили бонги, дудочку, Мало денег и уехали в Ригу, где из себя изображали неизвестно кого с бонгами и дудочкой, а из Риги решили махнуть в Таллин автостопом, модным по слухам хитч-хайком – сжал кулак, большой палец вверх и тебя якобы везут добрые водилы, которым скучно в дороге.
Послушав случайную девчонку, последней электричкой доезжаем зачем-то до Саулкрасты, курортного поселка, конечной станции и попадаем под дождик. Ругая девчонку, бредем в мокрой ночи, бредем по мокрому саду и в саду том натыкаемся на дощатую эстраду с крышей и ложимся спать мокрые на доски под крышу, где вдруг сладко засыпаем, а когда просыпаемся, то видим вокруг утро накануне первого солнца, в котором поют птицы, в котором сухо опять, в котором хочется дышать и жить. А в сотне метров оказывается море. И на диком пляже в лучах свершившегося солнца Коля Зарубин легонько пробегает пальцами по бонгам, кожа на бонгах откликается приятным невесомым звуком, а я, как дурак, свищу на дудочке то, что не умею, и так хорошо, как никогда. И думаем мы, что так все и надо...
Летом тогда рок-н-ролльщики обычно отдыхали, словно хоккеисты перед сезоном, но лето кончилось. Похудевший от инфекции до комплекции стандартного кайфовальщика, я довольно быстро наел спортивные килограммы и более на дудочке не сверещал.
Еще недавно впереди ожидала вся жизнь. Теперь за спиной уже дымились первые руины.
К семьдесят второму году ленинградские рок-н-ролльщики и кайфовальщики освоили хард-роковые вершины Лед Цеппелин и Дип Пепл. Тогда эти снеговые-штормовые покорялись упрямыми и немногими, ждавшими от рока уж вовсе неистового кайфа – это теперь там проложены комфортабельные шоссейки, по которым на туравтобусах катают Земляне чубатых пэтэушников.
Партизанский имидж Санкт-Петербурга времен Лемеговых с его полуимпровизационным и сатанинским началом и ритм-блюзовым плюс хард-роковым драйвом и со светлыми проблесками слюнявой лирики уступил место жесткой конструкции продуманных аранжировок и коллективному договору сценической дисциплины. Если Лемеговы были мягки, даже застенчивы, что и подталкивало их порой к стакану, то Коля Корзинин оказался равно талантлив, как и непредсказуем. Что меня поразило – однажды, еще в Славянах, на одном из сейшенов Арсентьева он в паузе между композициями заявил в микрофон из-за барабанов:
– Сейчас я спою для друзей и жены. Остальные могут валить из зала.
Его, в общем-то, освистали, но он только озлился, и только небрежнее, алогичнее, с запаздыванием, заканчивал брейками такты. Так он и выработал манеру – неповторимую, узнаваемую и очень экономную. Внутренне, мне теперь кажется, Коля всегда не доверял залу, был даже враждебен ему, и если все-таки достиг популярности, то лишь потому, что толпе кайфовальщиков ничего не оставалось, как полюбить человека, плевавшего на них: плевать на зал – это высший кайф. Элис Купер тоже плевал, но уже в прямом смысле, блевал и даже бросал в зал живого удава...
Осенью семьдесят второго года Санкт-Петербург много выступал, поставив целью улучшить звучание до полупрофессионального. Когда-то мы с Летающим суставом купили у промышленных несунов восемь качественных динамиков 4-А-32 по тридцать пять рублей за штуку и тем создали некое промышленное накопление. Но лучше б и не начинать. Тут только начни. Можно всю жизнь улучшать и улучшать, и все одно не улучшишь до абсолютной лучшести, так и не поняв в ошибочном начале, что музыка, если есть, она в тебе. И хороша она или нет – зависит от того, хорош или плох ты. И что ты сам абсолют, и шкала отсчета в тебе, а посредники диффузоров, ламп и прочих ухищрений – это Сцилла и Харибда, и между ними доулучшала звучание до бездарности не одна сотня талантов.
Сейчас, в середине 80-х, гитара электрическая, соответствующая уровню и на которой не стыдно я не в лом концертировать отечественному еврокласса рок-артисту (а такие есть), стоит у перекупщиков где-то под три тысячи рубликов. К такой гитаре положено иметь флэйнджер, бустер, квакер и еще сколько-то примочек, придающих звуку характер. Итого: плюс еще несколько сотен. Если рок-артисту вздумается петь и в пении он также желает соответствовать евроклассу, то он должен истратить сотен пять или семь на евромикрофон типа Маршалл. Но еврогитара и евромикрофон через что-то усиливаются и это что-то Динаккорд или Пи вэй и это что-то стоит еще тысячи и тысячи. Да клавиши, да компьютер-драм, да то да се. Отечественная группа еврокласса стоит, как небольшой эсминец. Звук у нее, как у небольшого истребителя. Собирает она на свои идиотические маевки по несколько тысяч юных лоботрясов (умножим хотя бы на три и получим кассу концерта), но ставка рок-артиста еврокласса за концерт рублей пятнадцать, а бывает и меньше. При выступлении на стадионе она удваивается, но все одно надо концертировать две жизни, чтобы накопить эти тысячи. Есть, однако, нынче выход. Если ты действительно рок-артист еврокласса или в тебе такого увидели, то тебя пригласят, тебя обласкают, тебя арендуют. Есть теперь рок-папы. Папа – это тот, кто выкатывает рок-группе аппарат, и часто рок-папы на афише фигурируют художественными руководителями. За те пятьдесят или сто тысяч это не так уж и много. В Ленинграде рок-пап практически нет, поскольку Ленинград – город не очень богатых людей, и здесь такую сумму не так просто украсть. Есть, правда, один, дает интервью как руководитель популярного в пригородах рок-ансамбля. Сей художественник сколотил капиталец, спекулируя инструментами и аппаратурой, иногда и просто обманывая доверчивых артистов. Бас-гитарист Червоных гитар рассказывал мне, что знает нашего художественника, что наш художественник кинул барабанщика из рок-группы Чеслава Немена на полторы тысячи рублей и что он, поляк, хочет продать художественнику за это самопальный Стратакастер-бас с нестроящим грифом.
Дипломатическо-дирижерские семьи также поставляют на рок-н-ролльный небосвод рок-пап, но это уже московские дела.
Те есть столь пространной жалобой я хочу сказать, что в начале семидесятых еще не было ни пап, ни дядьев, была какое-то время у Петербурга рок-мама – взрослая, небогатая женщина. Одним словом, соединив имевшееся у Петербурга до инфекционного гепатита с тем, что прибыло после, мы получили полный комплект некачественной, хотя и громкой по тем временам, аппаратуры. В лице Вити Ковалева Петербург получил серьезное подкрепление. Это теперь проф-рок-артистов обихаживают инженеры звука, инженеры света, разные мастерские и спекулянты. Тогда приходилось все делать самим, и представьте себе, что мог напаять гуманитарный состав Петербурга времен Лемеговых. Витя Ковалев, мастеровой, рабочий телеателье, привел в относительный порядок некачественный наш аппарат и, кроме того, значительно укрепил классовый состав Петербурга. Никита Лызлов заканчивал химический факультет Университета и тоже был поближе к технике.
За гуманитарную часть деятельности отвечали мы с Колей и к осени семьдесят второго, внутренне соревнуясь, сочинили несколько новых боевиков, которые и отрепетировали и представили рок-н-ролльщикам и кайфовальщикам.
Однажды полузнакомец подбросил листки со стихами, попросив прославить, и листки эти вдруг попались на глаза. Часть стихов, как выяснилось позднее, оказалась украденной у Аполлинера, а на один неожиданно сочинилось. Текст, правда, пришлось править и переписывать, остались от него рожки да ножки, но на одной строке я тем не менее прокололся. Назвал композицию Лень и начинал ее четырехтактовым заковыристым рифом, повторявшимся два раза с напором, а после возникал минор, точнее до-минор, и начинались минорные слова:
– Издалека приходит день, приходит день, сменяя утро...
Объявив время и место действия, во второй уже нахрапистой части композиции я утверждал, что:
– И так всю жизнь, так каждый день все изменить мешает лень!
Третья часть композиции в мягко рокочущем квадрате до-мажора объявляла:
– Я этим городом дышу, – и далее строчка, всегда вызывавшая овации кайфовальщиков и довольные усмешки рок-н-ролльщиков и мое недоумение по поводу ее странного успеха: – ...курю с травою папиросы.
Строчка эта – одна из немногих, уцелевших из первоисточника полузнакомца. Я же тогда не курил вовсе, редко когда мог позволить себе пригубить с Лемеговыми, сохраняя надежду на олимпийскую славу. Я знал, конечно, что анаша называется травой, и знал, что кое-кто из рок-н-ролльщиков ее курит, а кайфовальщики, кажется, курят вовсю. Но это было абстрактное знание – Лемеговы в смысле кайфа оставались славянофилами и трава в тексте полузнакомца связывалась у меня просто с плохими папиросами табаком наполовину с травой.
Но получалось – я символ эскапизма, этакий прокламатор психоделии, пыха, улета. По поводу кайфов тогда позиции у меня не имелось вовсе, но иногда, особенно после того, как Лемеговы срывали концерт или репетицию своей приязнью к португальским винам, иногда я устраивая Лемеговым скандал и выгоняя их вместе с собутыльниками. Но – трава? Сообразив, я заменил с травою на с тобою. Это вызвало интересную реакцию: начинался рокочущий до-мажор, пелся текст, но все равно зал взрывался криками, как бы понимая да, зажимают рот артистам, не дают свободы в искусстве. Меня никто не зажимал, но за ошибки или глупость в искусстве приходится платить.
Николай предложил для концертирования несколько отличных сочинений: Позволь, Хвала воде, Санкт-Петербург No 2. Негуманитарный Никита разродился текстом, а Николай' приложил музыку и получился еще один номер – Спеши к восходу.
– После долгой ночи, после долгих лет – будет утра сладость, будет солнца свет!
Так пелось в припеве, и всем нравилось. С восходами и заходами у Санкт-Петербурга все было в порядке. Что восход должен принести – оставалось неясным. Теперь я знаю, что восход может принести и похмелье, а заход, наоборот, – короткое счастье. Но ведь в двадцать с небольшим думалось напрямую: солнце, свет, белое – добро; ночь, темень, черное – зло. Жаль, что возраст превращает наивную веру в ее негатив.
Санкт-Петербург очень любили, все, что ни сочиняли и ни пели мы, нравилось до коликов восторга, а эти колики восторга необходимы забравшемуся на сцену, раскрепощая его и выявляя совершенно неожиданные дарования.
Но это все гуманитарные абзацы. Итак – аппаратура.
Грубая статистика гласила: где-то каждое третье выступление срывалось, не канало, из-за аппарата. Иногда срывалось смешно. Никита Лызлов устроил Петербургу еще при Лемеговых коммерческое, мероприятие в Павловске. Часть билетов скупили павловские аборигены, часть разошлась среди городских кайфовальщиков. Отстраиваем аппаратуру – блеск! Своя плюс клубная – блеск, да и только! В зале уже воркует публика, пора выходить, но вот выясняется, что напряжение в Павловске к вечеру село, звук из динамиков прет с искажением и музыкальная коммерция может кончиться избиением артистов. Нужен выпрямитель, он каким-то образом что-то там выпрямит, но выпрямителя у Санкт-Петербурга нет. Гонец летит за выпрямителем, а я поручаю бойкому знакомцу, просочившемуся за кулисы на правах сомнительного друга, выйти на сцену и поговорить. О чем угодно. Вроде лекции о рок-музыке. Минут на двадцать. Бойкий знакомец выходит под аванс оваций и начинает гнать лапшу о Петербурге, о том, какая это выдающаяся, великая... стараясь занять время, по ступеням восходящих эпитетов добирается и до... гениальная группа сейчас выступит в Павловском деревянном клубе. Зал уже плачет, представляя себе Павловск музыкальным эпицентром мира, а нам пора уж выходить на сцену, поскольку гонец с выпрямителем не прискакал покуда, а задерживать начало значит больно слететь по лестнице эпитетов...
Жизнь все-таки дороже славы. Занавес с хрустом распахивается, мы искаженно чешем начало апробированного боевика Ты как вино, зал, не разобравшись, вопит, но скоро смолкает и также молчит после, грустно понимая, кажется, что не готов еще воспринимать гениального...
На стадионе отнеслись к моему гепатиту как к уловке волосатика и сказали:
– Волк всегда смотрит в лес.
В Университете же, пропустившего по болезни сессию и представившего справку, отпустили с богом в академический отпуск.
Судьба искушала волей, а воля – это слишком высокий и отчаянный кайф. Привыкший к дефициту времени, я не решил искушать молодую свою жизнь, хотя и мог обоснованно посвятить целых двенадцать месяцев диетическому питанию, прописанному докторами. Николай хвастался все время – работаю, мол, ночами в метро тоннельным рабочим, сплю, иногда лишь чего-нибудь, если очень попросят. Звоню Николаю, спрашиваю:
– Как думаешь, Коля, метрополитен не откажется от трудовых усилий еще одной звезды рок-музыки?
Николай отвечает невразумительно, но, кажется, меня там ждут с нетерпением. Следует проехать до Балтийской, что-то обойти, открыть какие-то двери, свернуть налево, а после направо. Еду до Балтийской и убеждаюсь – все не так. И обойти не то, и двери не те, и сперва направо, а уж после налево. Но главное совпадает – вакансия тоннельного рабочего второго разряда не занята и я занимаю ее, пройдя флюорографию и терапевтический осмотр. Сообщив счастливое известие Николаю, слышу опять же невразумительное о том, что он, мол, увольняется, и это меня отчасти печалит, но печаль поверхностна, поскольку еженощный труд дает еще один шанс прикупить микрофонно-усилительной дребедени. И это меня манит как временное призвание в этом мире борьбы за призвание постоянное.
Вот и первая ночь трудовая на участке Маяковская – Гостиный Двор Василеостровская. Нормальная осенняя гнилостная ночь. Несколько сумеречных теток, угреватый дядька и парочка таких же, как я, парубков – перед нами держит на планерке речь симпатичный мужчина в форменном кителе. Помалкиваю, слушаю. Жду, когда объявят отбой. То есть отправят спать в какие-нибудь специальные спальные комнаты.
Но объявляют наоборот. Поднимаемся по эскалатору наверх, мне вручают отбойный молоток и этим молотком я всю слякотную ночь долблю асфальт перед Гостиным, в душе оправдывая человека в форменном кителе – что ж, мы понимаем, все должно быть честно, бывают ведь авралы. Они бывают, убеждаюсь и на следующий день, бродя в катакомбах под эскалатором с холодным шлангом в руках, из которого вылетает тяжелая брызгливая струя воды, и водой этой я вымываю из катакомб дневную грязь. Да, аврал на аврале, – думается мне все шесть месяцев ночей, в которых не сплю, в которых я мотаюсь по тоннелям с молотком и колочу неведомые дырки в тюбингах для неведомой банкетки, катаю бочки, тружусь, одним словом, во славу настоящего призвания, сочиняя вслух среди подземного эха: Грязь – осенняя пора-а, что ни делаешь все зря-а. И мешает мне увлечься бесконечность – бесконечна-а! – а эхо только бу-бу-бу в ответ.
Во славу настоящего призвания Санкт-Петербург отчаянно гастролирует по бесконечным подмосткам, шаг за шагом приближаясь к звучанию полупрофессиональному и отдаляясь от непрофессионального в том смысле, что микрофонно-усилительной дребедени накупаем мы все больше, а с мастеровой ловкостью Вити Ковалева организуем ее хаос в стоящий рок-н-ролльный реквизит. Но это – бесконечное восхождение по склону без вершины.
Однажды в полдень той же слякотной осенью на проспект Металлистов почти врывается соученик по истфаку.
– Запри дверь, – говорит, и я замечаю, как он возбужден.
– Да что запирать? Заперто.
– Нет, проверь, заперты ли двери! – Он достает из сумки сверток, разворачивает. Вздрагиваю и иду проверять, хорошо ли заперты двери.
Возвращаюсь и спрашиваю с дрожью в голосе:
– Что это? – Глупый вопрос, поскольку понятно, что это.
– Глупый вопрос. И так понятно, что это. Ты понимаешь, на что я пошел?
– Нет, – отвечаю я. – На что ты пошел? Только не ври.
Он не врет, а так вот разом в лоб. И еще он говорит, что всегда стремился как-то быть в искусстве, но покамест он может только так быть в искусстве, то есть он дарит это мне, нашему Петербургу, потому что наш Петербург – это и его Петербург, а Санкт-Петербург – это в кайф".
– Я не понял. Я могу это просто так взять?
– Да. Я пошел на воровство.
– Нет... Да... То есть нет!.. То есть, конечно, да.
Мой сокурсник срезал на телевидении, где подрабатывал грузчиком, микрофон. Такие я видел только в программе Время. Микрофон сработали западно-немецкие умельцы Австрии и ФРГ, и ему цены нет. Цена-то есть – по Уголовному кодексу. Но ведь есть же и призвание. С такими друзьями, думается мне, Санкт-Петербург доберется и до профессионального звучания. Доберется, даже если у этого склона и нет вершины.
И вот мы карабкаемся по ней в связке и без страховки, и в связке нашей появляется свежеиспеченный выпускник средней школы Никитка Зайцев. Не помню, кто привел безусого, соломенно-кудрявого, пухлогубого Никитку, но он так лихо въехал со своей скрипкой-альтом в наши с Николаем композиции, что даже я, теперь уже строгий консерватор стиля и имиджа, не смог отказать. И теперь нас пятеро в связке над пропастью и кайф наш еще круче – так говорят болельщики.
А авантюристы все устраивали авантюры во славу призвания Санкт-Петербурга и своих бездонных карманов.
Очень взрослый и малословный тенорок по фамилии Карпович вписывает Санкт-Петербург отконцертировать несколько слякотных вечеров в Ораниенбауме, в спортивном манеже, который на несколько вечеров станет танцевально-концертной территорией. Нас даже законно оформляют на незаконные ставки, и в манеже мы законно-незаконно отыгрываем сколько положено и как просят. А просят не очень-то того. Но без Лемеговых имидж Санкт-Петербурга и так уж не очень-то того. Это как в трикотаже, когда 50 процентов шерсти, но и 50 процентов синтетики.
На мне новая рубаха консервативного покроя и брюки в серую полоску. Я как бы устал от успеха, но иногда еще могу раз-другой дрыгануть ножкой, а Никитка – наоборот, молодой бычок, козлик, волчонок. Не знаю. Но удачно смотрится. Николай за барабанами строг, зол и алогичен. Мастеровой Витя Ковалев словно в полудреме маячит возле Николая за моей спиной, Никита же за роялем, более склонный к демократизму и открытому веселью. Все продумано и все в кайф.
В Ораниенбауме кайфовальщики довольны, а рок-н-ролльщики смакуют каждое соло Никитки, звукоизвлечение у него действительно изумительное, и смакуют мои броски из баса в свистящий фальцет. И правильно делают, потому что все продумано. И все в кайф.
Даже бессвязное сочинение Бангладеш долгим ухарским драйвом покоряет манеж Ораниенбаума: Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб, кто имеет медный лоб, тот играет в "Спортлото"! – и тут вонзается скрипичный риф, а после него: – Бангладеш! Мы за Бангладеш!
Покорив манеж положенное количество раз, приезжаем в кассу за заработной платой и убеждаемся зрительно, что законно оформлено на незаконные ставки кроме нас еще человек десять.
Козырной туз у манежных деятелей Карповича опять же на руках. Заявление или чье-то постановление, короче, бумага, гласящая, что вокально-инструментальный ансамбль Санкт-Петербург, не имеющий никаких каких-то там прав, устроил в манеже Ораниенбаума трехдневный шабаш, выразившийся в безнравственном хождении на головах, на ушах и еще, кажется, на зубах по сцене с призывами сорвать общегосударственное дело Спортлото...
Проторенная кривая возвращает нас в Университет, где на химическом факультете невероятными организационными ухищрениями Никита Лызлов получает ангажемент. Слово иностранное звучит затейливее. Затея, однако, без выкрутасов под банальным лозунгом вечера отдыха тамошних химиков. Кайфовальщики это уже проходили и знают наизусть. Они с радостной кровожадностью наполеоновской гвардии прорывают хилые кордоны химических дружинников, оккупируют огромный узкий и пыльный зал клуба на Васильевском.
Вечер – да. Но отдых под вопросом. Предложившие все это под затейливым словом ангажемент долго не решаются объявить начало отдыха, но все же решаются, испуганные перспективой вместо отдыха стать свидетелями демонтажа их любимого клуба, и отдыхаем мы, Санкт-Петербург, обиженный Карповичем, и наполеоновская гвардия, обиженная хилостью сопротивления, по полной, так сказать, схеме, а схема эта такова, что вспоминают ее иногда и по сей день.
Долой респект и да здравствует весь спектр отработанного дрыгоножества, драйва, дурацкого Бангладеша, догепатитного сатанинства, додуманного импровизацией духарного дизайна душ! (Как говорить о музыке без аллитерации, когда лишь глухой согласной на все можно передать хоть что-то?)
Это пришло вдруг, этакая находка! Пустой бутылкой стал играть на Иолане, как на гавайской гитаре. После бутылку бац! – вдребезги. Страсти зала – также вдребезги на режущие осколки якобы объединения в одну пятисотенную глотку, поющую прощание с юностью.
Нас Карпович бьет авантюрой и доносами – бац! – Никитка взлетает на смычке, как черт (ведьма?) на метле.
Нас карикатурят в столбцах газетные неосведомленыши – бац! – Николай ломает педаль и рвет, богу твоя мама, пластик тактового.
Нам пеняют за то, что мы есть, но мы-то есть, потому что есть вы – бац! – микрофонной стойкой с размаху по крышке рояля.
Нас боготворят кайфовальщики, потому что им это в кайф, а этого – бац! – я не могу понять теперь и, как ни пытаюсь, не оживить в себе простоты понимания ТОЙ слякотной осени накануне разрядки.
После химфака Валера Черкасов (о котором – впереди) увязался в попутчики. По пути долго и тупо доказывал:
– Понимаешь, это уже почти уровень, почти Европа!
– Да, я понимаю – мы живем в Европе. Но почему лишь почти?
– Понимаешь, еще чуть-чуть – и вы прорветесь. Вот именно! Вы прорветесь, а вместе с вами и все мы.
– Да, я понимаю – мы прорвемся.
Но не понимаю, почему мы прорвемся, если я стану музицировать порожней зеленой посудой и колотить железом о рояль не в припадке обиды, а заведомо стану музицировать бутылкой, и впервые, кажется, я подумал, что мы действительно куда-то прорываемся, а прорываться куда-то – это гораздо страшнее, чем просто так. Но ничего, подумал я, не бывает просто так, подумал впервые и, похоже, впервые затосковал о тех, таких уже давних днях, когда восторженным юношей утомлял себя в спортзале, наивно представляя простоту и непреложность олимпийской стези...
Мы долго отходили после вечера отдыха, а потом прикинули кой-что кое к чему и купили чехословацкий голосовой усилитель Мьюзикл-130 за шестьсот или семьсот рублей, собрали голосовую акустику из восьми качественных динамиков 4-А-32, добрали инструментального усиления до уровня голосов, обнаружив неожиданно, что полупрофессиональная аппаратура у нас уже есть.