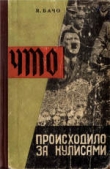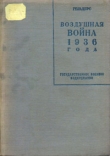Текст книги "Сиамские близнецы"
Автор книги: Владимир Сиренко
Соавторы: Лариса Захарова
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Разумеется, мое покровительство Семенову и его друзьям, мои собственные посещения полкового марксистского кружка, который по моему предложению официально значился кружком по изучению российской словесности, рано или поздно вскрылись бы. Да бог спас. Поступил я наконец в Академию Генштаба. Семенов был рад за меня. Образованные, говорил, офицеры будут крайне нужны революции. И польза моя революции обернулась тем, что ушел я с Врангелем, помогал кое-чем Фрунзе, работая в штабе генерала Кедрова, так до Крыма и дошел… Словом, до самой смерти Врангеля я шел его дорогой и, как мог, информировал о ней сам знаешь кого. А теперь тут. Стране нужна правда, чтобы жить, чтобы выжить, – добавил Багратиони после паузы. – И моя героическая Мария Петровна с дочками, Ниночка ведь в девятнадцатом родилась, шли за мной этой тяжкой дорогой. До сих пор княгинюшка не ведает, чем дышит супруг на самом-то деле. Карточными долгами попрекает, ибо управляющий из имения уже ничего не пришлет… За девочек боится. Говорит, выйдут они замуж на чужой стороне, и будут у нас не внучата, а мистеры и мисс…
Нина остановила лошадь на повороте аллеи и терпеливо ждала, когда подъедут мужчины. Было видно, девушка уже утомилась.
– Поезжай, дорогая, переодевайся, – сказал Багратиони дочери, – мы с мистером Дорном сделаем еще несколько кругов.
Когда Нина направилась к конюшням, Багратиони сказал:
– Дост в Берлине. Но связан ли его внезапный отъезд с удачным похищением досье, я сказать не могу.
Прогулка заканчивалась. Спешиваясь, Багратиони сказал, оглянувшись на дочь, стоящую у калитки:
– Так что пишите, сэр, письма, подтверждающие ваши симпатии моей семье. Шифр тот же. А вообще ваше мнение по поводу иденовского меморандума близко к моим сведениям. Но информацию, выстроенную только на умозаключениях, советую в Берлине продвигать очень осторожно, крайне осторожно. Только под давлением. Сами не пережмите. Нам выгодно, чтобы немцы приняли подобную информацию. Пережмете, ее посчитают «дезой», и вы не оберетесь неприятностей. Простите старика за поучения…
XVI
Лей недоумевал. Похоже было, будто двум агентам предоставили случай продемонстрировать свои возможности, но при этом эффективность их усилий оказалась равной нулю.
Когда появился Дост с бюваром Идена, в бюваре лежало три подлинных документа. Записка какого-то клерка о том, что следует делать Германии далеко идущие уступки, дабы лишить ее повода прибегать к насильственным методам, что следует согласиться на установление Германией экономического господства в Центральной и Юго-Восточной Европе. Второй документ – докладная главного экономического советника Форин офис Эштона-Гуэткина министру о целесообразности оказания финансовой поддержки Германии, возвращении ей части бывших колоний, расширении торговых англо-германских соглашений с целью торговой изоляции России. Конечно, подумал Лей, начальству будет приятно подержать в руках подлинник такого документа. А от третьего документа – всего одна страничка, притом последняя – и это была страничка меморандума Идена! Вот это да, сказал себе Лей, и следующей его мыслью было – лучше бы этой страницы вообще не существовало. Но он тогда еще не подозревал, какими неприятностями обернется эта история.
Дост был поражен не меньше Лея. Мямлил, что меморандум Идена лежал в бюваре целиком… Тогда что произошло? Подменили портфель? Подменили бювар? В бюваре оказались не те бумаги? Лей вызвал из Лондона Дорна.
Дорн заявил, что он лишь заказывал бювар, идентичный изображенному на переданной ему Достом фотографии. И это было его единственной обязанностью на завершающем этапе операции. Бювар Дорн отдал Досту в срок.
– Послушайте, Дорн, прежде чем нас вызовут к начальству, я все-таки хотел бы прояснить для себя некоторые вопросы. Ведь нам придется защищаться, – Лей вскинул на Дорна изучающий взгляд. – Черт знает что произошло у вас с этим досье. Последняя страница, записочки, а где весь документ? Почему он попал к Досту в укороченном виде? Вам не кажется это странным?
Дорн внимательно смотрел на Лея, слушал его и думал: «Операция расценена как провалившаяся; он готовится к взбучке, – удивился: – Неужели Лей ищет во мне союзника?»
– Скажите, Дорн, вы сознательно заняли в «Сиамских близнецах» пассивную позицию? Вы полагали, что эта операция обречена на провал? Поэтому?… Признаться, и я был склонен так думать. – Лей, похоже, говорил искренне.
– Не представляю, что руководство может поручить агентуре заранее обреченную на провал операцию, – спокойно ответил Дорн. – Чтобы скомпрометировать исполнителей? Я не допускаю подобной вероятности. Но от неудачи не гарантирован никто.
Лей поерзал в кресле. Ему очень не понравилась фраза Дорна о компрометации исполнителей. Этот выскочка будто читает его мысли.
– Стало быть, вы считаете, – сказал Лей вкрадчиво, – что итог операции – неудача? И только? В таком случае я повторю свой первый вопрос: вы сознательно заняли пассивную позицию? И если вы так уверены в порядочности руководства, не ваша ли пассивность оказалась причиной неудачи?
– Я понял, что вас настораживает. Стало быть, я слишком доверился Досту. А он практически не допустил меня к финалу работы. Свою роль в операции я бы вообще назвал технической. – Дорн смотрел в упор.
– Однако, – хмыкнул Лей. – А раздвинуть рамки этой роли заранее отказались?
– Этого я не говорил. Я прекрасно понимаю, что, разрабатывая подобные операции, следует иметь несколько вариантов их исполнения, может быть, исключающих друг друга. Тем я и занимался, но…
– Не заговаривайте мне зубы! Вы, очевидно, умышленно ничего не сделали.
– Чего же я не сделал? – возмущенно спросил Дорн, его возмущение было возмущением добросовестно поработавшего человека, которого облыжно обозвали трутнем, и Лей почувствовал это, промолчал.
Дорн продолжил напористо: – Вы прекрасно знаете, штандартенфюрер, условия моей работы в Лондоне. Да, на меня и барона Крюндера спецслужбы Королевства смотрят сквозь пальцы, отлично понимая, что стоит за моими досками и нансеновским паспортом барона, так же как и наши соответствующие органы смотрят на какого-нибудь англичанина, выдающего себя за торговца датским сливочным маслом. Но до тех пор, пока «датчанин» не затронет интересы рейха. И на меня смотрят сквозь пальцы, пока я кручусь возле досок и фон-лампеновской «Лиги», ибо бороться с III Интернационалом не грех. Я это говорю, чтобы еще раз напомнить вам, что не могу работать в открытую, завязывать в открытую те связи, которые покажут, что мои интересы куда шире борьбы с большевизмом. Мне для «Сиамских близнецов» были бы, наверное, нужны выходы на дипломатические и правительственные круги, но зачем дипломаты и члены парламента лесоторговцу? Не насторожило бы нас с вами, если бы какой-то «датчанин»-маслобойщик искал контакты с Лаллингером? Нет? Я позволю себе усомниться. Безусловно, я ищу контакты. И они у меня намечаются, складываются. Но я работаю на перспективу, ибо постоянно помню, какие задачи скоро встанут перед службой безопасности рейха, и для их исполнения мне важно не сгореть на ерунде, я не имею права рисковать.
– Ради досье министра иностранных дел можно и рискнуть! – воскликнул Лей. – Это не ерунда! «Сиамские близнецы» разрабатывались службой безопасности тоже, и, будет вам известно, в успехе операции заинтересован рейхсминистр Геринг!
– Согласен. Но я рисковал. Когда Скотланд-Ярд начнет искать похитителей, с чего он начнет? Вы это знаете, штандартенфюрер…
– Да, – согласно кивнул Лей, – они начнут искать изготовителей копии бювара, а через них – заказчика…
– У меня есть выход на случай, если придется объясняться с английскими бобби. Есть. С просьбой об изготовлении бювара по образцу обратились именно ко мне, потому что у меня есть знакомства среди русских эмигрантов, которые ищут заработок, одна из златошвеек – моя любовница, и я помог ей найти этот заработок.
– Она ваша любовница? – усмехнулся Лей.
– Нет, конечно, – с усмешкой ответил и Дорн. – Но это неважно. Важно другое – я не знал, зачем нужен бювар. Но потом я буду вынужден сказать, кто просил меня о содействии. И разумеется, я не назову имени барона Крюндера. Я скажу о мистере X, который за неделю до описываемых событий утонул, не справившись с управлением яхтой.
– Что ж, похвально. Но почему у Доста оказалась только одна страница текста? Где остальные?
– Я не видел документа, я и Доста не видел после того, как отдал ему бювар.
– Скажите, Дорн, как все-таки Досту удалось договориться с тем чиновником? Найти его?
– Деньги – все еще сила.
– А вы не знали, к кому обращался Дост?
– Мы с Достом решили, что мне лучше не знать – на случай неудачи.
– Не знаю почему, Дорн, но мне ваша пассивность в этом деле очень не нравится, – Лей выразительно посмотрел на Дорна.
– Верить или не верить своему сотруднику – это тяжкий выбор любого руководителя, штандартенфюрер, – просто ответил Дорн, думая: «К чему он клонит? Уж не к тому ли опять, как в тридцать четвертом, что я способствовал провалу, потому что я либо вражеский шпион, либо двойной агент? Ну что ж… Кажется, я перехватил инициативу, нужно это использовать».
Неожиданно для Лея Дорн принял независимую позу, его лицо вдруг обрело выражение рассказчика, который собирается поведать нечто крайне занимательное и сам предвкушает удовольствие – и свое и слушателей.
– Как я понял, штандартенфюрер, – тон чуть ли не ласковый, – по сути дела, наше общее руководство волнует не наличие бумаги с почерком британского министра, а ее содержание. Как мы с вами знаем, в правительственных кругах есть масса осведомленных людей, чья информированность покоится на самых обычных слухах. Разумеется, такое событие, как меморандум нового, да еще необыкновенно молодого, необыкновенно красивого – вам не приходилось видеть фотографии Идена? Крайне хорош, весь в мать, а про ту рассказывают, что, стоило ей появиться в свете в дни ее молодости, желающие полюбоваться необычной красотой этой леди вставали на стулья… Это к слову, сказать же я хочу вот что: меморандум молодого красивого министра, предназначенный только для членов внутреннего кабинета, явно программный документ, вызвал не меньшее любопытство, чем красота ныне престарелой леди Иден. О меморандуме раздумывали, гадали, шептались. И всегда есть два-три человека, которые помимо избранных видели… почти собственными глазами. И всегда один из них хочет поднять значимость собственной персоны в глазах четвертого именно информированностью подобного рода. Если хотите, я все время работал с подобными людьми. Может быть, они были не совсем четвертыми, может быть, десятыми или тринадцатыми, но мне удалось в известных пределах собрать данные о содержании меморандума. И если мои данные совпадут с содержанием той страницы – я ее не видел, как вам известно, – это тоже немало, ибо та продажная тварь, торгующая государственными секретами, могла и Доста надуть. Значит, Фриц поработал на совесть.
– Ну что ж, докладывайте.
«Хочешь знать, не привезли я "дезу" из кабинетов Интеллидженс сервис? – подумал Дорн. – Нет, я играю с тобой чисто, но здесь-то и спрятана ловушка для тебя, Лей, тебе не удастся сломать мне шею, не волнуйся, я не подсовываю "дезу", просто мне нужно отделаться от твоих подозрений, и не ради спасения собственной шкуры, а ради спасения моей главной работы, не той, что заставляешь меня делать ты».
– Схему я уже обрисовал, – продолжал Дорн все тем же вальяжным тоном. – И не то чтобы я прямо задавал некоторым своим знакомым каверзные вопросы, нет. Просто кое-кто из моих знакомых, обладающих определенным весом в обществе, не слишком обрадовался назначению Идена на его нынешний пост и рад поговорить о нем нелестно. Я имею в виду, например, вице-адмирала Перри, шведского коммерсанта Далеруса, лорда Хаустона. Вы, разумеется, имеете представление об этих людях. Список информаторов приложен к моей докладной о содержании меморандума. Я готов ее передать – но только через секретариат Лаллингера.
– Вы правы, Дорн… Я так вымотался с этими «близнецами», на ногах переходил обострение язвы… И одно мне не давало покоя – подобные операции не рассчитаны на стопроцентную удачу. Словом, придется оправдываться у Лаллингера. И за вашу докладную «со слов», и за последнюю страницу.
– Оправдываются виноватые. Но объясниться я готов.
И Лей в который раз позавидовал его самообладанию, умению поворачивать самую для себя неблагоприятную ситуацию если не во благо, то уж и не во вред себе.
– Я внесу в докладную еще одну важную информацию о моей последней встрече с Венсом. А он просил меня найти посредников между федерацией британской промышленности и рейхом. Да, да, именно так. И в этом качестве я предложил нашего старого друга герра Банге…
Лаллингер смотрел на докладную Дорна с саркастической улыбкой.
– Фантастика… – наконец сказал он. – Один ничего не знает, другой ничего не может понять. Один что-то слышал с «чужих слов», другой, имея в руках подлинник, не удосужился прочитать его. Откуда у вас такие сотрудники в аппарате, Лей? Неужели не нашли в полицей-президиуме покойной Веймарской республики двух-трех парней с головой?
– Это кадры не мои. И не мне, вероятно, судить о них. Даже берусь предположить, что они сейчас плачутся в жилетки своим высоким покровителям…
Лей надеялся, что Лаллингер, поняв, что под высокими покровителями Доста и Дорна имеются в виду Гейдрих и Гесс – это они в самом деле отправляли бывших штурмовиков в Лондон! – аккуратнее разделит степень вины между всеми ответственными за операцию.
Лаллингер поморщился:
– Не употребляйте, пожалуйста, выражения «плакаться в жилетку» – от него так и разит еврейством… Это вас не красит. – Лей промолчал. – Документы, которые доставил Дост, не фальшивые? Вы произвели экспертизу?
– Экспертиза подтвердила подлинность документов. Почерковеды тоже ни в чем не усомнились. Тем более образцы подписей Идена и Эштона-Гуэткина у нас имеются.
– Кто делал экспертизу?
– Науджокс.
– А… А бювар был на экспертизе?
– Нет, штандартенфюрер, нет. С какой целью?
– Вы составили сводную докладную, чтобы обрисовать картину в целом? – не отвечая, задал Лаллингер новый вопрос, неужели Лей так наивен, что не понимает, ведь Досту могли подменить тот бювар, который Дорн заказывал в Лондоне. Прямо в Форин офис и подменить.
– Разумеется, штандартенфюрер, – ответил Лей. – Вот моя памятная записка, – и он с готовностью положил ее перед Лаллингером.
Лаллингер прочитал бумагу Лея, еще раз посмотрел докладные Дорна и Доста. «Есть ли смысл отправлять Гейдриху то, что достал Дост и изложил Дорн? Ведь документы действительно подлинные… Но могут не понять… Им нужен полный подлинник документа.
– Что же касается контактов между промышленниками Британии и деловыми кругами рейха, устанавливать которые якобы уполномочен Дорн, – продолжал Лей, – то я думаю, эта возня больше всех нужна самому Дорну, чтобы ловчее наживаться на шведском лесе, не более…
– Возможно, возможно… – Лаллингер в задумчивости постучал пальцами по столу. – Немедленно отправьте Доста в Лондон. Нам нужно предъявить Гейдриху меморандум, а не его последнюю страницу. И тем более не эрзац в изложении. Сам ошибся, пусть сам и выправляется, но так, чтобы не спугнуть того человека из Форин офис, он нам, возможно, еще не раз пригодится. Вы поняли, Лей? Мы не имеем права каждый раз направлять в Лондон новых людей. Британия – не Австрия.
«Зачем им так нужен подлинник документа, зачем?» – Лей никак не мог этого понять. Потому что, естественно, Лей и предположить не мог, какого накала достигла борьба за власть между двумя «вторыми людьми Германии после фюрера» – между Герингом и Гессом, которая велась яростно, но незримо, как глубинный пожар в торфяных болотах. И, планируя «Сиамских близнецов», Гейдрих, человек Геринга, видел в получении оригинала меморандума Идена весомый шанс свалить «проанглийского» Гесса, скомпрометировать его в глазах фюрера. Только подлинный документ мог убить Гесса или тяжело ранить.
«Если Дорн вышел на промышленников и те всерьез им заинтересовались, – решил Лаллингер, – пусть он и дальше танцует с ними в паре. Говорит, им не всем нравится Иден… Нам он тоже не по душе».
– Дорна отправьте на острова неделей позже. Незачем им вместе возвращаться. И так прибыли в Берлин почти одновременно, как вагоны в железнодорожном составе.
– Или как «Сиамские близнецы», – попытался пошутить Лей. – Что прикажете делать с бумагами? Наверное, сдадим вдело, не исключено, что запросят доклад о ходе операции?
Лаллингер придвинул к себе бумаги и написал резолюцию – «В дело». «Пусть пока полежат, – удовлетворенно подумал он о принятом решении. – Так будет надежнее».
«Рассосалось», – облегченно вздохнул Лей. Он никогда не предполагал, что Лаллингер сможет спустить на тормозах столь острую для отдела ситуацию. Опрометчиво! И Лей уже загадывал, что, если когда-нибудь вопрос о меморандуме возникнет снова, эта собственноручная резолюция Лаллингера его, Лея, выручит. И выручит его Дорн, потому что Лей понял, Дорн ближе всех, даже ближе тех подлинных записочек, толковал настроения и намерения Идена. Дорн невольно становился союзником.
Когда Лей покинул кабинет, Лаллингер вызвал секретаря: – Этот бювар отправьте на экспертизу, Ганс. Цель – установить, когда и где его изготовили, сырье, манера исполнения и так далее. Срочно свяжитесь с Веной. Кальтенбруннеру надлежит организовать похищение бювара у Франкенштейна в Лондоне. У него должен быть точно такой же бювар, как меня уверяют. Доставить его сюда срочно, и тоже на экспертизу. Скажите Кальтенбруннеру, что с Франкенштейном можно не церемониться.
XVII
Кладбищенские воробьи веселились вовсю. Склевывали набухающие сиреневые бутоны, вились вокруг желтых кистей акаций, качались с зазывным чириканьем на ветках миндаля и жимолости.
Дорн шел по строго расчерченным аллеям, вглядываясь в указатели на перекрестках и имена на могилах.
Поклониться праху фрау Штутт он считал своим человеческим долгом. Не мог не сделать этого, впервые за два года оказавшись снова в Германии.
На могиле фрау Штутт стоял стандартный лютеранский крест. И все же Дорну показалось, что он заметно отличается от тех, что устанавливались лет пять – десять назад. Крест был оскорбительно похож на свастику. Дорн положил на надгробие букет, обвитый черным крепом, зажег свечу: «Спасибо вам, добрая женщина, спасибо. Если бы вы не признали во мне маленького своего крестника, что сталось бы со мною? Я пришел к вам, хотя вы не ждали меня. Меня ждала Ингрид ван Ловитц, Зина Велехова, моя радистка. А вы, как и все в Пиллау, считали ее только служанкой-поденщицей офицерской гостиницы. Она и вам помогала вести хозяйство. Помогала, чтобы не только скрасить ваше одиночество, но и иметь постоянную возможность встречаться, потом переписываться со мной, когда я оставил ваш дом, фрау Эмма, чтобы начать своей тяжкий путь». Дорну вдруг вспомнилась мысль, что человеку дорога та земля, куда он опустил своих близких. Там, на Родине, за балтийскими волнами, бьющими в кладбищенскую ограду, – могила отца, которого он уже едва помнит, забыл лицо. Отца нет уже четверть века. У Дорна мурашки поползли по спине. Время начало отсчитываться для него не десятилетиями – вековыми вехами. А здесь, в Германии, он стоит перед четвертой могилой ставшего близким человека. Нет в живых фрау Штутт, Кляйна, Карла, нет Лоры…
«Какой я тогда был наивный и "зеленый", – вспомнил Дорн себя, двадцатичетырехлетнего, одетого в старую, не по росту, солдатскую шинель. Вспомнил свой первый день в Берлине, когда, не зная, куда деваться до отхода поезда на Пиллау, сидел в привокзальном сквере и заступился за паренька, расклейщика газет, его жестоко избивали взрослые конкуренты лишь потому, что в его сумке лежала пачка геббельсовского «Ангрифа», а у тех – «Берлинер арбайтерцайтунг» Штрассера. Мальчонку звали Фред Гейден. Как странно теперь кажется, что у нацистской пропаганды был другой патрон, место доктора Геббельса занимал Грегор Штрассер, а сейчас о нем уже никто не вспоминает, хотя и прошло всего семь лет. «Будь я тогда бдительнее, я бы не полез в драку, – думал Дорн, – и значит, не познакомился бы с братом Фреда Карлом и его друзьями, Максом Боу и Фрицем Достом, и мой путь в ряды СА был бы другим, может быть, более длинным. Так что нет худа без добра… Без Фреда и Карла я не встретил бы Лору. И не узнал бы, как прекрасна первая любовь. Знал, что должен запретить себе любить ее, да молодость брала свое, видно. Гейдены готовились к свадьбе, порой я чувствовал себя последним мерзавцем, пока не наступили страшные дни июля и августа 1934 года. Да может ли человек жить без любви? Бедная фрау Эмма искренне в своем застылом одиночестве привязалась ко мне, хотя вовсе не меня крестила в церкви, но вот по сей день я ношу имя, которое она дала тому младенцу. Любил меня и доктор Кляйн… Любил, когда я был мальчишкой, а он сам – военнопленным в русском лагере, где кашеварила моя мама Глафира Алексеевна. Наверное, в те годы он любил и маму. Не зря же он часто повторял уже здесь, в Берлине, – «твоя мать была настоящая красавица». Может быть, поэтому доктор Кляйн, экономический советник фирмы Круппа, не раскрыл истинного лица русского мальчишки, которого давным-давно выучил немецкому языку? Он сразу догадался, зачем и почему я в Германии. Но помогать начал только тогда, когда понял сам, что такое Гитлер. Не мог он, опытный экономист, честный ученый, на себе познавший ужас войны, не ужаснуться тому будущему, которое готовят для его родины Гитлер и его клика. Вот и стали мы в один ряд плечо к плечу, однажды случайно встретившись на берлинской улице. Вместе начали бороться против дьявольского фашистского обольщения немецкого народа.
– О, герр Дорн! – окликнул чей-то голос. – Давненько…
Роберт оглянулся. На аллее стоял пастор Принт. Дорн поклонился ему. Пастор подошел к могиле, автоматически благословил Дорна, осмотрел надгробие и холмик, вырвал два сорняка, затерявшихся в дерне.
– Это хорошо, сын мой, что вы не забываете… чтите… – в голосе пастора Дорн уловил подавленность. – Говорят, наша Ингрид нашла себе приют рядом с вами. Я всегда был спокоен за детей, пока она оставалась их няней.
– Да, герр Принт. Но видимся мы редко. Ингрид управляет моей фабрикой в Швеции. А я живу в Лондоне.
– Значит, вы… – пастор понимающе закивал. – Разумеется. Вы всегда были человеком с большим сердцем. Как ваша мать, да помянет ее Господь. Да, истинно, сердце христианина заставляет его если не бороться, то удалиться от мест, где торжествуют силы тьмы. И вы уехали, – голос пастора стал еще подавленней. – Как здоровье Ингрид? После той чудовищной клеветы… А ведь она дочь священника.
– Все обошлось, слава Всевышнему, дорогой пастор. Справедливость восторжествовала.
– Да, конечно. Вы, наверное, не знали… Ведь и у фрау Штутт, и даже у меня тогда был обыск! Искали телеграфное устройство! Кто мог так оклеветать нашу бедную Ингрид? Господь покарает того человека, кто бы он ни был, я уверен. И ваша нареченная… Я молюсь о ее душе. Я так сочувствую вам, герр Дорн!
«Какая уж там была справедливость! – горько думал Дорн. – Если бы Лей смог хоть что-то доказать, пастору пришлось бы поминать в своих молитвах и Ингрид, и меня. Нас спас Кляйн, да, он спас нас, он умер на допросе у Лея. У Лея на допросе умер советник Круппа, против которого, если бы пришлось объясняться, СД не имело никаких компрометирующих материалов. Ничего, кроме подозрений, в глазах любого непредвзятого человека выглядевших наветом. Лей испугался ответственности. Дело поспешили закрыть. Кляйн смертию смерть попрал… Ингрид молодец, успела до ареста надежно спрятать рацию. И помог Центр. В Пиллау снова заработал передатчик, который активно искал Банге и у Ингрид, и у фрау Эммы, и даже у пастора, когда Ингрид уже находилась в тюрьме. И разрушились все хитроумные обвинительные построения штандартенфюрера СС Лея. А потом мне пришлось напомнить Лею о его старых грехах, и он, чтобы я получше о них забыл, посоветовал мне увезти Ингрид из Германии. А с Лорой я опоздал. Я опоздал, а они поспешили убрать свидетеля гибели Кляйна. Они очень боялись Круппа, его близости к Гитлеру».
– Хотел бы видеть вас на проповеди, – сказал пастор Дорну.
– Конечно, – ответил Роберт. – Я всегда любил слушать вас, герр Принт. Не у каждого духовного отца слово Божье так приближено к реальной жизни и так действенно.
Пастор печально улыбнулся:
– Герр Банге рекомендовал мне пересмотреть мои проповеди, дабы они не противоречили современным взглядам.
«Это уж точно, – невольно подумал Дорн. – Как провозгласить с амвона, к примеру, равенство людей перед Богом, когда выяснилось, что между людьми и Богом есть еще и арийская раса? Пониже, разумеется, господа, но куда выше прочих людишек. А что делать с заповедями "не укради", "не убий", если пропаганда готовит всех немцев к грабительской войне? Остается лишь посочувствовать его преподобию».
– А вот настоятель церкви Святой Магдалены, мой коллега, не согласился с рекомендациями герра Банге. И его уже нет в церкви Святой Магдалены. Но я не уверен, что во Флоссенбурге он получил приход. – Дорн вздрогнул. И отбудничного упоминания страшного, уже известного за границей как «фабрика смерти» лагеря, где жертвы приветствовали смерть, если она наступала быстро, и от предельной откровенности пастора. Уж не провокация ли это? Ингрид, знавшая близко семью Принта, считала пастора очень порядочным человеком. Если это не провокация, неужели уже нет сил сдерживаться, не осуждать вслух государственный режим без страха перед жестоким наказанием? Что же будет дальше?
– Ну а как ваши дела? – спросил пастор. – Надеюсь, неплохо?
На колокольне зазвонили, Дорн понял, что разговор заканчивается.
– Жду вас к себе в любое время, – пастор поклонился и пошел. Сутану развевал морской ветер.
На другой день к вечеру Дорн добрался до Кенигсберга, где разыскал Банге. «Дядюшка Ари» жил в районе зоопарка, сразу за стадионом. Дорна встретила горничная – нечто новое в обиходе бывшего пиллауского отставника. Горничная вела гостя через комнаты. Бархатные обои, зеркала и полировка дорогой мебели – все демонстрировало, насколько поднялся не только общественный, но и финансовый вес герра Банге.
Когда горничная доложила о приходе Дорна, Банге смутился. Положа руку на сердце, он даже мог сказать, что не хотел бы встречаться с человеком, которому принес немало горя. Если бы тогда он нашел тот злосчастный передатчик, а не арестовал сгоряча ван Ловитц и невесту Дорна, он бы уже работал в Берлине. Но гусак Гейдрих проколов не забывает. Черт бы их всех побрал… и этих глупых фройлен, и старого профессора, уж ему вообще незачем было вмешиваться, и Дорна. Правда, мысль, что Дорн явился осуществить святую месть, так и не пришла в голову Банге, рыцарские времена прошли, и если Дорн себя преодолел и приехал, значит, надо, очень надо. Но в чем состояла эта необходимость, Банге представить себе не мог, это его смущало и тревожило.
«А может быть, он просто не знает, что его подружек упек в СД именно я? – вдруг поразила мысль. – Нет, не может не знать. Значит, хочет просить протекции. Когда сильно нужна помощь, ничего не помнишь, себе на горло наступишь, ненависть в любовь обратишь», – Банге всегда льстило, когда к нему приходили кланяться.
«Дядюшка Ари» явно специально для встречи Дорна восседал за рабочим столом с аккуратно разложенными стопками папок, слишком уж театрально выглядела его деловая поза. Обстановка кабинета с мраморным камином, который топился, несмотря на теплый вечер, напоминала дорогую декорацию к дешевой пьесе – но сам он этого не ощущал. «Лесопилка – это хорошо, и агентурная работа у англичан тоже неплохо, – думал он, разглядывая своего неожиданного гостя. – Но понимает же он, что настоящую карьеру сделает только в Берлине. А к кому ему еще обратиться, если не к старому другу отца?»
– Рад, рад… – Банге торопливым движением сдвинул бумаги, будто неожиданно оторвался от важного дела, но оторвался с готовностью, поскольку превыше всего ценит общение с другом, единомышленником и воспитанником. – Очень рад. Остепенился. Не женился? Нет?! Семья – основа карьеры, все больше в этом убеждаюсь. Семейному человеку есть во имя чего терпеть и стремиться… Поэтому с него можно требовать. А что возьмешь с холостяка? Ха-ха! Рад, рад видеть тебя, Роберт, – он наконец встал и шагнул из-за стола. – Ну как, большие прибыли дает твое дело? Но скромен. Предельно элегантен. Значит, богат. – Банге потрепал Дорна по плечу. – А скромность всегда была тебе свойственна. Скромность и партийная дисциплина.
– Я приехал к вам по делу, герр Банге, – Дорн уловил, что тот не называет его, как в былые времена, «сынком» и «пареньком», а потому не стал вворачивать «дядюшку», на котором Банге так настаивал когда-то, естественно, ведь он больше не нуждается во влиятельных и богатых родственниках, хотя и дальних.
«Впрочем, – не слушая ни себя, ни Роберта, продолжал ломать голову Банге, и эта новая мысль и успокаивала и объясняла поведение Дорна, – все дело в том, что он простак. Они все, Дорны, испокон веку простаки. Оттого у них ничего путем не складывалось, что все наружу, по правилам. Правила штука хорошая, исключают необходимость думать и маневрировать – чего напрягаться, действуя по правилам? А что предписывают правила доброму прихожанину? Вот именно, сиди и, не возражая, принимай на себя удары судьбы. Он и принял. Да, Дорн такой, как и вся их порода. Не толкни я его в порт, когда он вернулся из Кейптауна после смерти родителей, так бы и остался безработным. Еще ниже бы пал, пожалуй. И не посоветуй я ему отправиться в Берлин к тем славным парням из СА, что приветили его, так и шатался бы по сей день по Пиллау. А ведь послушай он меня тогда, когда я был готов пристроить его к Гейдриху, был бы сейчас если не на первых, так на вторых ролях, для него и то много… Что он сейчас собой представляет? Агентишка. Никогда карьеры сам не сделает. И все потому, что он… как это называется… щепетильный. "Не беспокойтесь, герр Банге…" Хотя тогда он меня еще и дядюшкой величал. Теперь не называет. Почему? – опять встрепенулся Банге. – Не простил? Значит, пришел с хитростью? Ладно, послушаем…» – и Банге приготовился слушать, величественно проговорив:
– Так что же привело тебя ко мне после стольких лет?
С тридцать третьего года Банге только и делал, что подозревал, ибо, едва Гитлер пришел к власти, он понял, как можно выделиться при новом режиме, когда одной железной преданности мало, – только активно искореняя инакомыслящих, инакоговорящих, инакопоступающих. Иначе какие у него могли быть вопросы к девице по имени Лора, невесте Дорна, служащей фирмы Круппа, которую он видел первый раз в жизни, к Ингрид, которую он всю жизнь знал и даже относился к ней с симпатией? Однако… Зачем они сели за один стол с английским журналистом О'Брайном, который явился разыскивать в Пиллау командира отряда штурмовиков Дорна именно тогда, когда фюрер поставил под сомнение существование СА, их право на жизнь? Почему не днем раньше или неделей позже, а именно 30 июля? Это было слишком подозрительно.