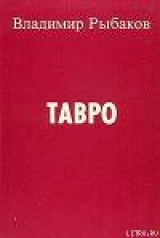
Текст книги "Тавро"
Автор книги: Владимир Рыбаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Мальцев решил рискнуть. И взревел вместе с мотором. Восторг душил, доказательство его мирных намерений к этой стране жило в урчащем моторе. Он сделал черным маслом знак креста на лице. И только после этого понял, что сделал.
Фермер спросил:
– Сколько я вам должен? («Вот дубина. Идиотина».)
– Да что вы, это я вас должен благодарить. Фермер был явно рад:
– Ладно. Пойдем ко мне, выпьем. Не думал, что вас так хорошо в армии учат. Тебя как зовут?
– Святослав.
– Сва – что? Что это за имя такое?
– Русское. Я русский… советский. А что?
Фермер замотал головой:
– Нет, ничего. Просто у вас акцента нет. А так ничего, у нас тут несколько русских есть. Заходите.
Мальцев мыл руки пахучим жидким мылом, вдыхал воздух деревенской кухни, пил домашнее вино, смотрел на кряжистую женщину, крепко бегающую из двора на кухню, все хотел о чем-то спросить фермера, – но вопрос юлил, хотя и был важным.
– Ты в деловой поездке?
– В командировке? Нет, я эмигрант.
– Так ты – белый русский? Мальцев рассмеялся:
– Нет, я не беляк. Им мог быть мой дед. Пожалуй… Я знаю, что у вас во Франции не принято спрашивать о политических умонастроениях собеседника, так что я у вас ничего не спрошу, вы у меня ничего не спросите – я просто отвечу: я не коммунист.
Фермер промолчал, подлил вина, вдохнул с шумной вежливостью:
– Да, не был я в России. Да что там, на недельный отпуск времени нет.
Мальцев хотел ему сказать, что нужно ему непременно побывать в Союзе, как вопрос перестал изворачиваться.
– Вы… вы сказали, что здесь живут русские. Какие русские? Где? Откуда?
– Не знаю. Наверное, во время войны к нам пришли. Одна живет близко, в двух километрах. Ее зовут Катя Соже. Вы выйдете на Национальную, повернете направо. Увидите дом с красной крышей и резными ставнями. Это там.
Фермер попрощался с большой душевностью. «Честно или радуется, что денег с него не взял?»
Но в общем, этот дядька понравился Мальцеву. В нем было четким уважение к себе, чувство собственного достоинства и, пожалуй, эгоизм, признающий эгоизм других. «Кулак, настоящий кулак». Хотя фермер пригласил его заходить, когда ему вздумается, Мальцев все же пожалел, что ляпнул о своем антикоммунизме. «Еще подумает, что я ренегат, предатель или еще чего». Дорогой он думал о тракторе, о доме, о хозяйстве. «На себя работает». На душе стало на редкость радостно, свежо. Ему захотелось уткнуться в шею Бриджит. «Где ты там?» Он все оглядывался по сторонам, и праздник в нем раздувал восторги. «Хорошо живут. Ухаживают за своим добром. А что, у своей коровы вымя не режут. Они сумели сохранить землю и ее цену, вот главное».
Увидев русскую народную резьбу на ставнях белого дома с красной черепицей, Мальцев вздрогнул. Подходя к калитке, он дал себе слово, что погладит ставни.
Звонку ответил лай собаки. Ему показалось – залаяла по-русски. Затем появилась громадная женщина, стоящая на пороге мощной старости.
– Что такое?
Славянский акцент был настолько силен, что Мальцев решился забыть французский:
– Простите, мне вот сказали… я вот и… здравствуйте.
Женщина встрепенулась, замахала руками, закричала:
– Русский! Как я рада! Заходите же, заходите. Как рада!
Она подбежала к Мальцеву, вцепилась в его руки, ощупала взглядом крепче, чем руками, нечаянно стукнула локтем больные ребра, да так, что слезинки выбросились из мальцевских глаз, и наконец, поддавшись выплеснувшемуся порыву, поцеловала нежданного гостя в щеку. И смутилась, покраснела, как старая дева. Приглашала, вела в дом с подчеркнутой вежливостью – и путая языки. После фермерского вина Мальцеву для серьезного хмеля нужен был пустяк. Баба же стукнула об стол бутылкой водки. Сама выпила стакан. И заговорила без передышки. Она видела в Мальцеве свое детство, отрочество. Родное село казалось ей теперь бело-красивым. Подсолнухи возле хат, яблоневый дым по утрам, смеющаяся мать. «Я раз ездила в Россию. Давно уже. Туристкой. Но во сне все довоенную жизнь вижу».
Хорошо было… детство… потом немцы пришли. Председатель стал старостой. Для отправки в Германию она была маленькой по возрасту, но староста все равно записал – вместо своей дочери. Самым ужасным воспоминанием была остриженная немцами голова. А однажды на заводе, когда волосы уже отросли, начал ее лапать мастер с нацистской повязкой на руке. Катя ударила чем попадя, и только затем подумала о наказании. О смерти как-то не думалось. «У нас камеру называли стеной – можно было только стоять. Я простояла трое суток. Когда выносили, услышала, что сердце мое еще бьется». Мальцев удивился:
– Странно. А почему вас не расстреляли?
Катя не знала. Хотя, конечно, одну подружку из ее барака – умирала от туберкулеза – приказали закопать. Та только отходила, но еще не отошла. Они хотели ее тайно ударить лопатой, но не осмелились. Во-первых, грех, во-вторых, увидели бы немцы – в ту же яму могли скинуть. Но была одна немка – у нее была парикмахерская – что Кате есть давала, а однажды даже прическу ей сделала. Это был самый счастливый день в ее жизни. А почему она здесь – произошло за несколько месяцев до освобождения. Тогда американцы сильно бомбили. Воспользовавшись одной такой бомбежкой, и взял француз ее невинность. Лесок. Свист и взрывы. Хотелось больше всего зарыться в землю, а француз – она с ним уже несколько раз танцевала – …
– Что? Как это: танцевали? Вы что, на курорте там были, что ли?
– Мы с голоду умирали, ну а потанцевать немцы иногда разрешали.
В общем, француз как бы прикрыл ее своим телом. Она от страха и не заметила, как стала женщиной. Потом до прихода американцев Роже больше не появлялся, зато у Кати появилось брюхо. Когда пришли танки со звездами – ей было все равно, американские или советские они – она кричала от радости меньше других. К ней подошел длинный негр с руками полными гостинцев. Хотел ее поцеловать. Острейшее воспоминание – первый раз увиденное черное лицо приближалось: она завизжала. «Он отпрянул, грустно улыбнулся, дал мне печенье, шоколад и молча ушел. Хороший оказался дяденька». Катя хотела вернуться домой, к матери, но…
– Но вы знали, что вас у нас ждет? Да?
– Что? Да. Я не могла вернуться из-за пуза – мать меня не приняла бы, или во всяком случае, всю жизнь бы попрекала. Стыдно мне было.
Мальцев слушал, отпивал из стакана. Какой негр? Какое пузо? Тогда ведь миллионы людей возвращались… Одного из них Мальцев встретил в Верхоянске. Старик был прорабом, боялся всего и бредил о плане. Мальцев ему втолковывал, что при -60° заниматься электросваркой нельзя, швы лопнут. Старик отвечал, что он об этом знал еще до Святославова рожденья, но что варить все равно надо, потому что рабочий день есть рабочий день, а план есть план. Швы, как им и положено, лопались, вся работа шла насмарку, а старик искренне жалел план и Мальцева: «Бывает хуже. Надо всегда думать, что бывает хуже».
Старик в свое время отсидел в немецком лагере три года, а после в нашем – двенадцать. «Да, знал я, еще будучи у фрицев, что нас ждет. Так и думал, что отсижу свою десятку, а после, если повезет, буду жить. Как щас. Я ж тебе повторяю, что „бывает хуже“. Почему? Что почему? А куда мне было деваться, в ихней Германии остаться или еще чего. Дурак ты, все равно не поймешь. Время такое было».
А Кате помешало ехать пузо. Малец, что там сидел, спас жизнь себе и своей мамаше… ей было, видите ли, стыдно.
– Не знаю, что случилось бы. Может руки на себя наложила бы. Только взял Роже и вернулся за мной. Привез сюда и забросил. Я по-французски не выражалась. Когда – я уже тогда первого родила – вызвали меня в мэрию, и я увидела там поджидавшего советского офицера, сразу решила, что поеду домой. Офицер начал и так, и сяк, и по-всякому. Мол, примем вместе с ребенком, мать-родина позаботится. А после сказал вдруг, что будет мне прощение. За эти месяцы много чего произошло, стала я и бабой, и матерью, и с жизнью здесь ознакомилась. Я офицеру и сказала, что меня прощать не за что. Это я, может быть, должна кому-то прощать. И ушла. Так и осталась. Троих родила. Роже пил, изменял. На мне было все хозяйство. У нас люди спиваются не так, как в России. У меня отец от водки помер. Еще перед войной. Здесь пьют целый день спокойно, тихо пьют, и это даже им не мешает работать. Вот Роже за два десятка лет печень свою и угробил. Оттого и помер.
Сквозь марево опьянения Мальцев все же ощутил некую странность в разговоре и поведении этой женщины. Она говорила по-русски с усердием. О французах говорила «нас» – и это было естественным. И она ни о чем не спрашивала, только вспоминала.
– А много у вас земли?
– Двести пятьдесят гектаров.
– Много.
– Ничего. Роже был деловым, меня научил. Только вот хозяйство передать некому. Один сын стал профессиональным футболистом, два других – моряками, в море ходят.
«Молодец стерва. Богатая. Как же она может с таким добрым лицом батраков эксплуатировать?»
– А много вы платите своим рабочим? Катя рассмеялась:
– Сколько положено. Вы что, хотите поработать? Остались бы, век уже русского не видела.
– Тоскуете по родине?
Женщина засмущалась, сникла. Розовое поползло по щекам.
– Как вам сказать… нет, пожалуй. Привыкла уже. И русский стала забывать… Нет, нет, не наливай, голова уже закружилась. Да, так о чем… да, свое все стало здесь.
«Преда… черт, гадость всякая в голову лезет».
Мальцев сам смутился, но все-таки спросил:
– Но не хотели бы вы эту землю иметь у себя в деревне? Ну, чтоб, как здесь, хозяйкой быть?
Мальцев увидел: погрустнели встревоженные водкой глаза, зашевелились, хватая будущее, руки, заколыхалась грудь, вздрогнуло несколько раз тело.
– Как это ты додумался до такого? Не, не вижу я себя в той, в нашей деревне. Не представляю. Когда поехала повидать своих, так мать побоялась со мной встретиться, побежала просить разрешения у председателя. Я тогда сильно обиделась. Тетя пришла, не на меня смотреть – на одежду. Не обо мне спрашивала – о ценах. Помню хотелось поскорее домой вернуться, сюда. Все было там чужим и вместе с тем родным. Но больше чужим. Вечером ушла я в поле, села прямо в пальто на землю и заплакала. Так, как в одну довоенную ночь. Тетя работала при складе – была более сытой, чем мы. И вот как-то сказала она мне прийти к ней за темнотой. Мать помолилась, повторила, что мы, может быть, с голоду-таки не помрем. Мне было тогда лет четырнадцать или пятнадцать; темноты боялась до ужаса. Но пошла. Тетя открыла дверь, дала кулек муки, но не дала мне долго увидеть свет, что у нее в доме был. А я так надеялась привыкнуть к нему, прежде чем снова уйти в темь. Заплакала я и пошла со слезами, со страхом. Плакала от…
– От жизни.
– Да, – согласилась Катя. – Осень была, еще до заморозков, грязь была большая. И вдруг – как теперь помню – почуяла, что мука по руке потекла. Кулек из газеты был, вот и прохудился местами. Я хотела быстро заткнуть дыру пальцем, но руки не слушались, потому как от голода распухли. Я стояла и думала, что убьет, непременно убьет меня за это мамаша. Двинуть рукой боялась – вся мука могла уйти на землю. У нас тогда в деревне не то что фонарика, спичек не было. Если б пропала мука, лучше мне было утопиться, чем домой идти. Тут мне пришла в голову догадка – наклонить кулек. Смеешься? Это сейчас кажется проще простого. А газета-то могла ведь совсем порваться. Но я наклонила, и ничего не произошло. Ну, подумала, жизнь моя спасена. И заплакала, уже от радости. Хотела дальше шагать, но ведь мука-то по пальцам текла, значит она, хоть какой-то вес, у ног лежит. Хотела переступить, но от жадности не смогла сдвинуться с места. Упала на колени, стала шарить языком. Все грязь попадалась. А потом от боли в спине повалилась на бок, держа руки с кульком протянутыми. Снова заплакала от горя, а когда язык нашел муку – от счастья. Пока вставала, опять… Утром нашла у себя седой волос, первый в жизни.
Да-да, об этом я вспомнила, когда приехала в Россию. А тетя, та самая, просила материал на платье. Я ей послала. Но больше в деревню не ездила и матери не видела.
Катя Соже внимательно поглядела на Мальцева, на бутылку, закрыла глаза.
Мальцеву все время казалось, что он падает со стула. Голова тяжелела. Он, сам себя не слыша, ворчал. «Нет, нет, так дело не пойдет. А Бриджит, она – сука. Все – суки. Не хочу быть здесь».
Катя сказала с тяжелым удивлением:
– Странно, никогда не вспоминала за последние годы о том, как голодно, холодно было в России. Я ведь в Москве, в Ленинграде была. Красиво там. Замечательно. Я одна здесь, сыновья по своей жизни разошлись. Одна радость, Россию помнить. А ты вот – я буду тебе тыкать – заставил меня и о ней плохо подумать.
Мальцев покачался на стуле и, как бы отвечая, схватил стакан и со всей силой разбил его об стену. Закричал:
– Надоело! А ты… – лицо Мальцева сморщилось, – Россия, Россия. Я домой хочу, в Ярославль. Понимаешь? Себя ищу, доброе зло ищу? Домой хочу, пусть посадят. Дома, небось, за то, что работать хочу, ребра не покалечат. А, правды боишься?
Его мягко схватили две огромные руки. Он попытался их отодрать, но тут же прижался к ним лицом, пьяно поплакал и, продолжая жалеть себя, слабо ругал весь мир, пока не уснул.
Мальцев проснулся в пахнувших чистой водой простынях. В голове шумело, но отвращения к себе он против ожидания не почувствовал. Порылся в памяти. Провал был большим – сидел, пил, слушал… и все. Как добрался до постели, как разделся, как уснул… «Ладно, дом-то цел». Но когда Катя вошла, он на всякий случай потупил глаза.
– Проснулся питух? Да, да ты впрямь питух и петух. На. Это – рассол.
Мальчишка вызывал в Кате порывы острой жалости. «Изнервничался он, бедняга. Я тоже была такой, потерянной. Я плакала, а он посуду бьет».
Мальцев выпил рассол с наслаждением, взглянул на Катю с кроткой благодарностью. Подчиняясь чувству, она наклонилась и прижалась к его лбу губами.
За завтраком Катя стала расспрашивать гостя, хорошо ли он отдохнул.
– Ты как баба-яга: накормила, напоила, спать уложила, а допрос начала на следующее утро. Только баньки нетути.
Катя промолчала, выслушала короткий рассказ об удивительной жизни гостя, сказала машинально:
– Меня вывезли, ты сам убежал. А кому все это нужно? Хотя…
И только увидев омрачившееся его лицо, добавила, придав своему большому лицу лукавство:
– …хотя бы нужно потому, что у меня есть и баня.
– Настоящая? Не может быть?!
– Может.
Пар был сухим, белым, чистым, сильным. Веник – березовым, полка – из сосны, в жбане в предбаннике – настоящий квас. Почти кипящий воздух въедался в тело, буравил, делал усталость из неприятной приятной, пробирался к размышлениям, давая спокойствие бурным мыслям, острым догадкам. Мальцев скосил глаза – борода как бы дымилась.
«Затопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык…»
«Мы не свиньи, ко всему привыкаем, даже к чужим мирам. Я тоже привыкну. Тетка Катя вот не только освоилась – русскую баньку в Вандее завела. А с памятью западная жизнь сама словчила: перебрала с годами все пласты – злое убрала, доброе, красивое нагромоздила, как будто как попало, а на деле с умыслом. Так, чтобы от детского цветка на лужайке все по чудесной молодости ступать. Так голод превращается во вкусную черствую горбушку черного хлеба, беззубый рот матери – в плотно сжатые суровые, но любящие губы, холод – в красивую зиму. Чего люди не помнят – не было. Достаточно забыть неудобное. Просто. Вот Катя и поехала в Союз за доказательствами своего былого счастья, своей чудесной молодости.
Ничего, я ей покажу, она у меня узнает свою молодость. Жалко, правда, немного. Баба все-таки, женщина. Потому, наверное, я ей и сказал – когда мило спросила, – что не привязан к Бриджит. Соврал. Глупо это как-то – влюбиться во француженку.
Сказал бы парилочным корешам: влюбился не просто, а в дочь сенатора, и она у меня что думаю – читает и повторяет. Они бы удушились на месте, а вообще – просто не поверили бы. А чему бы поверили? Что есть люди, верующие в коммунизм, что ли? Или что в булочной хлеб заворачивают в тонкую бумагу да еще спасибо говорят?
Мальцев спустился с полки, просунул руку в предбанник, зачерпнул квасу. Облился холодной водой – ледяной не было. Пар боролся с водой, не принося телу свежесть. Он слегка обеспокоился, но затем решил, что летом в парилке нужной прохлады все равно не найти ни во Франции, ни в Сибири – и потому нечего искать в Западе причину, очередную, отсутствия внутреннего благозвучия.
Мальцев медленно осознавал, насколько он соскучился по парилке. С детства пар занимал в его жизни и в жизни его друзей особое место. Там они ощущали себя взрослыми, затем становились ими без хвастовства: „Удивительно, я здесь могу говорить о бабах как о людях“. Когда начали появляться опасные мысли, каждый мог доверять их уху друга – не будучи на взводе – только окруженный мокрым паром, этой белой стеной, скрывающей лица, мир, власть, страх.
Здесь пар был сухим, но и бояться было как будто нечего. Безопасность казалась глуповатой… какой толк говорить недозволенное, когда все дозволено. Мальцев, тревожась за себя, постарался легкомысленно улыбнуться: „Какая чушь!“
Он стал думать о Бриджит, скучать по ней, мягко, с легкой тоской. Незаметно приплыли груди, бедра, руки, иногда лица женщин, оставшихся там. Вместо позабытых имен к движениям плеч, шей прилеплялись прозвища: Добрая, Ласковая, Продувная, Еще, Истерика, Корова. Вперемежку приходили слова, запахи, брови тех, которых Мальцев не добился – не нравился, поленился, не понял, не было денег на ресторан, на бутылку, на кино. Теперь он был рад своим былым осечкам – в них гнездилась чистота честных неудач. Женщины, ушедшие из прошлого, не пробудили в Мальцеве желаний, пар был сильнее.
Бриджит вытеснила образы из настоящего, встала – „бесстыдница“ – по-особенному приоткрывая губы, зовя внезапной слабостью шеи. Но желание в Мальцеве пробралось только к рукам – создало пальцами по горячему воздуху свой рисунок-отражение и вновь спряталось.
Одеваясь в предбаннике, он с ленцой размышлял о роли женщин в его существовании. Нашел, что, в общем-то, он их в прошлом недооценивал. Подобно многим ребятам из послевоенных поколений, Мальцев попал мальчишкой на широченную сорокалетнюю женщину. Рука первой любовницы, казалось, закрывала половину его спины. У нее, в отличие от большинства изголодавшихся по ласке баб, был и муж, и довольство. Но раненый и тоскующий по своему истребителю летчик – трудный для семейной жизни человек. На жене не полетишь, а если к тому же часть черепа заменена металлической пластиной, под которой боль перекатывается, кружит голову, ослабляет спину, то жена не только не мила, но часто ненавистна своим цветением, доступностью. Жесткость и страстная отчужденность – он их нагнетал, разнообразил – стали пищей для чувств мужа к жене. Она же тосковала не так по мужчине, как по нежности, а полные обожания глаза мальчишки-соседа делали ее счастливой. Истома длилась, пока она ощущала на себе его взгляд, потом спокойная горечь вновь овладевала жизнью. На работе она видела себя старой вещью, к которой льнут другие старые вещи. А Мальцев слишком часто приходил просить соль, масло. Раз, не договорив, набросился, сам ужаснулся, стал целовать руки. „Да, – часто думала она, – стоило дожить до этих дней. Стоило“.
Их связь длилась долго. Уже будучи мужчиной, Мальцев наведывался, гладил, обнимал. Когда он исчез, женщина убедилась, что, оказывается, она уже давно старая. И повторяла с улыбкой ушедшей зрелости: „…суета сует“.
Мальцев привык видеть в женщине любовницу, жену и мать. Ровесницы его не интересовали – их мысли и тела не знали глубины жизни. Они говорили о любви, грубо захлебываясь, их руки были сухи от страсти или мокры от неопытных усилий. Мальцева, как и многих его товарищей, тянуло к бабам, в которых, как они говорили, сочеталась азиатская коварная покорность, европейская независимость и русская жалость. А тут говорят, что русские бабы грубы.
А что делать женщине, которую напасти едят, словно густая пелена неистребимых вшей? Найти отдушину, куда можно было бы свалить разом все накопившиеся и не находящие выхода диковинные чувства. А злых ощущений даже мало выходит на день толкотни в автобусах, поездах, везде; на рабочие часы, когда только черное может победить серое; и на очереди, бесконечные, вездесущие, мрачно спокойные, мрачно истеричные – не дающие человеку передышки до работы, в перерыв, после работы. Мужик, изматерившись, закуривает, наголодавшись по недоступным и чудесным по своей простоте ощущениям – напивается. Придя домой, сваливается на диван, болеет за свою команду. У женщины нет передышки, ей некогда отойти от грубости, хамства, злобы – не дают времени ни мига. Только ее ребенок может… а если нет его, если уже вырос и ушел? Но вот – отдушина. Он, Мальцев, или другие. Да, ему везло. Когда в глазах и теле женщины сосредотачиваются нежность, любовь и страсть… В жизни нет чудес, есть только то, что случается часто, и то, что случается редко. Необычайное мешало Мальцеву увидеть красоту в обыденном.
„А что, хорошее было время, когда я не знал, что не свободен“. Мальцев вышел из бани во Францию, поглядел на ее опрятность, поискал в себе радость, подумал, что нечего искать, и выругался погрязнее. Вспомнил свои мысли о мужчинах и жадно закурил. Напишет Бриджит ему или не напишет? Любит он ее или прикрывается ею?
Ветер подул в бороду. „Не напишет“. Катя звала с крыльца, махала ручищами. Мальцеву хотелось сжать плечо Бриджит. Ему казалось, что он сам создает этот проклятый ветер, дующий, дующий. Спрятавшись от него, он сразу подумал, что любит Бриджит и прикрывается ею.
За ужином Мальцев уплетал устриц и улиток так, что приглашенный Катей пожилой француз только моргал, не понимая, как можно наедаться закусками. Он часто поднимал бровь, подмигивал Кате, в конце концов развел руками, но, считая учтивость превыше всего, заговорил о другом:
– Да, я всегда уважал русских. Без них мы бы немцев не разбили.
Мальцев доедал сороковую улитку.
– Вы много потеряли людей во время войны, но вы, русские, победили. Тут многие стали поговаривать, что только американцы выиграли войну. Это неправда. Я помню, как немцы не взяли Москвы. Такого раньше не бывало – когда они выходили на дорогу, ведущую к какому-нибудь городу, то всегда брали его. Для нас известие, что они не взяли Москву, было большим праздником. А Сталинград!
Вино приятно захватило Мальцеву нёбо.
– А американцы без нашего маки ничего бы не смогли сделать. Наши партизаны били немцев сзади. Каждый день они исчезали. До сих пор следов нет, а я знаю – вот неподалеку – несколько местечек, где, если копнуть…
Мальцев слушал с нарастающим раздражением.
– …Мы, маки, тоже были не без работы. Мы тоже свое дело сделали. Не правда ли? Вы там, в России, об этом знали, слышали? Партизаны у вас тоже хорошо поработали. Правда?
„Нашел чем хвастаться! У нас эта дурь хоть обязательна, а здесь же он легко может разобраться в этом вопросе, найти данные, сравнить, выводы сделать. Так нет, старый хрыч!“
Но Мальцеву все же захотелось раззадорить старика-француза, а заодно дать и первый урок ума-разума благодушно кивающей Кате. „Врезать по-матушке под дыхало“.
– Прошу прощения, но я с вами совершенно не согласен. Вам как раз повезло, что партизанское движение было во Франции совсем слабым. Вы своей разумностью спасли от бессмысленной гибели, от разрушений, от страданий миллионы людей.
Француз подскочил, глаза выпучились, краска поползла к белкам:
– Как! Как вы смеете! Вам должно быть стыдно, молодой человек. Бессмысленная? Люди пали за свободу! Нацисты убивали, жгли, вешали.
Мальцев внутренне хихикнул. „Дает. Как лектор на партийном собрании“.
Написав на лице снисходительное превосходство, Мальцев возразил:
– Воевать надо как положено – в обмундировании, с погонами на плечах, со знаками отличия в петлицах, и с оружием в руках. А не проходя в гражданском мимо солдата, стрелять ему после в спину. Солдат должен гибнуть в бою с врагом – в форме, как и он. Законы войны и так слишком часто нарушаются, чтобы преступить и этот – главный – состоящий в легко-привычном опознавании врага…
Катя убежденно сказала:
– Война – это преступление!
Мальцев широко улыбнулся. Он веселился вовсю.
– Напротив, она естественна. Она часть природы. Как жизнь. Как смерть. Сколько было мирных лет за последние четыре тысячи лет? Если найдете века два, я вас награжу орденом Ленина. Что война теперь стала глупой болезнью человечества – с этим я согласен, раз производить, покупать и продавать стало выгоднее, чем отбирать силой и тратить на удержание завоеванного больше средств, чем стоит захваченное. Но это относится к высокоразвитым странам, к тем, предпочитающим стрелять не снарядами, а деньгами, бросать не бомбы, а конкурентоспособные товары. Такая страна – ваша Франция. Моя же страна может защищаться лишь идеологией, лишь штыком, раз ее государственная система не может давать качественную продукцию. Потому-то единственный ее конкурентоспособный товар – вооружение. Из этого следует, что для Запада война – глупость, но для Востока – теоретическая необходимость. А необходимость не может быть глупа. В общем, война еще живее живого. А раз так, то надо соблюдать ее законы. Убивать друг друга нужно упорядоченно. Нет ничего хуже анархии, даже тоталитаризм лучше.
Мальцеву было приятно следить за ходом своей мысли. На этот раз он это делал без самолюбования. А что, если будет война, их раздавят как клопов. И меня вместе с ними. Надо было в США бежать… может, я и от этой мысли прячусь за Бриджит?»
Мысль была безобразной, будила старые страхи.
– Много я встречал людей, проклинающих партизан. Да, более сорока лет прошло, но не время же им вернет погибших жен, детей, матерей. Отцы – черт с ними, мужики же… Эти люди, эти солдаты, бывшие на передовой, ждали годами смерть каждую секунду – ни атаки противника, ни снаряды, ни бомбы, ни отказывающийся работать карабин и еще тьма разных видов гибели не просят ни позволения, ни прощения, ни отдыха. Да, представьте себе, вы, думающие, что единственный противник или враг – ваше правительство…
Хриповатый голос Мальцева перешел на фальцет:
– Солдатам даже казалось порой, что они привыкли к запаху страха. И эти люди, вернувшись домой, узнали, что в то самое время, когда их гнали на минные поля, какой-то кретин вылез из лесу и пристрелил уснувшего на посту часового, и что противник, стремясь обеспечить свой тыл, взял и умертвил их разными способами. Заведомо невинных – чтоб все боялись! Среди заложников были матери, жены, дети солдат. А? А партизан вернулся в свой лес. Если он и погиб, то по глупости или из-за предательства.
Мальцев резко перевел дыхание. Он был мысленно не за катиным столом, а в полупустой деревне, слушая слова оставшихся в живых.
– …Партизан не пьянел от ста граммов, чтоб в очередную атаку идти. Нет. Знаете, как было дело? Немцы забирали у крестьян часть продовольствия, а партизаны – все остальное. Дети пухли и мерли, а партизан жрал. Вы мне скажете, что он все же убивал вражеских солдат и тем приближал победу? Чушь! Вы сами должны знать, что при удачных военных операциях сдавались в плен когда десятки, когда сотни тысяч немцев, то есть гораздо больше, чем убитые партизанами за всю войну…
Мальцев видел с уже грустноватым злорадством, что собеседник доходит до ручки. Француз, багровый от вина и злости, ударил кулаком по столу:
– Мы сыты по горло иностранцами… Все себе позволяют. Вы ж ничего не знаете. Мы были вынуждены уходить в маки, чтобы не быть посланными в Германию. У нас не было другого выхода. А продовольствие мы брали только у богатых фермеров. Они, сволочи, благодаря черному рынку, разбогатели во время войны… Вы врете! А коммуникации, а поезда, пущенные под откос, – это что, говно, что ли?
Катя молчала, лицо ее тяжелело на глазах. Она была по-матерински грустна. Мальцеву было ее жаль, но он не мог остановиться. Что-то в нем стремилось разрушить спокойный мир этих людей, вселить в них неуверенность в прошлом, настоящем, будущем.
– Все это очень красиво, но способствует скорее успокоению национальной гордости, чем выявлению правды. Разрушение мостов не может остановить продвижение армии – понтоны выдуманы не вчера, и не партизаны могут прервать переправу регулярной армии. Что же касается железной дороги, каждая собака должна знать, что военный эшелон никогда не прет без прикрытия порожняков. Взлетают в воздух они, кроме того, каждый эшелон толкает платформы, груженые песком… таким образом, дорогой месье, из ста поездов, объявленных пущенными под откос, едва ли можно отыскать два-три настоящих. А ждать у полотна, чтобы самому сконтачить взрывное устройство под нужным вагоном, равносильно самоубийству. Но я имел в виду другое, не бои партизанских отрядов с регулярными войсками, а террористические акты, ведущие к уничтожению населения. У нас, в Советском Союзе, даже оставляли на местах людей, которые должны были разжечь всеми способами партизанскую войну – зверски убивать солдат оккупационных войск, сваливая вину на население, или, переодевшись в немецкую форму, сжечь несколько семейств, отрубить голову всеми уважаемому человеку в деревне и т. д. Последствия партизанской войны известны. Например, в Белоруссии погиб каждый третий человек – партизаны же скрывались в непроходимых болотах. Мужчина должен остановить и разбить врага, а не мстить за вторжение. Вы и сейчас должны об этом подумать… Объективно, при всем моем уважении к патриотизму, сволочь, перешедшая на сторону победителя, делает соотечественникам меньше вреда, чем пламенный патриот-террорист.
Тут Мальцев понял, что ляпнул лишнее. Француз выпрямился, поклонился хозяйке торсом, потерявшим гибкость, сказал: «Спасибо за вечер, но мне здесь больше делать нечего», – и ушел, не оборачиваясь.
Катя тяжело заплакала. Мальцев молча последовал примеру француза. Он шел к дому Бриджит, глубоко дыша, стараясь всем существом впитать свежесть ночи. «Прямо мания какая-то. Стараюсь испоганить все, к чему прикасаюсь. Куда я лез? Бросал ему в морду правду чужого мира. А люди и своей правды не выносят. Только правдоподобие. А я ему… тьфу ты».
Мальцев вспомнил старую поговорку: «Если хочешь дружить с бедуином, никогда не рассказывай ему о горах». Было жаль Катю, но он продолжал против воли веселиться.
От Бриджит писем не было.
Думая о ней, он ощутил какую-то перемену в себе, будто принимала форму какая-то определенная идея. Забавно, но мысль быть повешенным как предатель не смущала больше. И недавнее поведение в Министерстве внутренних дел казалось теперь глупо-смешным. Присяга. Какая присяга? И все же…


