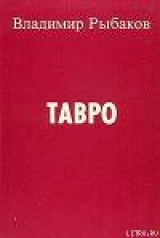
Текст книги "Тавро"
Автор книги: Владимир Рыбаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Громкий смех был ему ответом.
Мальцев почесал в затылке и в овладевшей им беспокойной озадаченности пошел в цех. Там шла размеренная работа. Ему оставалось пожать плечами и уйти в мир податливого железа. Только к концу дня замаячили перед машинами пьяные от вина или от избытка сил какие-то люди. Но они находились как бы на ничейной земле.
Когда Мальцев вышел за ворота, над его головой медленно и душно собирался уже летний дождь. Усталость спокойно давила на плечи, давала уверенность в завтрашнем дне. Вот я – твоя плата за зарплату! Мальцев ласково улыбнулся. Улицы, по которым он шел, кишели магазинами и людьми, и все было нагружено добром.
Здесь сполна платили за усталость, и, в сущности, можно было постараться понять, почему этот народ хотел и добивался, чтобы платили и за усталость.
В кармане у него вновь теснились деньги. Чтобы сполна осознать радость своего трудового утомления, он стал переводить свою зарплату на рубли. В Союзе ему нужно было три-четыре месяца, чтобы столько получить.
Мальцев пошел первый раз в жизни на завод еще совсем сопляком. Потел, как раб, ждущий вольной. Ему с теплотой сказали:
– Сколько годов тебе?
– Пятнадцать.
– Вот. Так слушай и запоминай. Мы все умеем вкалывать. Но – нельзя. Понимаешь? Если наработаешь больше, чем Бог велел, сразу же расценки снизят. Понял? И тогда всему цеху плохо будет. Так что иди и гуляй поболее.
Мальцев слушал, но не понял и не запомнил. Так что свершилось через определенное время неизбежное: руки спокойно поймали его за шиворот и сапоги с нарастающей, но крепко сдерживаемой злобой – это был урок, а не наказание – намяли ему зад и бока.
– Дуралей ты, раз русского языка не понимаешь, раз старших не слушаешься! В башку через башку не дошло, авось через жопу дойдет. Но мы тебе все-таки еще раз в ухи поясним. Ты знаешь, что сделал со своими ста шестьюдесятью процентами выработки? Не знаешь? Мне, к примеру, за каждую трехлямундию давали девять копеек, теперь будут давать семь. Вот что ты сделал, чертов сын! Ты знаешь, сколько нам теперь, чтоб выколотить ту же деньгу, нужно будет лишнего времени вкалывать? А? Дубье! Ты, может, думал, тебе корешки, а нам вершки будут. Так и тебе, сучке, расценки понизили. Вот, от земли два вершка, а туда же прет!
Мальцев тогда задумался, но никак не мог сообразить, почему, работая в полную силу и от души, будешь получать столько же или меньше, чем если бы работал лениво, вполсилы. Он ломал себе голову довольно долго… пока его не избили, на этот раз довольно серьезно, хотя, конечно, били так, чтобы не покалечить мальчонку. С тех пор, где бы Мальцев ни был – во Львове или во Владивостоке, где бы ни работал – на маленьких фабриках или многокилометровых заводах, он никогда не перевыполнял план более, чем следует, и это наказывал, угрожал или вбивал кулаками в головы молодым. Правда, это приходилось делать очень редко… Он, бывало, не раз удивлялся своей былой неразумной непокорности.
В последние месяцы Святослав Мальцев с нарастающим восторгом наблюдал за работой, в которой отсутствовал этот таинственный закон, и с каждой зарплатой он все благодушней относился к французам.
В ночь очередной получки он глядел на танцующего далеко напротив гения, подмигивал ему обоими глазами, наливал себе еще стопочку, тянул к ничто руки до сладкого хруста, читал гению что-то из Верлена и с удовольствием вспоминал виденных им мастеров, скажем, на Урале.
У некоторых рабочая родословная была толщиной в три века. У них в крови было знание металла – могли и впрямь блоху подковать. Но и они перекуривали, с ленцой делали, что требовалось, и даже равнодушно относились к браку: „А чо, ни горячо, ни холодно. Еще батя говорил, что, мол, Костя, когда тебе в душу рабочую плюют, так и ты не забывай харкнуть“. Некоторым было с рождения непривычно плохо работать, но они старались. Иначе человек становился либо дураком, либо холуем. Так было и есть. А вот он, Мальцев, нашел страну, в которой сколько много ни трудись – все на радость повышения жизнеустройства, как сказал бы тот работяга. „А если, – подумал он улыбаясь, – наступит предел, тогда и я забастую…“.
Ворота были наглухо закрыты, но Мальцев в рассеянной спешке врезался не в них, а в большую человеческую грудь. Он услышал насмешливое:
– Эй, старик, куда это ты так спешишь? Ворота охранялись крепким рабочим людом. Мальцев посмотрел на их добродушные лица:
– Как это куда? На работу. А в чем дело?
– Шутишь? Иль не знаешь? Забастовка. Ты, парень, в какую игру играешь, а?
– Ни в какую. А кто бастует?
– Не морочь голову. Проваливай. Профсоюз бастует… тебе что, рисунок сделать?!
Мальцев видел, как благодушие покидало стоящих перед ним людей. В глазах некоторых кроткая скука сменялась охотничьим азартом. Но он уже твердо верил, что нашел здесь в работе кусок от наименьшего зла на земле, потому и вцепился в него по-бульдожьи:
– Я в ваш профсоюз не записан. Хочу бастую, хочу – не бастую. Мы живем в демократии, нет? А я вот хочу вкалывать!
Мальцев говорил искренне и, в волнении, совершенно забыв вчерашний разговор рабочих в столовой, он никак не мог понять, почему его не пускают на завод. От непонимания росло в нем злобное раздражение – такое, когда рвешь с мясом незастегивающуюся пуговицу.
Сжав зубы, он оттеснил плечом одного, второго – подумаешь, видали таких! Его схватили три руки, тряхнули. Кто-то прошипел в ухо:
– Беги, сволочь. Ты что, журналистов ждешь? Сколько тебе дали за провокацию?! Беги, пока тя в паштет не превратили!
Угрозы и слово „провокация“ хлестнули Мальцева. „Ты что, против советской власти пошел? Провокатор. Сгноим!“ Много раз он это слышал, хотя, признаться, ни разу не шел против власти. Хотя… была по-трезвому в мыслях, а по-пьяному на словах всякая критика.
Но услышать подобное на Западе было так неожиданно, что он оцепенел; его обожгла обыденная еще для чувств беспомощность, тут же превращенная парижским воздухом в яростное отчаяние.
– А-а-а-а-а!
Мальцев бросился в промежуток пространства, которое обычно бывает между людьми, и схватился за ворота… Удар в голову отшвырнул от ворот, другой – в грудь – бросил на землю. Он ударил ногой чьи-то ноги, попытался встать, но на этот раз его хватил и отбросил черный туфель – „такие в Москве за дешево не достанешь“. Мальцеву не было больно, но его сознанию вся эта чепуха надоела, и оно выключилось.
Когда открытые его глаза обрели зрение, они увидели – в крупном неприятном плане – голову и приближающуюся ладонь парня-коммуниста, того самого, который хотел мстить за поруганное доверие.
– Эй!
От сильного дыхания боль стала бить в ребра, отозвалась в голове. „А? Ну да“. Парень держал его голову:
– Не бойся. Я, понимаешь, не успел. Сказали, что провокатор пришел. Чего ты, чего ты, я знаю, что ты не… В общем, когда я их остановил, то они успели тебя помять. Они сожалеют. Ты же говоришь без акцента – откуда было знать. Кто-то вызвал „скорую“. Не шевелись. Знай, я не хотел этого.
Мальцев закричал (вышло – нормальным хриплым голосом):
– Вы все психи! У нас нельзя бастовать, но на то и тоталитаризм. А у вас нельзя не бастовать. Это что, а? Демократия наоборот? Гады!
Возле них остановилась полицейская „скорая помощь“. Люди с крестьянскими лицами спросили.
– Что происходит? Кто вам это сделал?
Мальцев видел появившуюся на лице парня слабую бледность и, пересилив боль, сумел превратить гримасу в улыбку:
– Да вот напоили, хотели, наверное, обобрать – или просто баловались. Вот, человек помог. Спасибо.
Последнее слово было обращено к беспомощно стоящему рабочему-коммунисту.
Лежа в „скорой“, ожидая в больнице результата рентгена, Мальцев вспомнил. Ветер его предупреждал, а он не понял. Хотя что-то в Мальцеве говорило ветру: „Не такой уж я несведущий. Опасность витала, я ее чуял, но ничего хозяину не сказал. Ему же лучше. Он ведь уже недели две мучается. Теперь все разрешилось само собой“.
Мальцев решил не возвращаться на завод. Хватит! Да и… его не так давно вызывали в управление и предупредили, что вскоре нужно ожидать приезда советской делегации. Тогда Мальцев просто кивнул головой, но вернулся он в цех с холодными потрохами. „Не для того я… Так-то оно так, но…“. Теперь, приняв решение, он тут же подумал, что он не стал бы никогда помогать власти, от которой ушел и которую не любил.
Ныло тело, боль и запахи начали все крепче разносить усталость. В запахе больных людей всегда таится душок умирания.
Врач говорил, будто спор выиграл:
– Ну, вот, молодой человек, два ребра у вас – крак! Хорошо, что только нижние сломали. А на черепе просто пустяковина. Болит?
– Голова гудит. Но тошноты нет. Врач рассмеялся:
– А вы знаток. Сотрясения у вас, действительно, нет. Полежите у нас несколько дней – и все устроится.
Тени болезней, запах больницы вызвали душевную изжогу. А сколько капиталисты возьмут за лечение?»
Он замотал головой:
– Нет. Не останусь. Пойду домой. Не люблю больниц.
Врач не настаивал, но предложил все же подписать какую-то бюрократическую бумаженцию… чтоб в случае чего ответа ни перед кем не держать – так понял Мальцев последние действия врача. Они и были ему понятнее всего. Полицейские удивили Мальцева гораздо больше: они были непривычно вежливы. С круглыми от короткой стрижки головами они казались ему большими детьми. «Черт! Как они умудряются поддерживать порядок? Даже не обыскали». Они записали фамилию, адрес. Вели себя так, что в Мальцеве привычное ощущение беспомощности перед властью чуть не дало трещину. «Они все приняли на слово. Даже(!) не проверили документы». Добрая тетка сжала толстым бинтом ребра Мальцева, но он ее не поблагодарил, хотя и подумал о необходимости быть вежливым. Он промолчал, сжал зубы и пошел, не оборачиваясь, к выходу. Мальцев в эту минуту хотел бить по щекам все эти… эти демократии. Его сначала унизили свободой, а затем ему, не понимающему ее, ударили по губам и сломали вот ребра. Мальцев решил защититься от себя и от них.
Всю длинную дорогу ветерок снисходительно трепал его лицо, а Мальцев только и мог, что опускать голову к груди. Ступеньки, поднимающиеся к чердаку, издевательски скрипели, и словно не ноги несли Мальцева, а ребра. По лицу потекло несколько слезинок. Когда он открыл дверь, его встретило одиночество, одетое во все новое. Мальцев лег, расслабился, подождал ухода боли. Место заняло шершавое сиротство – оно сидело на люке, рядом, на полу, на обложке, на которой было написано «Смерть Ивана Ильича», но более всего – на висевшей на голой стене грязной кастрюльке. Там сиротство странно шушукало.
«Где-то сквозняк, где-то сквозняк». Нужно было встать и тронуть пальцем черное железо. Но он только взглянул спокойно вокруг: «Ну и пусть», – и впал в легкое забытье.
Из забытья Мальцева вытащил стук в дверь и голос:
– Есть тут кто-нибудь?
Он прохрипел:
– Нет никого! Ни…
Привыкшими к темноте глазами он молча наблюдал, как Бриджит искала выключатель. Прищурившись от света, не заметил ни ее приближения, ни как она разглядывала бинт на груди. У него кружилась голова, хотелось плакать, и от жалости к себе, и от раздражения к этой скульбе по себе.
Бриджит села совсем около его груди. Топчан не шевельнулся, но по нему к Мальцеву пошла Бриджитина теплота. Он сильно задышал, скривился. «Ребрам-то плевать».
– Что случилось? Кто тебе это сделал?
Он повернул лицо, но ничего не увидел, только ее запах показался ему очень красивым и нежным. Ветер дул из кастрюльки, на которой сидело одиночество, и дул теперь так, что Бриджитины теплота и запах смешивались, входили в него, пробивались дальше до счастья. Мальцев пробормотал:
– Чего, а? Чего?
– Что с тобой? Я же Бриджит Булон. Ты что, по-русски со мной разговариваешь?.. Да у тебя жар!
Холодная ладошка коснулась век, и Мальцев на этот раз рассмотрел трещинки на пальцах и сквозь щели пальцев – Бриджит.
– Привет. Каким ветром тебя ко мне занесло? Как поживает твой отец?
– Не знаю и знать не хочу. Ну?
Мальцев показал зубы:
– Чего ты нукаешь. Я не лошадь. Случилось, что меня лягнула ставшая на голову демократия.
Бриджит слушала внимательно. Не улыбаясь. Не смеясь. Сказала задумчиво:
– Тебя ведь могли убить. Вот попал бы между рабочими и мусорами – и все! Как ты до такого додумался? Пошел один на профсоюз! Таких иностранцев у нас нет. Вы что там думаете?
– О многом думаем, о многом догадываемся, кое-что знаем. Интеллигенты – не все, некоторые, – думают, например, что свобода – это прекрасно. Другие – многие, но не имеющие времени для мыслей, – думают, что свобода – это выгодно.
– А ты что думаешь?
– Что выгодно.
– А!
– Я и хотел сегодня воспользоваться свободой. Но пока вот выходит обратное. Я всю жизнь провел в утопии наоборот – и ничего. А тут мне сразу захотелось быть умнее… не понимаешь? Я, в сущности, по-марксистски отнесся к вашей демократии. Захотелось заработать, чтоб с тобой на пляже позагорать. Вот и заработал.
Бриджит мягко и осторожно погладила его по щеке:
– У тебя жар. Не сердись, все пройдет, увидишь. Я тебя не оставлю одного. У меня каникулы. Да и вообще, к черту университет.
Она нагнулась, положила вторую руку на лоб. Получилось – обняла его голову. Мальцев захотел сказать, что она ничего не понимает, но Бриджит начала тихо уговаривать:
– Успокойся. Ты просто еще многого из нашей жизни не знаешь, – (Мальцев встрепенулся, вспомнил вечер знакомства с ней, колдовство, и сразу ослабел, видя всем своим существом приближение необходимого), – все это придет. Что там у тебя точно?
– Сломаны ребра да череп еще тихонько трясется. В больнице сказали, что ничего страшного. Хотели меня там оставить, но я ушел.
– Ты правду говоришь? Почему ты не остался?
– Правду, правду. Она, впрочем, стоит три копейки, но это ничего. Не люблю больницы, воняет душами. Не обращай внимания, это я зря пошутил. Но, если позволишь сказать честную банальность, твой запах я люблю.
Он обнял ее – от боли по лицу поползли желваки. Руки Бриджит почувствовали эту боль. Это было так неожиданно, что она прижалась к этому русскому, чтоб он не так напрягал руки и грудь.
Не покидавшие его враждебные мысли к миру огибали Бриджит. Она сопротивлялась долго, но едва уловимыми движениями. Два раза он видел ее усилия – она хотела и не могла убежать. Пальцы сжимали его руки, но не дергали их, зная, что закричит он, отпустит ее и сам скрючится. Раскаленные ребра его стали нервами, по которым била ее борьба. Руки у нее только раз задрожали, когда она стала звать его движениями бедер. В Мальцеве все росла радость, боль только царапалась, скользила. Он чуть не сказал: «Я тебя люблю».
Мальцев был покрыт холодным потом и должно быть сверкал бы на солнце. Бриджит пошарила рукой, так, чтобы он не заметил, по полотну под ними. Ничего. Она поискала еще. Ничего. Она изумилась, но еще более обрадовалась.
– Что ты ищешь?
– Тебя.
Бриджит была совершенно потеряна, искала в себе понимание случившегося. Он заинтересовал ее, этот советский, русский. Странный! Был бы худым, все равно казался бы тяжелым. Когда он в тот вечер у нее дома сел в кресло, все вокруг него показалось воздушным. В нем была – казалось, можно ее тронуть – густая сосредоточенность. На его лице бродила неподвижность – она чаще всего лежала на лбу и щеках.
Когда его ударили, он искренне рассмеялся. Советский… он же европеец и – совершенно чужой. В нем есть нечто резко расходящееся, принадлежащее к двум разным мирам. Кто на него в Париже обратит внимание? Никто. Она о нем забыла быстро – трудно, да и не хочется долго думать о странностях незнакомых людей. Но нечто осталось – с ним было интересно. Только обедая с отцом, Бриджит захотела вновь увидеть Мальцева.
– Да, был у меня твой советский парень. Ни-чего-о.
В глазах сенатора Булона появилось незнакомое дочери выражение.
– Не хочу его больше видеть. Когда-то я очень любил его мать. Он на нее внешне похож, но, кроме этого, – ничего. Груб, хам. Он спокойно и презрительно интересовался…
– Чем?
– А? Да так… ерунда. Но я не хочу его больше видеть. Ясно?
В тот же вечер Бриджит пошла к Мальцеву: «Стоит повидать того, кто такое сотворил со стариком Булоном». Менее всего она думала о Мальцеве как о мужчине, – толкало любопытство, хотелось расспросить о женщине, влюбившей в себя никого не любившего Булона, старого скептика.
Святослав лежал в своей конуре раненый, беспомощный – но и сильный. Бриджит никогда не боялась стать женщиной, и если долетела до своих двадцати одного года девственницей, то только потому, что считала банальным вот так отдаться какому-нибудь кретину. Да и страсть делала людей либо мелкими хищниками – лишь бы укусить, либо слизняками – взгляд расползался, покрывался маслом. К этому прибавилось в свое время неудобство быть совершеннолетней девственницей. Она была уверена, что ее первый мужчина посмеется над ней, всем расскажет, повторит… как он испачкался с этой дурой, с ней. И не горело потому ее тело, не требовало любви.
Бриджит взглянула исподтишка: Святослав стоял голый у люка, что-то говорил по-русски ночи, подмигивал. Он был такой, какими бывают люди, внезапно закончившие долголетнюю работу. Она еще поискала нетерпеливой рукой – на простыне крови не было. Святослав был далеко от нее, в десятке сантиметров.
Поздно ночью случилось для нее удивительное: она пожалела, что храпящий рядом мужчина не знает, что он – первый.
Глава седьмая
САМОСУД
Даже сломанные ребра не могли омрачить радугу в Мальцеве: «Вот так Булониха! Бриджит. По правде, совершенно дурацкое имя. Эх, даже не вздохнешь полной грудью из-за этих ребер! Но какова женщина, ни лишнего движения, ни лишнего слова. Что это она со мной такое сделала? Да, побили меня французы, побили. Сначала свободой оглушили, затем в морду дали, потом ребра сломали. Добила же меня вот эта девчонка. Не влюбился ли я? Во француженку, представительницу гнилого Запада, дочку капиталиста, сенатора?».
Мальцев расхохотался, но боль пониже подмышки пихнула смех к стону. Святослав погладил локтем бинт: «Что вы, ребрушки, за Бриджит обиделись? Я ж шутейно. Не бойтесь, она для меня самое что ни есть светлое». Он лег щекой на место, где еще недавно было ее тело. Ощущение полного счастья длилось на этот раз дольше, чем ночью, – тогда мешало стремление овладеть ее телом, и не оставить никому и кусочка, даже воздуху. Он ласкал, не щадя ни себя, ни ее. Теперь Святослав чувствовал, что, обладая Бриджит, он на деле прятался за нее, что влюбился в нее, чтоб отдать в жертву, кинуть в пасть преследующим его с детства вопросам: что делать и кто виноват? Чтоб не искать больше, чтоб забыть. Мальцев с беспокойством ощущал эти мысли, но прочесть их не мог.
От счастья уже давно не было и следа, когда он вспомнил о записочке Тани. Нашел под дверью: «Приходи немедленно. Ты мне нужен по очень важному делу». «Бедная Таня, – подумал самодовольно Мальцев. – Нашла бы себе кого-нибудь. Чего там». В конце концов Бриджит должна была прийти только вечером, день впереди был цел и пуст.
На дворе лето горело вовсю – синий свинец над головой, пучившийся асфальт под ногами. «За городом умирает от жары трава, валяются дохлые кузнечики, а мне все равно хорошо». Мальцев был впрямь радостно спокоен, как корова, вылезшая из трясины на сочный луг, и ему казалось, что он будет теперь вот так вечно жевать жизнь.
Лицо Тани было покрыто мелкими кровоподтеками, раздутая щека подпирала глаз, в котором поблескивал страх. Мальцев машинально положил руки на то место, под которым начинали срастаться ребра. Подумав, что покой нам только снится, он спросил:
– Что случилось? Кто тебе это сделал? Бывает хуже.
Таня смотрела на него с ненавистью. Он ее бросил, нашел себе, наверное, другую. А ее, беременную, избили. Вдруг она заметила на его губах снисходительную улыбку. Поперхнувшись от резкого рыдания, Таня яростно выпалила:
– Что? Некрасивой стала, перестала нравиться, да? Тебя любят, а тебе все равно, да? Да! Сволочь! советская! Ничего от тебя не хочу. Еще не поздно.
Мальцев испугался. «Э-э, дело пахнет керосином. Еще немного, и она из меня сделает мерзавца. Пора переходить в контрнаступление». Он подошел, схватил, прижал ее к себе и сильно крикнул от боли.
– Что с тобой, почему ты так побледнел? Мальцев расстегнул рубашку, показал бинт:
– Ребра мне сломали.
– Он?
– Кто?
– Ты разве не знаешь?
– Нет. Только знаю, что лежал на своем чердаке в жару и думал о тебе. Трудно мне без тебя, ты же знаешь. Но пока не буду достаточно зарабатывать, жить вместе не будем. Успокойся.
Она расслабилась, и слезы ее стали легкими:
– Вчера пришел какой-то высокий человек и попросил у меня твой адрес. Я спросила, кто он; вместо ответа он стал меня бить… ничего я ему не сказала. Уходя предупредил, что тебя все равно найдет… мне было так страшно.
Мальцев поцеловал мокрые щеки, глаза. «Черт, неужели она меня действительно любит. Совсем спятила баба. Фью».
Таня прижалась к его здоровому боку. «Ишь ты». Он уже почти чувствовал себя покровителем этого слабого существа – и вообще было чертовски приятно, что в этой чужой стране его любили одновременно две женщины… Но внезапно его пронизала мысль: «Я же жертва, меня ведь преследуют. Меня будут снова бить, может быть, даже убьют». Он мгновенно забыл и о Тане, и о Бриджит.
Мальцев стоял посреди комнаты и под удивленным взглядом Тани прислушивался к себе. Нет, не страх, а злобная решительность овладела им. «Да-да, нет добра на свете». Уходило наваждение. Волшебство Бриджит ослабло. «Кто? КГБ? Уже ищет предателя родины, незаконно покинувшего пределы социалистического государства? Нет, больно уж грубая работа… высокий… Синев! Конечно же, Синев! Французский болгарин. Не посадили его значит, выплыл. Ай-яй-яй, как нехорошо». Таня видела: Святослав показывал зубы волчьим движением губ. Глаза сузились, как от улыбки. Он был страшнее, чем тот, длинный. Может, со временем она смягчит его. Он успокоится. Правы были отец и мать, когда говорили, что большевики – звери. Вот что они сделали с ее Святославом! Он же пропадет без нее. Только он этого не знает. И пусть не знает.
– Ты в полицию заявляла?
– Нет.
– Почему?
– Ты что меня допрашиваешь. За тебя боялась, вот почему.
– Не знала, кто прав, а кто виноват? Не плачь, не плачь, я пошутил. Только нехорошо это, что я с тобою говорю по-русски, а ты мне отвечаешь по-французски.
Она смущенно улыбнулась:
– Ничего, зато дети двуязычными будут.
«Все туда клонит». Мальцев вновь обнял Таню. Подумал: «Да и лучший способ от нее избавиться – ее спасти. Ну ладно, за зуб оторвем всю челюсть».
– Ты у меня мужественная. Кстати, я у тебя видел толстый посох из железного дерева. Он есть еще… нет, что ты! Ребра болят, ходить трудно. Что же касается этого мерзавца, не знаю, кто он такой, но больше тревожить тебя он не будет.
Танин голос взял озноб:
– Что ты хочешь сделать? Ты болен, останься.
– Нет. Мне нужно уйти, я, может, даже на время уеду из Парижа. Кстати, я теперь безработный, так что, ежели найдешь что-нибудь для меня, буду благодарен. Только на больших предприятиях пахать больше не буду – сыт.
Озноб перекинулся на тело – это Мальцев отметил с удовлетворением. «Как я ее все-таки охмурил». Пока Таня ходила за палкой, Мальцев выпил водки, почистил и укрепил принятое решение. «Другого выхода нет». Старый красноватый посох весил около пяти килограммов. Мальцев обрадовался его весу и, опираясь на него сильнее необходимого, пошел к выходу.
– Я буду ждать тебя.
Он подумал, что можно было обойтись без этого патетического прощания. Мальцев насильственно улыбнулся ей.
На улице его ждал человек. Скрипнув от боли зубами, Мальцев крепче сжал палку, но увидев на лице подходящего к нему парня покорность и просьбу, расслабил мышцы.
– Вы – советский? Вы – Святослав? Простите, это я отнес вам записку от Тани…
– Кто вы такой?
– Русский я, только по-русски не говорю. Игорь Коротков. Мы с Таней с детства дружим… Я вам правду скажу – не знаю, чем вы ее взяли, но несчастна она с вами… Я не буду драться с вами, только прошу – оставьте ее в покое.
«Да бери ты ее со всеми потрохами». Эта мысль позабавила Мальцева. Он повнимательней взглянул на стоящего перед ним человека. Тонкий, скорее хрупкий. Открытый взгляд угольных глаз. Нервные движения, но в их быстроте была уверенность в своей правоте. В общем, это был открытый, честный и влюбленный человек. «Начитался, олух, Труайя».
Мальцев усмехнулся:
– Действительно, драться не стоит, у нас явно разные весовые категории. Вы Таню любите?
– Можно и так сказать. Я живу с ней, но к вам она испытывает болезненное чувство.
Мальцев ощутил себя сразу меньше, гнусней собеседника. Нужно было освободиться от этого, не время было ходить с гадостным чувством к себе.
– Вы, небось, из знатной семьи?
– Да… как будто… но какое это име…
– Это мое дело.
«В случае чего, руки мне бы не подал. Белоручка. Строит из себя Ромео». Из этого нарочитого размышления что-то все-таки вышло. Этот парень не мог ему быть несимпатичным. Но сама жизнь ему давала и дает возможность быть благородным, а этого Мальцев простить не мог:
– Я за Таней не ухаживал, она сама ко мне лезет. («Боже, какая грязь! Чего не сделаешь, чтобы унизить ближнего своего!») Может, ей хочется говорить в кровати по-русски. Спокойней, я вам уже говорил о весовых категориях! Оставьте пылкие чувства для Тани. Постарайтесь завоевать ее, вот, например, расскажите ей о нашем разговоре. Желаю успеха. У меня дела поважнее…
Мальцев отошел, и вдруг от только что совершенного у него стало в груди больно. Сила, должно быть совести, согнула его, выпрямила и снова согнула. Он нажал пальцами на больные ребра. Совесть слегка отступила. Тогда с облегчением стукнул – внутренний молчаливый крик стер стоящий перед глазами контур содеянного. «Что делать, жизнь прожить – не поле перейти».
Оставив дома записку: «Жди меня, и я вернусь», – Мальцев направился к дому Синева. Он не испытывал к нему злобы – потому и было ему неприятно сделать то, что задумано.
Но Синева нужно было убрать, иначе спокойствие будет действительно только сниться. Он это понимал, как понимал и действия Синева. Как раз это понимание не давало возможности французскому болгарину избежать своей судьбы.
Мальцев сел в кафе напротив дома Синева и приготовился к долгому ожиданию. Синев мог уехать, заболеть, переменить квартиру, наконец. Мальцев не успел пожалеть об отсутствии прописки в этой стране – из дома вышел Синев; он весело наполнял руки плечами, талией, шеей сопровождающей его женщины. Начинал приближаться длинный летний вечер. Глядя им вслед, Мальцев думал без всякой иронии, даже как бы ободрял Синева: «Погуляй напоследок, хорошо погуляй». Но что французский болгарин был так рад жизни, озаботило его. Это наверняка означало, что Синев вернется не один. От мысли испугать его спутницу Мальцев сразу и бесповоротно отказался. Уйдя в поиск решения, он выронил тяжелую палку: стук, похожий на стук в дверь, повернул к себе голову Мальцева. «Условный рефлекс. Конечно. Что делает человек в своем парадном? Смотрит, нет ли писем». Мальцев перешел в другое кафе, по дороге купил пачку конвертов. День начинал сильнее темнеть. Опрокидывая стопочки водки и смакуя коньяк, Мальцев размышлял о том, как с годами становится, должно быть, жестче к людям. Но что делать, если Синев совершил глупость – напал не на него, а на безвинную Таню? Глупость ли? Может быть, Синев хотел ему нанести психологический удар? Был случай в жизни Мальцева, когда противник его обезоружил вот так, психологическим ударом.
Шел ему тогда семнадцатый год. Увлекся он в ту пору теорией правого коммунизма и превозносил Бухарина до небес. С троцкистом и старым другом Костей они спорили тогда до хрипоты, до кулаков. Уехав за длинным рублем на целину, Мальцев продолжал с ним ссориться в письмах. Половину двухкомнатной квартиры Кости занимала его сестра с мужем и тремя детьми. Муж сестры, маленький серенький человечек, работал чернорабочим в пекарне, зарабатывал гроши, пил только самогон и уже лет десять, как безуспешно умолял горсовет дать ему квартиру. Костя не понимал, почему сестра вышла замуж за такое ничтожество, а Мальцев понимал – чтобы властвовать.
Этот забитый человечек нашел письма Мальцева и тотчас отнес их в КГБ. Через три недели после возвращения Мальцев получил повестку и пошел, обмирая, а главное, ломая себе голову о причинах вызова. Офицер с университетским ромбиком поговорил с Мальцевым о жизни, о политике, расставляя кое-где довольно грубые ловушки, и, наконец, когда тот начинал уже серьезно холодеть, положил на стол его письма:
– Послушайте, вы хоть и рабочий, но, я знаю, интеллигентный человек. Как интеллигентный человек интеллигентному, скажу вам: я вас понимаю. Сам прошел через это. Согласитесь, что теперь мало кто может поговорить о Бухарине. Но… ай-яй-яй, писать вот такие письма. Как неосторожно. Я вам советую, забудьте Бухарина, по крайней мере, не пишите о нем. Для вашего блага вам так говорю. Сегодня вы спокойно покинете этот кабинет. Но мы будем помнить о вас. Вы не хуже моего знаете, что Николай Иванович не реабилитирован.
Ужас в Мальцеве сменился ненавистью: «Кто? Кто!? Кто!!! Какая сволочь его выдала? Костя не мог, следовательно… это ничтожество? Не может быть! А все же…»
– Товарищ майор, а кто вам мои письма принес? Воротков?
Мальцев знал, что офицер не скажет, поэтому, спрашивая, искал ответа только в глазах. Они машинально ответили «да». Сам же майор насмешливо развел руками:
– Не ждал я от вас такой грубой работы. Сами знаете, государственная тайна. Да у нас сама конституция гарантирует тайну переписки. Разве не знаете?
Офицер – Мальцеву уже казалось – у майора много морщин – рассмеялся своей шутке.
Затем, прекратив смех движением рта, он спросил:
– А почему вы такой бледный?
– Душно.
– Что вы, у меня в кабинете всегда прохладно… Подумайте, если бы эти письма к нам пришли, когда еще жил Иосиф Виссарионович, то…
Мальцев договорил за него взглядом: «Знаю, был бы расстрелян». Офицер ответил ему взглядом: «Это была бы еще не худшая из бед». И Мальцев потупил глаза: «…Да…».
Майор неопределенного возраста сказал Мальцеву на прощанье:
– Вы интеллигентный человек. Так подумайте. Для чего вам жизнь портить. Она у вас впереди. На всякий случай с вами не прощаюсь. До свидания.
Вечером того же дня Мальцев подождал, пока Воротков пойдет в ночную смену. Он думал, глядя на плюгавого человека, шаркающего подошвами ботинок по асфальту безлюдной улицы: «Раздавлю как гадину. Гадина и есть. Убью. Неизвестно, скольких он уже продал».
Его трясло. Что-то похожее на кровь стояло перед глазами.


