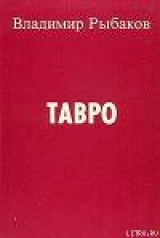
Текст книги "Тавро"
Автор книги: Владимир Рыбаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Воротков оказался как бы вздернутым на два крюка. Он бил своими тонкими руками по плечам Мальцева. В его жестах было много девичье-беспомощного.
– Что? Узнаешь, сука?! Узнаешь!
Кулак уже поднялся, уже искал самое чувствительное место на лице человека, но Воротков перестал сопротивляться. Мальцев видел, как мелкие и остренькие черты его лица набирали величия. Глазенки сверкнули:
– Сам ты сука. Предатель Родины. Против советской власти пошел! Да, я это сделал, я. Ну, бей, убивай. Все равно буду бороться против таких предателей, как ты. Чего ждешь, бей!
Совсем молодой тогда Мальцев сильно изумился, развел руками – Воротков выпал из них. Совершенно ошеломленный, Мальцев спросил:
– Ну чего ты ее защищаешь, советскую власть? Чего? Что она тебе дала? Живешь хуже собаки, твои дети мясо видят раз в три месяца, ютишься с семьей во вшивой клетушке. А на работе, а? Мордуют тебя, гонят вот в ночную, а платят – негры в Африке больше зарабатывают. Да я же получаю в три раза больше тебя. Скажи, ты хоть раз ездил в отпуск к морю, в горы? Молчишь? Нет у тебя никаких прав, только обязанности, тебя ежедневно унижают, оскорбляют, а ты ее защищаешь. Ну чего, чего?!
На это Воротков ответил:
– Ты – враг советской власти.
Мальцев потряс его:
– Проститутка попугайская. Заладил. Да ты котелком повари. Чертов недоносок.
Все было тщетно. Чем сильнее тряс и оскорблял его Мальцев, тем более Воротков тянулся к венцу мученика. Вконец обескураженный, не знающий, что и думать, Мальцев рассеянно подтолкнул человечка:
– А, иди ты на…
Отошедший Воротков закричал:
– Ты, контра, так не отделаешься! Подохнешь там, где тебе положено, – в лагере!
Не раз Мальцев вспоминал Вороткова и пытался понять его. Этот обычный в сущности советский человечишка не был идейным, и советскую власть он не любил, и даже высмеивал ее иногда в анекдотах. Он, как все, обворовывал государство, как мог, – пекарня давала ему все же какие-то возможности. И Воротков не был из тех, кто думал, что «человек» – это звучит уродливо. Он был самым что ни есть середняком. В конце концов материалист Мальцев сказал себе, что очевидно в каждом человеке есть метафизическая пустота, которую он стремится наполнить своим духовным «я», и что «я» духовное должно быть больше «я» бытового – каким бы ни было бытие. И Мальцев решил, что Воротков на него донес в КГБ, чтобы наполнить свою метафизическую пустоту, и по той же причине так героически ему противостоял. Поняв Вороткова и связанную с ним истину, Мальцев искренне пожалел, что не убил его. Хотя, что мог сделать другого Воротков? Обласкать своих плохо обутых и не имеющих игрушек детей, которые завидовали другим детям и потому не любили отца? Дать десять копеек нищему, чтобы их пропил нищий, а не он, Воротков? Обнимать жену, которая приказывала ему это делать?
Стоя на парижской улице, Мальцев долго не мог понять: почему всплыло именно это воспоминание? Понял. Чтобы сравнить Синева с Воротковым, и уйти, сразу, не оглядываясь. Синев честнее. Он весь наружу со своим желанием отплатить сволочи, предавшей его в ответ на доброту, за то, что приютил, накормил, денег дал, женщин. Не любит человек быть одураченным, да еще так похабно. Может, уйти и подождать, пока Синев нападет? Не брать греха на душу?
Ночь как бы почистила парижскую улицу. В темноте дома казались более стройными, люди – более изящными. Нигде не было запаха опасности. Подождать французского болгарина, отдать ему деньги, сказать, что может продать он миллион тонн наркотиков, ему, Мальцеву, все равно… Сказать, что им делить нечего. Он считал советского эмигранта добродушным тупицей, сырьем, из которого можно сварганить что угодно, негром, попавшим впервые в цивилизацию…
«Э-э, траву я курил, когда за тобой еще мама бегала, чтоб не простудился. А использовать дурачков у нас умеют – не вам чета. Это я бы мог дать тебе пару уроков психологии. Сопляк».
Было бы дело в Союзе, Мальцев ушел бы. Все равно живешь в напряжении – немного меньше, немного больше, какая разница. Ну я тебя, ну ты меня. Все равно свобода да богатство дальше, чем пайка и лагерь.
Но здесь Мальцев хотел стать частью окружающего его спокойствия. Здесь он хотел отвыкнуть жить в ожидании удара – кулаком, кастетом, законом. Нет, Синева нужно выбить из колеи – хотя бы на несколько месяцев. А там видно будет.
Мальцев проник в подъезд, бросил несколько пустых конвертов в почтовый ящик, концом палки так погнул дверцу, чтобы ключ не влез в замок, и спрятался в конце коридора, за углом, там, где дверь вела в подвал. Быстро обследовав ходы-выходы, он убедился, что на улицу вела только парадная. «Как говорят милиционеры в Союзе: к нам войти – ворота широки, а вот выйти – узки». В течение долгого времени Мальцев изучал расположение электрической кнопки, открывающей спасительную дверь. Затем выключил мысли.
Синев размашисто вошел в подъезд, к его боку устало прижималась девушка. Синев прошел мимо почтовых ящиков, хмыкнул, попытался открыть свой ящик, выругался:
– Б… Какие-то сволочи погнули дверцу! – Повозился. Проворчал девице: – Чего вылупилась? Иди, иди, нечего тебе тут делать. Пшла!
Мальцев ждал. Когда услышал захлопывающуюся дверь, стал бочком подбираться к Синеву – тот старался руками отогнуть дверцу. На стене холодно горела лампочка. Мальцев, держа дыхание, чувствуя в себе спокойный мороз, ударил по ней палкой. Вместе со звоном и темнотой крутнулось тело Синева. Рука Мальцева повисла – ожог от ножа пронзил ее, испугал, заставил Мальцева отпрыгнуть, но он мгновенно сумел обрести над собой контроль. Дыхание не вырвалось из груди. Он продолжал ждать. Из темноты пришел победный хрип. «Почувствовал, зверь, кровь на ноже». Мальцев изо всех сил ударил на хрип тяжелой палкой, изменив по пути траекторию так, чтобы зверя не смог спасти предупредительный свист оружия. Синев упал; вместе с ним, крикнув от боли в ребрах, упал Мальцев. Где-то раздался шум, хлопнули двери. Вскочив на ноги, Мальцев споткнулся о тело, саданул его палкой несколько раз – удары были, как о матрац, нашел вслепую (с первого тыканья) нужную кнопку, вышел на улицу, прижал к груди палку, низко нагнул голову и пошел медленно, куда глаза глядят. От страха он больше часа заставлял себя не торопиться. Вокруг было пусто, сонно. Из его руки лениво сочилась красная жизнь, больные ребра напоминали о себе толчками. Губы Мальцева зашевелились. Если б у асфальта были уши, он услышал бы тягуче-жалобное: «Мама». Мальцев не заметил этого своего слова, не понял движения своих губ, не разобрал глубины безнадежности в себе.
Посидев в милом скверике, он перевязал руку платком. Успокоился. Подумал о Синеве: «Гад. Контра. Настоящий урка. Небось, килограммами свою гадость детям продавал». Мальцев осветил конец палки зажигалкой. Он был в крови. Хватило пучка травы. «Лучше, чтобы он, а не я лежал в больнице – или в морге. Что это со мной? Будто за мной вина какая! Запад-Запад, он, не иначе, как он, заставляет нюни распускать. Синев избил Таню, а по закону следовало, видите ли, чтобы он избил или убил меня и чтобы я потом искал доказательства. Дудки! Иногда нарушить закон безопаснее, чем ему подчиниться. Кто-кто, а мы, советские, это знаем. Синев – не знал, что я знаю. Тем хуже для него. Да и вообще ему со мной не везет».
Это была последняя мысль Мальцева о Синеве. И он сразу вспомнил о Бриджит. «Может, еще ждет? Господи, есть Ты или нет Тебя, – сделай, чтоб ждала! Я устал, истощен. Мне хочется покоя. Для этого приехал в эту страну. Она меня встретила свободой, да я никак не могу стать свободным человеком. Все борюсь с собой. Я устал. Пусть Бриджит будет для меня наименьшим злом и пусть свобода оставит меня на месяц в покое. Дай!»
Провидение послало ему такси, в нем он вспомнил о любовнике Тани и рассмеялся, спокойно, даже нежно, как о грустноватом прошлом.
На чердаке Промысл оставил ему спящую Бриджит. Может, и много нужно человеку для счастья – но в эту ночь Мальцев во всяком случае его обрел легко.
Глава восьмая
ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЖЕНКИ
Найдя записку Мальцева и повертев ключом, Бриджит собралась, было, пожать плечами и уйти, но непонятность написанного – «Жди меня, и я вернусь» – запретила ей это сделать. Слова были написаны по-французски, без ошибок, каждое слово было ясным и понятным, но вместе они составляли что-то темное и странное, как сам Святослав. Когда он вернется? В десять? В двенадцать? «Жди» и «вернусь» стояли слишком близко друг к другу, и Бриджит захотела ощутить их странную недоговоренность, их русскую мистику. Она сразу подумала о существовании в Мальцеве таинственной славянской души, и спокойствие вернулось к ней. Славянская душа – это было привычно, доступно, внятно. Понятие это ничего и вместе с тем все объясняло. На чердаке Бриджит долго разглядывала приколотые к косой стене фотографии Ленина и Сталина. Она встречала в жизни, особенно в университете, парней и девиц всевозможных политических воззрений. У многих из них тоже висели дома ленины и сталины. Но они любили их или преклонялись перед ними, цитировали их произведения. А Святослав, она это знала, был антикоммунистом. Так почему же? Других фотографий не было. Зачем прикреплять к стене фотографии своих врагов?
Она легла и призналась себе, что Мальцев утомляет ее. Даже – когда молчит. От него постоянно веяло массивной мрачностью, за всем, что бы он ни делал или говорил, тянулся вкус морского тумана. Бриджит знала, что она никогда к этому не привыкнет, что вряд ли жить им вместе. Когда она думала о Святославе, в голове варилась каша из медведей, цыган, революций, царей, мужиков, броненосцев Потемкиных, толстых, троек, татар, водки, закусок. Подобная чепуха, близкая разве что мещанам, раздражала, бесила даже, но ничего кроме нее и вездесущей славянской души не хотело прийти к ней, жаждущей понять Святослава. Уснула Бриджит довольно быстро и проснулась от его стона. Мысль, простая, нежная, будто она жена его давным-давно, пришла сама собой: «повернулся на больной бок». Тихонько встала, включила свет и безмолвно ахнула: из руки тяжело спящего Святослава шла кровь. «Он революционер!» Сначала ребра, теперь рука! Мысль, что Мальцев может быть нечестным человеком, бандитом, не коснулась взбудораженной Бриджит. «Да, но получается, что он… что он антикоммунистический революционер!» Она никогда о подобном не слышала, и Бриджит почувствовала восторг от того, что Святослав стоит вне закона; от того, что спрячет его, вылечит; от того, что она придумала такое название – антикоммунистический революционер, и еще от того, что этот особый человек – ее первый мужчина. Она молча, гордясь безмолвностью, промыла резаную рану, обмотала ее куском своей рубашки, затем разбудила, обняла Мальцева и отпустила его из рук много времени спустя. Они лежали, теплым молчанием благодарили друг друга за радость в необычайной ночи. Он с грустью всколыхнул воздух:
– Напали, понимаешь, хулиганы. Не знал я, что у вас в Париже ночью так шумно. Их было двое… часы хотели снять, бумажник тоже самое. Не дался, и вот – порезали.
Бриджит кивала головой и растроганно думала: «Давай, старик, ври дальше. Ты будешь притворяться, я буду притворяться – и все будут рады. Давай, давай».
– Надоело мне все это, устал. Деньги у меня еще есть… давай поедем к морю на недельку-другую. Очень уж хочется. А?
– Давай, давай.
– Что?
Бриджит прижала голову этого советского, которого любила, к груди. Она была уверена, что спасет его. «Не дам его».
Она трагически выгнула руки, пробежала пальцами по тяжелому лицу, наклонилась, чтобы скрыть его от мира:
– Конечно. Тебе надо отдохнуть. У нас дачка есть в Вандее, на самом берегу океана. Ты машину водишь?
– Еще во дворце пионеров научили, в армии доучили. Но прав у меня нет.
– Не беспокойся, это я так спросила. Сама буду вести. А в Вандее ты был? Там, знаешь, красиво. Он грустно усмехнулся:
– Нет, не был, но знаю: шуаны, Фротте, Кадудаль, битва при Шоле. Ну и синий террор, маленький, милый, убивавший людей, а не рынок, не товарно-денежные отношения. Понимаешь?
Бриджит не понимала и, в общем, думала, что сам Святослав не понимает того, что говорит.
Он махнул рукой:
– Ладно. Все это ерунда. Спасибо тебе. Когда едем?
– Завтра. А теперь спи.
Он рухнул в сон. Бриджит смотрела на него, бледного от потери крови, и жалела, и боялась его. Но сильнее всего была нежность к этому странному человеку. Ей все казалось, что она любит, не может не любить.
* * *
Автострада не произвела на Мальцева сильного впечатления – Бриджит отметила это сразу. Он даже с неудовольствием что-то бурчал по-русски.
– Чего ты?
– Никакого вида. Могли и об эстетике подумать! А еще французы. А в общем, едем быстро. Бриджит рассмеялась:
– Это потому, что будний день. В выходные и автострады полны.
– Вот-вот, проклятый капитализм.
В голосе была ирония, и ей захотелось его уколоть. Бриджит прибегла к его же не так давно высказанной мысли:
– Ты мечтаешь о том, что для нас естественно. Мы родились свободными, поэтому для нас настоящая свобода там, где-то впереди.
Бриджит наслаждалась его замешательством. Он взглянул на нее с восхищением, и ей стало еще сладостней. В ладонях, лежащих на руле, защекотало – хотелось обнять хмурого Мальцева. Он неуклюже сидел, оберегая ребра, глядел на асфальт, шевелил рукой на перевязи, бубнил свое, раздувал щеки. Он был похож на упавшего с дерева мальчишку.
После Тура начиналась обычная дорога. Расплачиваясь за проезд по автостраде, Бриджит машинально прокляла ее:
– Вот сволочи, с каждым годом все дороже. Жрут, жрут и никак не насытятся.
– А ты чего недовольна? Ты же дочь сенатора. Что, денег у тебя нет, что ли? Бриджит искренне не поняла:
– Причем тут это? Если деньги есть, значит можно не замечать дороговизны? Тогда бы и денег не было. Пришел бы к нам твой любимый коллективизм. Ладно, ладно, я пошутила… не сердись, но ты иногда задаешь такие вопросы…
– Ты что, жадная, что ли?
Бриджит не выдержала, расхохоталась так, что машина стала писать зигзаги на гладкой дороге:
– Ты вправду мальчишка! Ну разве можно такие вопросы задавать. Ой, уморил. «Он как из другого мира: то старик, то дитя».
Мальцев с неудовольствием сказал:
– Развеселилась. Ты что, разбиться хочешь?
– Ты же не боишься. «Он и в самом деле не боится».
Дача была в двух километрах от океана и высилась среди других домов. Старик Булон любил холодную воду Атлантики и, в отличие от своих знакомых, не стремился к Лазурному берегу. Он странен, этот папаша, – заключила Бриджит, – из-за него ведь она познакомилась со Святославом… который без оживления оглядел двухэтажное здание и протянул:
– Н-нда, богато живете.
В его голосе послышалась издевка. И тут ничего не выходило! Обычно иностранцы из бедных стран восхищались, завидовали, из вежливости хвалили… ощупывали добро глазами, руками, ногами…
Мальцев прошелся по дому, нашел кухню, вернулся в гостиную с суховатым ломтем хлеба, стал жевать. Поймав ее взгляд, улыбнулся и пробормотал что-то по-латыни. Бриджит захотелось обнять его и оттолкнуть, понять его и ничего не понимать. И она отказывалась признаться себе, что мечтает видеть Святослава французом.
Ночью она пыталась вдавить в себя Святославово тело – глаза перестали видеть, ум понял, что не нужен. Когда опомнилась, плечо Мальцева кровоточило. Это была для Бриджит кровь, которую она с опаской искала и не нашла в их первую ночь.
– Прости. Не знаю, как это… не знаю.
– Ничего. Было не больно.
То, что она из его плеча взяла свою кровь, Бриджит не удивило. Тайна не нуждалась в пояснении, только в любви. Но что Святослав был одновременно чужим и самым близким, толкало ее к частому отчаянию.
«Господи, – подумала она, – что я Тебе сделала. Ведь он только ответил, спокойно, даже равнодушно и оставил меня в тишине. А мне так тяжело».
Ощутив соль в глазах, Бриджит сообразила, что нужно заплакать.
Слезы меняют время и чувство в человеке. Счастливый, плача о горе другого, непременно уйдет в собственное прошлое и начнет точить слезы о себе.
Бриджит же была только и всего что грустна в любви. Потому-то, плача над собой, скоро решила использовать оставшиеся слезы. Она всхлипнула, застонала. Он не шевельнулся. Утомившись плачем, Бриджит легла на Святослава, заглянула и раздраженно убедилась, что он спит. Под тяжестью ее тела Мальцев лишь шевельнулся и захрапел.
А к ней сон не торопился. Храп Святослава становился с каждой минутой все несносней. Бриджит встала, постаралась легко, по-девичьи, подбежать к окну – вышло неуклюже да еще резанул слух скрип половицы.
Не была она подготовлена к жизни с таким человеком! Все, что он ни делал, ни говорил, давило на нее, как и его взгляд. Он – чужой.
Бриджит не замечала, что уже который день повторяла эти слова с тайным желанием убедиться, что они пусты, или хотя бы слабы. А они вот ложились с прежней отчетливостью и насыщали действительность.
Она быстро открыла окно и глотнула свежей духоты. Мягкий воздух пах вялой травой. Ничего не чирикало. Она прислушивалась к своему сердцу. Стук должен был быть тоскливым, бесприветным.
«Если мое сердце имело бы шею, оно бы крутнулось, оглянулось на тот миг, когда я вошла в мансарду Святослава. Только у сердца нет шеи, у него ничего нет, кроме счастья с этим, храпящим, как мужик, типом. Но если любовь – светлое прошлое и задыхающееся настоящее, то и сердце и вся эта история мне уже надоели. Хорошего понемножку. Завтра же уеду! А там видно будет».
Решив уехать, она уснула как пролетарий. Первое, что Бриджит увидела утром, было его лицо. Она прижалась к нему, и только за завтраком, увидев открытое окно, вспомнила и рассердилась на свою слабую волю.
– Мне нужно – я вот только ночью вспомнила – быть дома. Дел невпроворот. И с учебой, и отцу надо помочь. Хорошо так было, что позабыла обо всем. Ты уж прости.
Мальцев не моргнул, только взгляд его сделался еще более весомым, чем обычно. Бриджит, все еще колеблясь, подождала его слов.
Он сказал:
– Память, она по-всякому ошибается. Можно лаской, можно и молотком.
У Бриджит удивленно вырвалось:
– Я только что об этом подумала… ну почти. Он крепко сморщил лоб:
– Это иногда бывает. И это всегда о чем-то говорит.
– Да, может быть, – ответила она рассеянно.
Ее поразило, что Святослав отнесся равнодушно к неожиданному ее решению уехать. Бриджит заставила себя продолжить начатый разговор. Каждое слово было жалким, и сквозь лохмотья игры повсюду проглядывала ложь. Она была уверена, что Святослав уже насмехается над ее беспомощностью.
– Останься. Сколько хочешь. Пока выздоровеешь. Ты же еще болен. Деревенский воздух пойдет тебе на пользу. Запасов еды в этом бараке много. Я вернусь – уверена, что смогу, – через недельку. В доме есть велосипеды. Осмотришь окрестности…
– Ты будто извиняешься.
– Нет, но как-то неудобно.
– Неудобно штаны через голову надевать.
– Что? Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего. Хорошо. Спасибо. Останусь на недельку. Только ты скажи соседям, а то еще за вора примут.
Мальцев некрасиво улыбнулся, но она предпочла увидеть в сказанном шутку и рассмеялась.
Когда, прощаясь, поцеловала его губы, сомнение вновь затронуло ее. Она замялась. Мальцев погладил ее по волосам сильно, успокоительно, как это делают с собаками.
– Ты хочешь что-то спросить? Нужно быстро найти вопрос, пока Святослав не понял, что ее можно быстро и легко отговорить:
– Да. Почему у тебя висят портреты Сталина и Ленина?
– Ленина и Сталина? – Он растерялся и ответил напыщенно: – Потому что они большие враги моего народа.
Бриджит толком не расслышала Святославова ответа, чмокнула его в щеку и быстро уехала.
Проехав километров двести, она решила, что ничего уже не может измениться.
Разве что избавиться ей от наваждения, изменив Святославу. Идея показалась ей вначале неплохой, но представив придавливающее ее грудь чужое тело, Бриджит почувствовала резкое желание вернуться к своему раненому русскому. Но она нажала еще сильнее на педаль акселератора.
Глава девятая
ОТКРОВЕНИЕ
В последующие два дня Мальцев постигал, с каким превеликим трудом мысли облекаются в словесную оболочку.
Размышления не создавали твердой ткани, такой, когда человек спокойно разговаривает с самим собой. Нити натянуто тонко визжали и рвались, но без безнадежной сухости, а оставляя со всех сторон тянувшиеся друг к другу руки. «Сейчас пойму… себя».
Подобное состояние держалось до вечера. Мальцев читал заголовки всех попадающихся на глаза книг – думалось машинально, что в Союзе он был бы от них в восторге: «Только от этой кучи Агаты Кристи и Сименона я был бы счастлив в Ярославле целый год, не меньше».
С темнотой приходила тоска, густая, и он, решив схитрить со своим мозгом, уходил во двор разжигать костер. Глядел на пламя. От его желтизны и искр ему становилось легче: костры везде одинаковы.
Мальцев в сердечной простоте решил, что Бриджит действительно нужно было уехать – она заранее, конечно, знала об этом, но решила сыграть нужную игру: увезти его в деревню, дать ему там радость и вылечить заодно. «Они умеют лучше нашего врать для добра». Мальцев верил, что душа женщины глубже, хрупче и нежнее внутреннего мира мужчины. Мальцев уже не помнил, почему и откуда пришла эта вера, но его природа была ею пропитана, и она знала, когда все началось. У характера человека имеется своя особая память; она спасает мысль от невыгодных воспоминаний.
Тогда Мальцев был пареньком. Он шел по осенней улице какого-то поселка. Она напоминала, эта улица, – впрочем, похожая на уйму других, – изнурительную болезнь, пожалуй, медвежью. К ней, казалось, стекалась грязь мира. Она уходила из тела улицы во все возможные дыры земли, но другой мерзости прибывало взамен еще больше. Мальцев шел, поплевывая от бесшабашности: достал по блату у одной девки из сельпо восемь банок тушенки и три полушки уже официально не существующей «Московской» – и потому топал себе в кирзухах весело и заманчиво по этому свету, каким бы он ни был. Движок в те сутки работал исправно – то ли солярку подвезли, то ли механик был трезвым в тот вечер. Света хватало на квартиры, телевизоры, часть деревянного тротуара и кусок улицы. Веселый Мальцев утробно хохотнул, увидев привычное: бабу, тащившую своего мужика. Широкое пальто делало ее большой. Муж все соскальзывал с плеча. Баба останавливалась, пыталась вновь устроить его у себя на спине, уйти в темноту и не провалиться в тракторный след. «Молодец баба… дает!» Сползший платок лежал на воротнике пальто, а кепка мужика занимала весь ее лоб. Торчал неправдоподобный козырек. «Как у американских туристов». Кепка на голове бабы позабавила Мальцева, она придавала происходящему оттенок лихачества.
Поэтому Мальцев оторопел, когда услышал тягучий стон и увидел, как женщина сбросила ношу с плеча на дорогу, как наклонилась и вдавила голову мужа в жидкую грязь. Мальцев тихо подошел и услышал: «Жри, сволочь, шамай, паскуда, жри!»
Неприязнь к женщине сразу загребла Мальцева. Вот они, суки! Пользуется, что тот выпил. Вот!
– Чо, помочь те?
Резкое движение ее испуга было противно Мальцеву. Мужик, лицо в дороге, не ворохнулся.
– Ты смотри, копыта откинет. А чо, а?
– Ты кто такой?! Кто?!
В голосе у нее был то звонкий, то хрипящий страх, будто женщина ежемгновенно меняла возраст. Мальцев подошел вплотную:
– Не бойсь, чужой.
Он вгляделся. На лице бабы было сильное утомление, отчаяние, следы горя. Мальцев мягко повторил:
– Чужой. Не бойсь, дай помогу.
– Что ты, что ты!
– Ладно, дай. Сказано ведь – чужой я. Сказано ведь – не бойся.
Мальцев взвалил человека на спину.
– Показывай дорогу.
В доме, положив на лавку спящего человека, он повнимательней осмотрел бабу: на вид лет сорок, на деле, наверное, двадцать с небольшим. Морда – стандарт – через минуту забудешь. Вот стерва. Может захотела вот так мужа угробить. Утопить. Такое бывает. Запросто.
– Что, прогонишь теперь или выпить дашь? Тяжелый он.
– Нету у меня. Ладно, сядь.
– Сама сядь. У меня свое, во! есть. Посуду дай.
– Я не буду.
– Ничо. Немного можно… раз дают. От крепкого и покрепчаешь.
Баба села, выпила, сморщилась и заплакала. Мальцев махнул рукой:
– Все вы такие. То угробить хотите, то плачете. Середины нету, а?
Она зарыдала, захлебываясь. Отпила еще, стала икать.
– Хороши судить. Вы! Он все, все прогулял. Деньги, гусей, поросенка, уток. Мне через неделю за корм – корова осталась – маслом платить надо. Чем буду совхозу платить? А дети? А долги? Будь он проклят, проклят, проклят.
Мальцев промычал: «Н-н-нда. Нехорошо». И опустил голову, ощущая, как стыд покрывает щеки, как совесть где-то между животом и грудью заболела долгой болью. Пробормотал:
– Чего он так? Может, чего случилось?
Ему захотелось ее обласкать, сказать, что все будет хорошо, что, ну, бывает. Еще больше ему хотелось уйти и снова повеселеть. Мальцев вытащил тогда из сумки пять банок тушенки, но сразу же подумал, что четыре или пять, какая же разница, и оставил бабе четыре. Он уснул в ту ночь с трудом, но утром был уверен, что сон пришел к нему легко.
Мальцев быстро забыл этот случай, но отношение его к женщине вообще с тех пор изменилось. Уважения не прибавилось, но появилась жалость, которую он часто путал с пониманием.
Костры из заготовленных, ровных как на подбор, поленьев горели иногда и днем, но только третьей ночью произошло тайно ожидаемое.
Он любил Бриджит, ее глаза с их легкостью помогали жить, тело – приятно существовать. Но она не была наименьшим злом, которое он искал. Франция тоже им не была. Значит, свобода не наименьшее зло? Что же тогда? Столько лет насмарку, что ли? И шкурой своей рисковал для чего, а? Что ж теперь?
Он зачарованно глядел на синь костра, зачастую освобождающую человека от шелухи бытия, знал, что ответ в нем сидит уже давно – может, и до первого его дня на свободе. Да, может, он еще там, в Союзе, все знал, но не слушал невыгодного, смертельно невыгодного…
Он отвернулся от огня и запретил себе беседовать с собой. «Это все от одиночества. Кругом чужое. А она уехала! Бросила. Напьюсь».
Выбрав из запасов сенатора Булона что-то сорокаградусное, Мальцев стал представлять себе этот дом своим, а море, что рядом, – нашим.
Новой ночью, облевав пол гостиной, он едва добрался до постели.
Ему снилась мать. Насмешливо улыбаясь, она била сына молотком по голове и спрашивала, уверенная: «Ну что, вступишь в партию?».
Утром Мальцев, спасаясь от головной боли и чувства внутренней нечистоты, бродил по комнатам, трогал мебель и пил пиво.
«Пойду на пляж», – решил он.
Потоптавшись, Мальцев подошел к зеркалу, всмотрелся. «Все-таки любопытно быть робким марсианином. А ведь никто не скажет – за скандинава, арийца или даже за латинянина могут принять. А ты ведь не просто варяжонок-славянин. Э! Ты из другого мира. Ты ренегат, потому что пошел против власти – она ведь продолжает сидеть в тебе. Ты хочешь свободы, а в тебе продолжает сидеть непримиримость к ней. Ты – урод, хотя этого никто не увидит».
Пиво начало побеждать головную боль.
«Я все равно пойду на пляж, а через несколько дней поеду назад и найду работу».
Мальцев говорил себе все, что знал давно и наизусть, но он вновь и вновь раскрывал перед собой свои истины так, как человек ест перед особенно тяжелым трудом.
Почище одевшись и пробормотав «смело мы в бой пойдем», Мальцев пошел к калитке. Проходящая пожилая женщина в ответ приятно оскалила зубы.
– Хороший день сегодня, правда? А как месье Булон, у него все хорошо?
Мальцев автоматически перевел ее слова на русский, и получалось, как у Чехова, когда говорят слуги.
– Я приехал не с ним, с его дочерью.
«Чего она спрашивает? Да здесь так принято. Но чего она все-таки спрашивает?» Мальцев старался быть вежливым, но ответ прозвучал все же сухо.
Женщина воскликнула:
– С мадемуазель Бриджит! Помню ее еще совсем маленькой. Как время бежит. Очень хорошие люди, вежливые, предупредительные. Хорошие соседи… да, заболталась я. Хорошего вам дня.
«Хо-ро-ше-го в-ам д-ня. – Так говорит, будто леденец жует». Мальцев долго смотрел женщине вслед. «Может, она деньги Булону должна? Чушь, здесь люди всюду вежливы. Благополучие рождает вежливость и равнодушие. Им бы революцию». Мальцев скривился. «Тебе бы только революции».
По дороге Мальцев вошел в запах хвойных деревьев и сразу же сделал юношески быстрое движение. Появившаяся в ребрах боль притупила зрение. Он похватал ртом богатый солнечной и хвойной чистотой воздух. «Как рыба, как рыба». Резкое движение избивающих его ног, гневные французские лица над ним, бессмыслица случившегося у заводских ворот сумели вызвать в Мальцеве мгновенную жажду мести. Встречавшиеся люди улыбались и улыбались. «Ничего, посмотрим, как будете шкириться, когда наши танки придут». Мягкий песок пляжа играл его ногами, тянул, дергал. Бинт под рубашкой елозил тупой пилой. По лицу растекался холодный пот. А люди продолжали ему уродливо улыбаться. Мальцев сел на песок – он почувствовал себя нелепым существом с искривленной душой. Только когда появилась тучка, закрывшая солнце, он понял: свет, отскакивающий от моря и пляжа, жмурил глаза и растягивал рты. Никто не смеялся. И Мальцев тогда улыбнулся этим людям, а на обратном пути к дому подумал несколько раз, что нет, он не хочет видеть тут советские танки, что не он этого хотел, а его глупость, его отчаяние. Он был готов просить прощения у хвойного запаха.
Это искреннее желание принесло Мальцеву облегчение. В конце концов он никому в этой стране не хотел зла, наоборот…
Проходя по улице сонливой деревни, он увидел в одном из дворов фермера, копающегося в моторе своего трактора. Жилистые мощные руки и кепчонка на затылке говорили о доброте и усердии. Мальцев ощущал в себе дружелюбие, потому ответил на бесшумный зов:
– Привет. Может быть, я смогу вам помочь?
– К черту!
По-детски обиженный Мальцев зашагал в сторону. Его догнал медленный сочный голос фермера:
– Это я не вам – этой дряни, заводиться не хочет!
Мальцев почти подбежал к трактору. Умиление текло в нем. И так хотелось ему, чтобы трактор завелся, а наши танки не пришли.
Перед Мальцевым стоял крепкий мужик с красным лицом; взгляд его был оценивающим:
– Что? Вы разбираетесь в этой дряни?
– Немного. Но я много копался в такого рода машинах в армии. Дайте взглянуть.
Вдоволь поковырявшись, Мальцев подумал, что добьется лишь посрамления. Стыд напомнил ему старшину Фоменко. «Это не магнитофон, сучье племя, а магнето. А когда наше магнето выходит из строя, им продолжают пользоваться. Ясно? А когда сучья труха в нем отказывается принимать ток – не как ты водку, – тогда его нужно брать прямо из горла, то есть найти прямой контакт. Смотрите, а то не так сконтачите и получится саботаж».


