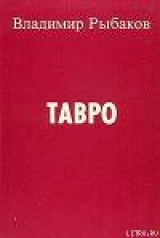
Текст книги "Тавро"
Автор книги: Владимир Рыбаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Мальцеву в конце концов удалось тюкнуть противника так, чтобы большой палец влез в ухо – после подобного удара человек обычно терял координацию движений. Но пары хмеля опять все попутали – молодой человек только закричал от боли, отскочил и выхватил из кармана рукоять, из которой с резким звуком выскочило лезвие. Оно бросилось к Святославовым глазам. Мальцев успел отпрянуть и нагнуться. Лезвие незаметно порезало кожу лба. Он схватил вновь поворачивающегося к нему противника за оба запястья, попытался свалить его с ног, но кровь со лба уже лилась на глаза. Мальцеву показалось, что он ослеп. Теперь его более не интересовала драка, только спасение жизни. Это желание вытеснило даже оставшиеся в нем обрывки мыслей и внутреннее рычание. Он молча и быстро сделал то, что до него делали и после него будут делать люди в подобной ситуации – откусил кончик носа врага, затем одновременно с его воплем ударил головой по ране и, когда, теряя сознание, молодой человек покачнулся, Мальцев, подскочив, добил его ударом ноги в грудь. Только после этого он осознал, что не ослеп.
– Что смотрите! Дайте хоть зеленки! Забывшись, Мальцев орал по-русски. Девушка парня закричала:
– Сволочь! Грязная сволочь!
– Блядь! – завизжал Мальцев.
Опять по-русски.
Внезапно посетители быстро пошли к выходу. Первой выскочила из кабака девушка, обругавшая Мальцева за то, что он ее спас от побоев. Он услышал потрошившую воздух долгую сирену. Ворвавшись, полицейские уставились на лежащего на полу вдоль стойки молодого человека, затем один схватил платком валяющийся нож, другой – плечо Мальцева.
– Это он?
Бармен нехотя кивнул. Его лицо выражало спокойное неудовольствие.
– Что произошло? Знаю, знаю. Ты ничего не видел, ничего не слышал… Ну?
Бармен продолжал молчать. Тогда полицейский подошел к Мальцеву:
– Ну, чего не поделили?
Мальцев не слушал, а если услышал бы – не понял. Он был скован старым страхом. «Хана… я ведь не хотел…». Безволие разом захватило все остальные чувства и одело их во все серое.
Оставалось ждать, пока его отправят куда следует. Оправдываться не имело смысла, тем более спорить или ругаться. Это тайное знание, о котором Мальцев долго не подозревал – до первого ареста… давным-давно, в какую-то эру – теперь вновь безразлично вышло, как палач, и заняло свое место. «Сколько дадут? Три или пять?» Святослав посмотрел лицо лежащего парня. «Семь лет дадут, не меньше». Мальцев мог быстро отрезветь, но решил не стараться.
Зэк в нем (он никогда не сидел, но нужно ли сидеть, чтобы в потрохах засел мудрый зэк) знал, как будто от начала новой истории человечества, что первые часы после перехода на полное государственное обеспечение бывают психологически самыми трудными – так что, если добрый Боженька подарил тебе тупое забвенье, не отказывайся от него.
Бармен с изумлением посмотрел на Мальцева, прочел обречение на его лице и не выдержал. Он быстро оглянулся и подозвал к себе полицейского:
– Слушайте, я не знаю, что теперь происходит с этим месье, почему он ничего не говорит, ничего не поясняет. Я вам скажу, но ничего не подпишу. Чтобы это было ясно – я ничего не подпишу. Вы уйдете, я останусь – а, – бармен указал пальцем на окровавленного парня на полу, – Жерар вернется и без носа будет еще злее. Так вот, этот месье – советский, и я его вижу впервые. Он просто не понял, так я понимаю. Жерар давал урок поведения Жаннет, ну той самой, что работает тут на углу, а месье, вероятно, чего-то не понял – иностранец – и вступился в ее защиту. Ну, Жерар психанул, вытащил перо… тогда и месье рассердился. Вот и результат. Вообще-то Жерар последнее время психовал по всякому пустяку, так что так и должно было рано или поздно кончиться… но я ничего, учтите, не видел, не слышал… и ничего не подпишу.
Полицейский кивнул головой и озабоченно обратился к Мальцеву, глядевшему на свои безжизненно висевшие руки:
– Вы не ранены? Простите, вы не ранены, плохо себя чувствуете?
– Нет, нет. Хорошо, хорошо.
– Вам нужно будет пойти с нами. Не беспокойтесь, не надолго.
Мальцев услышал новый вой и задрожал, будто к нему съезжаются со всего Парижа сотни, тысячи милиционеров. И вдруг чувство, заставившее тело задрожать, будто остановилось. Из памяти Мальцева стало выходить странное знание, утверждающее спокойно, что он – в безопасности. Мальцеву показалось, что пришло успокоение из-за того, что страх не усиливается. На деле страх уходил, съеживаясь под силой дружеского лица бармена, под теплыми интонациями в голосе полицейского. Мальцев еще не успел понять, что с ним происходит, как в нем уже начинала растекаться уверенность в безнаказанности.
Это было похоже на сказку, когда с узника сами падают узы. Мальцев случайно потряс головою, как раз когда мимо него проносили носилки.
– Так вы его, значит, не знали? И что он сутенер и хулиган, вы тоже не знали?
Мальцев поморщился, силясь понять, что за чепуху городит полицейский. Потом, через секунду, до него дошло:
– Как, значит эта, эта женщина…
– Проститутка.
– А он значит…
– Сутенер.
Лицо Мальцева взяла сильная оторопь, полицейские расхохотались, и он хохотал вместе с ними. Он понял, что смех полицейских не притворный, а его собственный не усиливает вины. Он, странное дело, знал уже, что вины нет и, главное, что это имеет большое значение.
В черном воронке полицейский похлопал его по колену:
– Так вы советский? Невесело там жить, а?
– Да, невесело.
– Да-а. Не беспокойтесь, он не сдохнет. Хотя вы его хорошо отделали. Это что, русский прием – откусывать нос?
Полицейский еле сдерживал смех – на лбу Мальцева красовался тонкий элегантный пластырь.
Мальцев нахмурился. Полицейский начинал его раздражать:
– Нет, человеческий. Я бы хотел поглядеть, что вы бы сделали на моем месте. Дал бы ему еще секунду – остался бы без глаз. Не у меня нож был.
Полицейский кивнул:
– На ваше счастье. Иначе…
Мальцев его не слушал. Он уже сдерживался, чтобы не обругать их всех, представителей власти. В его освобожденных чувствах само это слово – власть – означало теперь всего-навсего неприятное напоминание серых обязанностей.
Когда черный ворон остановился у полицейского участка, Мальцев нагло поглядел на окружающих его людей в форме и, чуть не пихнув одного из них, пошел резким шагом к входной двери. «Подумаешь, они меня еще благодарить должны. Освобождаю их от всяких альфонсов. Тоже мне!..»
За столом в кабинете сидел усталый человек в штатском. Он спросил безразличным голосом:
– Ну что, что такое? Ну?
Мальцев опешил. Ощущение беспомощности, от которого он успел отвыкнуть за несколько минут, возвращалось. В этом было повинно выражение «человек в штатском». Оно всегда для него означало злую волю при полной безнаказанности. Когда говорили: «Да был… в штатском» – означало, что дело нешуточное и, быть может, не закончится мелкими неприятностями, а – пропиской в клеточку. От человека, к которому приходил другой человек… в штатском – привычно отступали и отступались, без шараханий – так, как это делают со смертельно раненными товарищами.
Ощущение побарахталось в Мальцеве, не нашло себе места и ушло в прошлое. Мальцеву быстро захотелось сказать усталому человеку: «Ты чего, папаша, в три смены работаешь? Пошел бы домой, жена пельмени сделает, а?»
Человек в штатском сказал, вяло и скучая:
– Что это за пидар?
Мальцев не обиделся и даже не удивился мысли, что мог бы, почему же нет, оскорбиться. Но желания не было драть глотку – ему больше всего в эту минуту хотелось пива. Он мечтал о нем, пенистом и густом, пока подчиненный докладывал начальнику о происшедшем.
– Садитесь.
«Штатский» смотрел на Мальцева приветливо и не без смущения. «Чиновник, да еще из органов, а не потерял в себе человека», – подумал с уважением Мальцев.
– Я, конечно, хотел бы, чтоб нас избавили таким образом от всех сволочей… но ведь тогда все больницы были бы переполнены. Да и вам в другой раз может не повезти. Так что будьте осторожны. Я не знаю, как у вас там в СССР такие дела обстоят, но здесь вам повезло, что были свидетели и что они высказались в вашу пользу. Бывает и по-другому.
«Если бы ты знал, папаша, как у нас бывает. Трояк бы дали запросто, со свидетелями или без. Если б ты знал, что у нас и сидеть-то не грешно… от сумы да от тюрьмы…».
Он ответил:
– У вас демократия, а у нас ее нет.
Тот усмехнулся. На его лице без резких черт изобразилось расплывчатое презрение, будто привычка презирать привычно устала:
– Не демократия, а дерьмократия.
«Ты смотри! Он как будто нашим лягавым завидует. А что, добрый-добрый, а дай волю – слопает и подумает, что так и должно. А вот нету у тебя свободы мою свободу сожрать. Хорошо».
– Слушайте, у вас нет пива? Дайте пива!
Лицо полицейского в штатском обострилось, глаза расширились, покрытые алкогольным загаром щеки побуровели:
– Что!? Искалечил человека, нарушил общественное спокойствие в общественном месте… посадил человека в больницу… Законы есть! Они для всех! Пива! Да у тебя, я вижу, дикое хамство. Знаешь что, подпиши вот тут и проваливай, пока я не передумал. Вот это да! Если иностранцы будут себе такое позволять!
На улице Мальцев, нагло посмотрев на осеннее предутро, на его нищую белизну, пошел искать кафе с немецким пивом.
Опохмелка делала усталость легкой, желание спать – приятным, уверенность в себе – железной.
К Министерству обороны Мальцев подошел с самым что ни на есть здоровым оптимизмом. Ему вспомнился полицейский. «Чиновник всегда думает, что из-за слабости его полномочий страна идет к анархии. Вчера вот они, если б могли, врезали бы на всю катушку. Хоть для самоутверждения. Да-с, мусью, сила этой страны в слабости ее исполнительной власти… не надо, конечно, ничего преувеличивать, но факт есть факт – именно их слабость позволяет им оставаться людьми на подобной работе».
Раньше он говорил «я имею право» с недоверием, теперь это казалось ему странным. «Я свои права знаю» – не было, как раньше, весьма эфемерным способом самозащиты и самовнушения, а спокойным утверждением законности. Мальцев уже начинал понимать самодовольный возглас алкоголика, узнавшего, что красное вино подорожало: «Не буду больше за Него голосовать!»
Он долго ждал в одном помещении, затем в другом. «Все военкоматы одинаковы». Наконец, его ввели в кабинет к скучно сидящему за столом молодому офицеру.
– Я должен вам объявить, что вы дезертир и что как таковой будете судимы военным трибуналом.
Мальцев остолбенел и глупо раскрыл рот. Когда он вернулся в Ярославль после демобилизации, военком, старый знакомый, сказал: «Вернулся, значит. Контрик, мать твою. Да еще с лыками. Так. Не добили тебя. Жаль. Ничего, мы доконаем. Не думай, что вы все будете с советской властью вот так вечно играть. Поверь, тебя еще трибунал приголубит. Даю слово настоящего коммуниста». «Неужто Филиппенко, мой милый полковничек, который, должно быть, локти кусал, когда узнал, что меня надо с учета снимать, вот так взял да и влез в шкуру этого французика. Прямо родственная душа! Только зубы коротки».
– Послушайте…
– Мне нечего слушать!
В Мальцеве не было и капли опасения. Изумление сменилось возмущением.
– Как? Вы должны все-таки объяснить мне, в чем дело. Я имею право знать!
«Вот так и никаких гвоздей!» Мальцев был рад за себя. Все у него вышло естественно. Тайный голос не шептал ему трудно выговариваемых слов.
– Да, имеете. Вы жили за границей, но как только вам пришла повестка, вы должны были немедленно вернуться во Францию и отслужить, как все. Вы этого не сделали, на основании чего являетесь дезертиром. Много вас таких… смотался, а другие расхлебывай.
Мальцев посмотрел на офицерика, будто тот дружественно предлагал ему застрелиться.
– Что? Да вы хоть понимаете, что говорите? Вы знаете, где я был?
– Это меня не касается.
– В Советском Союзе. Не в Англии, не в Канаде и даже не в республике Берег Слоновой Кости. Да я даже не знал, что я француз.
Взгляд офицера забегал, но он храбро повторил:
– Это меня не касается.
Тут Мальцев разошелся:
– Потому что вы чиновник, а не солдат. Это вам так не пройдет. Я свое отслужил. Я требую разговора с вашим начальником. Немедленно! Это вам так не пройдет. Нет, да вы посмотрите, что говорит этот человек! Вы что, может быть, хотели, чтобы я из Москвы приехал в Париж, отслужил и затем вернулся в Москву? А? Вы что, не знаете, что такое Советский Союз? Вам что, рисунок сделать?!
«Он думает, что человек, которого хотят отдать под суд и который себя так ведет, явно чувствует за собой какую-то силу. И он решил не связываться, чем черт не шутит. Отступит. Извинится».
Но офицер покраснел от ярости:
– Это не мне, а вам так не пройдет. Выйдите и ждите в коридоре.
Мальцев прождал часа четыре. Несколько раз он решал уйти и каждый раз решение было как будто бесповоротным, но всякий раз, доходя до лестницы, он останавливался – появлялась неуверенность в своей правоте, а собственная наглость мнилась безмерной. Когда его наконец вызвали, Мальцев был уже более, чем обеспокоен: «Вылезет мне все это боком. Вчера лягавые, сегодня вояки за шкирку хватают. Это Франция меня по своим кругам пуляет. Как будто проверяет на крепость. А что, возьмут и посадят! За дезертирство, небось, и тут конфетами не кормят. Не может же так везти в жизни. Фортуна – шлюха и баба вертлявая, раз да и отворотит рыло. Что тогда?»
Полковник средних лет вежливо попросил его сесть, молча углубился в досье.
«Мое дело листает старик. Посадить, не посадить? Будем надеяться, что любовница этой ночью ему хорошо подмахивала. Господи, опять начинается! Я же прав, прав и имею право не бояться! Имею! Чуть не сел за то, что защитил проститутку от сутенера, был избит за то, что хотел работать, а теперь… не хватало военного трибунала. Хана, други, хана».
В Мальцеве стал подниматься истерический смешок. Вся его свобода ушла в разговор с тем офицериком-лейтенантом. Он вновь превращался в старого Мальцева. Тело съежилось, голова стала падать на грудь, мысли затряслись. Но тут в черепе что-то щелкнуло, будто заработал запасной мотор, новый, свежий. Мальцев шумно вздохнул: «Пусть сажают, гады. В конце концов должен я, наверное, через это пройти».
– Бофф.
Полковник поднял голову:
– Простите?
– Нет, ничего. Я жду.
– Ах да, простите. Да, значит вот… Офицер, с которым вы разговаривали, допустил ошибку, он не разобрался. Конечно, вы не могли прибыть из СССР для исполнения своих воинских обязанностей. Ну, а раз вы уже отслужили в другой армии, то не переслуживать же вам во французской, не правда ли?
– Совершенно с вами согласен.
Этот полковник был на удивление неподходящим для своего звания – от военного в нем была разве что самодисциплина, манерами и словесными оборотами он походил скорее на адвоката, но Мальцеву почему-то подумалось, что он, должно быть, профессионал, то есть холодный и храбрый человек. Правда, он не раз видел офицеров, спокойно играющих со смертью, но панически боявшихся начальства. В общем, Мальцев не почувствовал к полковнику неприязни, тем более, что тот ничего не мог против него. Почему, он сам не знал, – новая победа над самим собой еще спала в подсознании.
– Я понимаю. Вас оскорбили, но вы должны понять, что офицер счел, что вы ловкач, увильнувший от службы. У нас многие так делают – уезжают за границу и думают, что отделались. А вы, значит, воевали на китайской границе?
– Да. В общем, если так можно выразиться.
– И в каком звании?
– Довели меня до старшего сержанта.
Полковник заинтересованно поглядел на советского сержанта и предложил ему пойти выпить. Спросил, хочет ли он водки. «Банально». Мальцев не стеснялся и заказал тройную и поморщился, когда бармен достал бутылку «Выборовой». И объяснил удивленному полковнику:
– Это не настоящая водка, она слишком вкусная. Водка должна бороться с человеком и только постепенно побеждать его. Пить водку – это, если хотите, битва, а не женское удовольствие. Вы, французы, пьете водку, как коньяк.
Полковник улыбнулся:
– Ну, это не значит, что мы женщины. Исторически мы вообще воинственная нация. Скажите, что вы думаете о нашей армии?
Мальцев поколебался.
– Давайте, я не обижусь. Интересно же знать, что о нас думает советский сержант.
Мальцев молча выпил: «А почему бы ему не сказать, что думаю. Можно, конечно, но возьмет и психанет, как тот, которому говорил о партизанах. Каждый со своей колокольни глядит… А-а-а, хочу и скажу – да ничего обидного и нет».
– Да знаете ли, я, естественно, интересовался западноевропейскими армиями. Когда служил, часто говорили, что нам придется с вами воевать. Скажу честно, что мы, в общем-то, были не против. Мы были уверены, что будет гораздо интереснее воевать с вами, чем с китайцами, но, с другой стороны, мы знали, что наш первый долг воевать именно с китайцами. Нам иногда говорили офицеры – после политдолбежки – что в случае перманентной войны с желтыми братьями мы, быть может, будем вынуждены сделать все, чтобы не воевать на два фронта, а это значит – завоевать без применения ядерного оружия все, еще оставшиеся независимыми, страны Европы. Мы не считали вас врагами. Но приказ есть приказ.
– И что?
– А то, что вера в победу в несправедливой войне есть, с военной точки зрения, высшее достоинство солдата. Это значит, что солдат достаточно воспитан и научен, чтобы убивать и умирать, не руководствуясь идеалами.
– Это не ахти как морально то, что вы говорите.
– Требовать от солдата другой морали, кроме ведущей его к выполнению приказа, есть преступление, вследствие чего может быть завоевана его страна. И не думайте, что я милитарист. Терпеть не могу войну – она прежде всего грязь, вши, холод, голод, жара и жажда, а не пули и осколки. Мы почти все в СССР, кто за и кто против режима, не хотим войны. Только за нынешний век мы ей дали больше, чем все остальные страны вместе взятые.
– Так что же? То вы не против, то против войны. Вы противоречите себе.
Мальцев выпил еще водки и поглядел на полковника с усмешкой:
– Вы же знаете, что в моих словах нет противоречия. Еще Юстиниан сказал, что виноват в войне не тот, кто первый напал, а тот, кто начал первый к ней готовиться. А к ней готовятся все. И все говорят о мире и разоружении. Однако в этом также нет противоречия. Вы же знаете, что в нынешних условиях сверхдержавы и высокоразвитые страны не могут сознательно стремиться к большой войне и потому вынуждены – даже в том случае, когда это явно безрезультатно – использовать своих союзников и сателлитов для борьбы с противником, стремясь потеснить его, ослабить, но ни в коем случае не загнать его в угол, – другими словами, всегда оставлять противнику дипломатическое пространство для отступления, компромисса. Вся беда в том, что никто не знает точно, где начинается и где кончается это пространство и что же точно для противника будет роковым углом. Поэтому у нас сознательно или подсознательно большинство считает, что война неизбежна.
Поэтому мы, как вы говорите, бываем против и не против войны.
– Вы, кажется, не успели закончить ваше ученье в университете?
«А он усердно пролистал мое личное дело. Даю голову, что по привычке, да и слушает он, чтобы как-то провести время. Скучно ему в своем кабинете».
– Какое это имеет значение?
– А то, что теоретически можно с вами во многом согласиться. Но есть и факты, например, тот, что Красная армия не воевала уже около тридцати пяти лет.
– И хорошо, что не воевала. На ваше счастье. Полковник с неудовольствием повел плечами:
– Ваш патриотизм мне, конечно, понятен, но…
– Это не патриотизм, а реализм. У вас, простите, солдат остается во время службы гражданским лицом, оказавшимся почему-то в военной форме. Он не хочет ни служить, ни воевать – что вполне понятно и законно. Никто этого не хочет. Все дело в том, что солдата необходимо на время службы заставить забыть, что он не хочет служить. Необходимо изменить его психологию, необходимо произвести временное насилие над его личностью. Независимость страны стоит этого.
– Вас французы не поймут.
– Я именно об этом и говорил. Люди забывают, что в современной войне, как и тысячи лет назад, воин дает силу оружию, а не наоборот. Люди теперь вообще хотят забыть, что война возможна. И люди также забывают, что сделать из плохого солдата хорошего не так уж трудно.
Полковник уже не слушал. Мальцеву тоже стало скучно бросать слова на ветер. «Но правда ведь, так хочется, чтобы демократия была сильной. Не моя же это вина».
Полковник допил свою водку нарочито длиннющим глотком, почмокал губами. А когда заговорил, в его голосе было презрение:
– С таким, как вы, в правительстве, у нас была бы завтра революция. Мы здесь – свободные люди. А с вашим образом мыслей, не в обиду будь вам сказано, не нужно было уезжать из вашей страны. Хотите, я вас устрою в Иностранный легион? Там вам и место.
– Спасибо, но вы уже потеряли свои колонии.
Полковник вежливо попрощался и ушел, не оглядываясь.
«Колонизатор несчастный. А, впрочем, чего я его ругаю, не посадил же меня, даже не ругался. Милый человек, чего там. А то, что ему не по душе критика его армии иностранцем, вполне естественно. Люди вообще любят задавать вопросы только потому, что заранее ждут удобных ответов, ответов, сходящихся с их мнением. Ладно, хоть водки выпил – и то хлеб».
Но из кафе Мальцев вышел в толпу более чуждую, чем она была утром. Обвинение полковника в наличии в нем тоталитарной сущности незаметно оскорбило его, тайно считавшего, что победил в себе несвободу – сильную, жуткую, верную, приятную покоем и отсутствием необходимости решать. Он даже был уверен, что прикончил в себе героического раба, а тут – вот те раз: человек, которого он видит впервые и с которым начал серьезный разговор, дает понять, что он, оказывается, занимается самообманом.
«Не буду больше заниматься делами людей, родившихся свободными. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы же давно на дне и рвемся наверх. Я здесь все-таки гость…».
А французский полковник вернулся в свой кабинет в весьма недобром настроении – он злился, что в глубине души, и как офицер, и просто как человек, был вполне согласен с этим чудаком, бывшим советским сержантом. И завидовал ему потому, что он никогда не сможет, не осмелится сказать и доли того, что только что ему наивно выложил этот русский.
А русский в то время звонил Тане и легким голосом спрашивал, нашла ли она для него приятную работенку, благодарил, записывал адрес, желал всего хорошего и отправлялся в один из близких пригородов бывшей столицы мира.
Таня нашла ему место в какой-то мастерской: «Жоэль хороший парень и замечательный хозяин». Это оброненное слово «хозяин» грызло настроение Мальцева: «Хозяин! Может, ему еще в ножки поклониться?»
Двор, домик, позади еще двор – посередине широченная черешня, а за ней мастерская. Из нее вышел человек, похожий на колобок на пружинах.
– Да, мне жена говорила. Пойдемте. Что вы умеете делать? Токарное и фрезерное дело вам знакомы?
От человека веяло силой, и он смахивал на одухотворенный механизм.
– Да. Я, конечно, прежде всего сварщик, но знаком с разными станками, я даже несколько месяцев вкалывал на токарном.
– Это в СССР?
– Да.
– И учились вы бесплатно?
– Да.
Мальцев так и не понял, понравилась ли французу его немногословность. Да и, в сущности, ему было на это наплевать. Он был уже внутренне готов отвечать на каждое грубое слово двумя, а за малейший грубый жест отправить этого капиталиста в больницу, несмотря, разумеется, на всю возникшую симпатию к нему. Сообразив эту свою готовность, Мальцев широко улыбнулся.
Тот прищурился:
– А? Вы не беспокойтесь, у меня варки полно будет, а насчет остального спросил так, на всякий случай, если кто-нибудь приболеет или вдруг появится срочная работа. Мы, ремесленники, должны все уметь делать, быстро и хорошо – иначе нас все: правительство, капиталисты, промышленники и всякое остальное говно слопают без соли. Так что, давайте-ка посмотрим, что вы умеете делать. Не обижайтесь, у нас так положено.
– Я знаю.
Мальцев получал чисто эстетическое удовольствие всякий раз, когда встречал человека, открыто ругающего власть. Но он привык, чтобы это делалось с надрывом, желчной яростью, свойственной утомительной беспомощности. В этой же стране он повсюду видел людей, сволочивших власть с высокомерным презрением. И к этому Мальцев никак не мог до конца привыкнуть. Он продолжал в глубине души недоумевать, видя плюющего на полицейских пьяницу-оборванца, умиляться, услышав: «Вы у нас взлетите на воздух». Жесты, слова, выражения лиц словно кочевали с оборванца на хорошо одетого студента, с его профессора на добротного рабочего. Еще более удивительным было для Мальцева, что все эти люди вовсе не считали себя свободными и особенно сильными.
Теперь перед ним был промышленник, ругавший промышленников, капиталист, ругавший капиталистов. «Ремесленник? Уже то, что человек обладает частной собственностью, делает его автоматически и принципиально антикоммунистом, а если он к тому же эксплуатирует рабочих – пусть даже только одного – то как же его назвать, как не промышленником и капиталистом?»
Так подумалось ему, идущему вслед за Жоэлем в цех-мастерскую. Там работало пять человек. Они свободно оторвались от станков и сгрудились вокруг Мальцева – тому дали на пробу задание для новичков.
Шов лег ровный, легкий, почти воздушный. Потолочный шов вышел у него с первого раза. Вокруг одобрительно кивали головами. Кто-то из рабочих обратился к хозяину:
– Неплохо, совсем неплохо, а, Жоэль?
Все захохотали.
– Ознакомьтесь со всеми и всем тут, а я скоро… Рабочие, все еще смеясь, смотрели вслед хозяину.
– Жоэль не так уж плох, уверяю тебя.
Мальцев усмехнулся, сказал работягам:
– Меня это не интересует. Я иностранец, и единственное, чего мне хочется – это спокойно работать. Платят тут хорошо?
Рабочие переглянулись:
– Достаточно никогда не платят. Сам увидишь.
– Ну, а сколько? Приблизительно.
Лица перед ним слегка покривились:
– Мало. Нужно было бы больше.
Мальцев, мысленно послав их к черту, наблюдал несколько часов за жизнью цеха, людей и машин. Он убедился хоть в одном – тут неразумных забастовок не бывает. Он был даже умилен: между рабочими и хозяином существовала настоящая дружба. Они были равны. Здесь не было, как на том заводе, подчеркнутого почтения, даже заискивания перед начальством во время рабочего дня. И злобы тоже.
Он еще больше утвердился в этом мнении, когда Жоэль пригласил его обедать. Мальцев не без любопытства ждал появления хозяйки дома и, услышав чистый московский говорок, вздрогнул. Жоэль жирно расхохотался.
Женщина была на первый взгляд стройна, ее выпуклые глаза послали цепкий короткий взгляд и успокоились. «Таня мне ничего не сказала, стерва». Работать в эмиграции на русских – Мальцев на это никогда бы не согласился.
Женщина рассмеялась. В этих краях вообще много смеялись.
– Удивлен? Мне о тебе Таня рассказала. Все знаю. Добро пожаловать. Не бойся, здесь тебе будет хорошо.
Мальцев едва удержался, сильно хотелось ее обматерить. И было неприятно слышать здесь русскую речь. Он ответил по-французски:
– Да, не ждал. Вы из Москвы?
– Угадал. Да ты мне тыкай, свои же люди, чего там. Ладно? Водки хочешь?
Ее французский был свободен и неправилен. Жоэль вновь расхохотался:
– Да-да, водки. Я ее люблю, так, стаканчик, после обеда. А так мы вино пьем. Женщина спохватилась:
– Меня Светой зовут. Теперь часто будем видеться… я, правда, часто в Союзе бываю, не могу без Союза жить. А ты?
– Как видишь.
Обед тянулся по-французски долго. Жоэль пил вино стакан за стаканом, не пьянел, все радовался чему-то, вероятно жизни. Как только он ушел, Света вновь перешла на русский и стала рассказывать о себе.
Вышла замуж в Москве за негра. И до того гуляла с иностранцами – шмутки да валюта. Он ее, закончив Лумумбу, вывез в Париж. Стали жить. Когда бедняга получил пост в родной африканской стране, строящей социализм, Света себе сказала: «Если он считает меня за дуру, то парниша глубоко ошибается. На-ка, выкуси! Мне и тут хорошо». Развелась. Черный парень плакал белыми слезами, умолял, боготворил. Она не хотела ему плохого, знала, что никто больше не будет так сильно ее любить и окружать почтением. Но не менять же из-за этого Париж на какую-то дыру! Он уехал строить африканский социализм, а Свете пришлось устраиваться на работу.
«Работать в Париже?! Рехнуться можно!»
С Жоэлем познакомилась в муниципальном бассейне. «Он на меня знаешь как смотрел! А я тогда уже не могла больше. Я что, сюда приехала секретаршей вкалывать? Выкуси!» Теперь Света раз в год ездит в Москву, к маме, брату. Туда идут шмутки, оттуда – меха, серебро.
– Может, думаешь, что я спекулянтка? А это неправда! Все ведь радуются. Сам знаешь: когда спекульнешь, то продавцу это по душе, а покупателю совсем нет. А у меня все рады. И в Париже, и в Москве, все говорят, что дешево продаю. Мальцев тоже рассмеялся:
– Да нет, ничего я не подумал. Твоя жизнь – как хочешь, так и живи.
– Ты женат?
– Нет еще. Скоро буду.
– Здешняя?
– Да.
На прощание Света сказала:
– Ты у нас хорошо заработаешь. Но вкалывать здесь надо, как в Париже, не как в Москве… И вот еще что – ты, это самое, не доверяй очень-то людям, с которыми горб наживаешь. Они только так, на вид вежливые.
Мальцев пошел домой задумчивым. «Ладно, я ж эту Свету не буду ведь практически видеть. А она, в общем-то, ничего девка. Ну, обыватель, ну, спекулирует, ну, себя до скуки любит. Что, не имеет права? Имеет. Она полна собой. На здоровье. А если для нее спекульнуть – высшее удовлетворение, духовная радость, цель в жизни, красота души, а?»
Он чувствовал, что цель его – лучшая на свете. Иначе не мог бы он так добродушно отнестись к Свете и вообще к неприятным мелочам, тем самым, что так часто и так сильно задевают чувства. «Был ли я таким?»
Дома под дверью было письмо от Бриджит. Ее почерк сразу разбудил милую боль. Мальцев ее продлил: повертел письмо, прошелся по чердаку, посмотрел на гения, выпил водки.
«Я в больнице. Я тебя прошу, если хочешь и можешь, приходи. Я тебя жду и люблю. Бриджит».
Долгожданная усталость полилась в Мальцева. Если б люди могли за ней наблюдать, они назвали бы ее особой силой. Он долго пытался прочесть сквозь адрес на конверте название хвори, вспомнить до мелочей лицо дочери сенатора.
Оно оказалось бледным и лишенным былой подвижности, и более чудесным, чем память о нем, так оно было бесповоротно обращено к нему, Мальцеву.
Но были еще глаза, от которых он стал надолго счастливым – на целых несколько минут. И впервые за много лет стали в голове Мальцева собираться добрые слезы. Он не стал их сдерживать.


