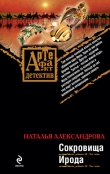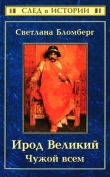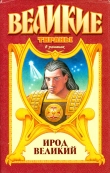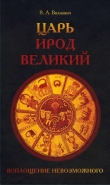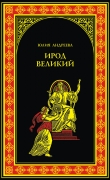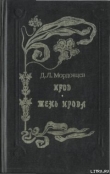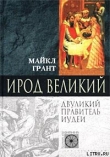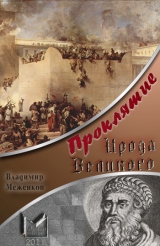
Текст книги "Проклятие Ирода Великого"
Автор книги: Владимир Меженков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Глава пятая
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ИРОДА
1
Вернувшись в Сепфорис, Ирод заскучал. Административная работа была не для него. К Дорис он окончательно остыл. Ирод по-прежнему много времени уделял учениям, но с некоторых пор с этой работой стали лучше справляться спасшие его во время первого неудачного похода в Сирию гиганты-кавалеристы Юкунд и Тиранн, которых он произвел в офицеры. В это же время Ирод пристрастился к вину и женщинам, и обе эти страсти надолго стали спутниками его жизни, от которых он избавится лишь к старости [55]55
В «Иудейских древностях» Иосиф Флавий пишет об этой стороне жизни Ирода, о которой он сам рассказал в своем дневнике: «Можно обойти молчанием растление им девушек и опозорение женщин. Так как эти злодеяния совершались им в пьяном виде и без свидетелей, то потерпевшие лучше молчали, как будто бы ничего и не было, чем разносили об этом молву».
[Закрыть]. Однако кипучая натура Ирода требовала чего-то большего, требовала умственного приложения своим силам, и тогда он вспомнил о начатом им дневнике. Перечитав написанное, он продолжил рассказ о своем прадеде, о котором знал по рассказам деда и отца.
Смышленый мальчишка, выиграв в Мемфисе торги на откуп налогов у опытных иудеев, Антипатр летел на родину, как на крыльях, предвкушая, как обрадуется его победе Иуда Маккавей. Здесь, однако, его ожидало горестное известие: его старший друг и покровитель пал в бою с сирийцами. Молодой Антипатр снова почувствовал себя сиротой.
Так, в сущности, оно и было: прадед Ирода лишился самого близкого ему человека. Братья Иуды недолюбливали Антипатра, продолжая дразнить его «необрезанным». Антипатр платил им такой же нелюбовью. С гибелью Иуды он отдалился от них, считая, что братья незаслуженно называют себя Маккавеями, и занялся исключительно тем делом, какое выхлопотал себе в Египте: сбором налогов. В короткое время он сколотил огромное состояние. Поселившись в Петре, он вырубил себе в скале сказочной красоты дворец в греческом стиле, женился на идумеянке и зажил жизнью состоятельного человека, который может позволить себе любой каприз. Иудеи тем временем воевали с соседями, то беря над ними верх, а то уступая им в силе. Антипатр же раз в год покидал свое убежище в Петре, объезжая Иудею и собирая налоги. Не довольствуясь своей законной долей, он присваивал дополнительные суммы, подделывая записи в налоговых книгах, и считал себя при этом благодетелем иудеев, поскольку обеспечивал их безопасность на южной границе.
Антипатру-старшему было уже далеко за тридцать, когда его жена соизволила, наконец, одарить его наследником, которому он дал свое имя. Вернувшейся из пещеры жене [56]56
В описываемое нами время женщины рожали вне дома – в пещере или в поле под деревом. Сам процесс родов считался нечистым, который никто не должен был видеть, равно как родившая женщина оставалась нечистой в течение одной (если родила сына) и двух недель (если родила дочь); при этом женщина, родившая сына, продолжала считаться нечистой в течение тридцати трех дней, а женщина, родившая дочь, в течение шестидесяти шести дней. По истечении этих сроков роженице разрешалось придти к воротам храма и, не переступая его порога, передать священнику годовалого ягненка для принесения жертвы всесожжения и молодого голубя или горлицу в жертву за грех (неимущим роженицам дозволялось ограничиться пожертвованием двух горлиц или двух молодых голубей – одного во всесожжение, а другого в искупление греха). Лишь выполнившая все эти условия женщина считалась очищенной (см. Лев. 12:2–7).
[Закрыть]он только и сказал: «Благодарение Предвечному, что ты не стала, подобно Аврааму и Сарре, дожидаться, когда мне исполнится сто лет, а тебе девяносто, прежде чем ты родишь мне сына, а Идумее защитника». Антипатра-младшего, деда Ирода, едва ему исполнилось семь лет, Антипатр-старший отправил в Афины, чтобы тот постиг там все греческие премудрости. Дед Ирода учился в Греции до девятнадцати лет, затем вернулся на родину, и Антипатр-старший тут же женил его. Дед уступал прадеду в находчивости, но превзошел его в деловой хватке. На торгах на откуп податей он неизменно выигрывал у всех своих конкурентов, так что с ним теперь считались не только египтяне и сирийцы, но и Маккавеи.
2
Из рассказов деда Ирод узнал много для себя интересного. После гибели Иуды Маккавея братья его Симон и Ионаф выкупили у врагов его тело, отвезли на родину в Модию и похоронили там рядом с отцом. Власть в Иудее они поделили между собой. Время правления Симона и Ионафа было не лучшим в истории Иудеи: наследники Антиоха Епифана возобновили завоевательные походы, привлекая на свою сторону как самих евреев, недовольных Маккавеями, так и коренных жителей Священной земли, живших здесь еще до прихода сюда евреев. Походы эти не носили системного характера; часто они принимали форму взаимных грабежей и убийств. Так, аморритяне [57]57
Аморритяне– племя ханаанского происхождения, восходящее к сыну Ноя Хаму, проклятого отцом за грех (см. об этом подробнее Быт. 9:20–25).
[Закрыть], позарившись на добро, которое старший из братьев Маккавеев, Иоанн, вывез из Иерусалима, чтобы скрыть его от сирийцев, напали на него, завладели всем доверенным ему имуществом, а охрану и самого Иоанна убили. В отместку Ионаф и Симон, прослышав, что через подконтрольную им территорию собираются пройти аморритяне, сопровождающие с богатыми дарами невесту к жениху, устроили засаду, напали на кортеж, насчитывавший до четырехсот человек, включая женщин и детей, и всех их перерезали, а подарки и находившиеся на аморритянах драгоценности присвоили.
Основную опасность, однако, для Иудеи представлял в то время сирийский полководец Вакхид. Война евреев с сирийцами, поддержанными большим числом иудеев, шла с переменным успехом. В конце концов Ионаф предложил Вакхиду заключить дружественный союз. Вакхид принял предложение Ионафа, и они, встретившись, поклялись никогда больше не воевать между собой. В знак того, что клятва эта нерушима, полководцы в присутствии многочисленных свидетелей торжественно коснулись детородного органа друг друга [58]58
Древняя форма клятвы, возникшая вначале, предположительно, у египтян, жрецы которых первыми ввели обряд обрезания, как свидетельство покорности Всевышней Силе, производящей все живое. Позже эта форма клятвы «именем Всевышней Силы» была заимствована евреями и другими народами Востока. В случаях, когда клянущиеся занимали разное социальное положение, от них не требовалось непременно касаться члена друг друга, достаточно было положить руку на внутреннюю сторону ляжки (бедра, или, что то же самое, стегна), о чем можно прочитать в Библии: «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу… И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в сем» (см. Быт. 24:2–3, 9).
[Закрыть].
Вакхид сдержал клятву: при нем Сирия перестала тревожить Иудею набегами. Но в обеспечение гарантии мира сирийцы разместили в Иерусалиме гарнизон, составленный исключительно из македонян, и обложили Иудею данью. Иудея, таким образом, стала данницей двух своих могущественных соседей: на юге Египта, на севере Сирии. При этом Египет и Сирия быстро нашли между собой общий язык благодаря династическим бракам: вдова Птолемея IX, сына Птолемея VIII, которого очаровал своей находчивостью прадед Ирода, Клеопатра Селена [59]59
Клеопатра Селена, т. е. Лунная, доводилась бабкой последней египетской царице Клеопатре VII.
[Закрыть]вышла замуж за сирийского царя Антиоха VIII, после его смерти стала женой Антиоха IX и, наконец, Антиоха X. Однако мир между Иудеей и Сирией не означал мира в самой Сирии: там развернулась ожесточенная борьба за власть, и каждый претендент на престол стремился втянуть в эту борьбу евреев. Претендент на сирийский престол принц Александр Балас писал Ионафу:
«Царь Александр посылает привет брату Ионафу. Мы давно слышали о твоей храбрости и надежности и поэтому посылаем тебе предложение вступить в дружественный союз с нами. Ввиду этого мы сейчас же назначаем тебя иудейским первосвященником и принимаем тебя в число наших друзей. При этом я отправляю тебе в дар пурпуровую одежду и золотой венец и прошу тебя относиться к нам с тем же уважением, с каким мы относимся к тебе».
Другой претендент на сирийский престол, принц Дмитрий, прослышав про письмо брата, обругал себя за то, что не догадался первым привлечь на свою сторону евреев, и направил Ионафу собственное и куда более пространное письмо:
«Царь Дмитрий посылает привет свой Ионафу и всему иудейскому народу. Так как вы соблюдаете дружественную к нам верность и не поддаетесь попыткам врагов склонить вас на свою сторону, то я не могу не воздать вам за это должную похвалу и прошу вас оставаться мне верными; за это вы получите от нас благодарность и всяческие льготы. Я освобожу вас от большинства налогов и сборов, которые вы платили прежним царям и мне, и слагаю с вас теперь все налоги, которые вы обыкновенно платили. Кроме того, я слагаю с вас сборы за соль и государственный налог в пользу короны, которые вы нам платили, а также освобождаю вас с сегодняшнего дня от платежей третьей части злаков и от половины части древесных плодов, которые вы мне обыкновенно отдавали. Равным образом я отныне и навеки слагаю с вас подушную подать, которую каждый из жителей Иудеи, равно как Самарии, Галилеи и Переи, обязан был платить мне. Город Иерусалим я объявляю священным, неприкосновенным и свободным от десятины и всех прочих поборов. Иерусалимскую крепость я поручаю вашему первосвященнику Ионафу; пусть он поместит в ней такой гарнизон, который он сочтет достаточно надежным и преданным, дабы эти люди сберегли ее нам. Всех находящихся в нашей стране военнопленных или впавших в рабство иудеев я отпускаю на волю и запрещаю употреблять на какие бы то ни было казенные надобности принадлежащий иудеям вьючный скот. Пусть будут дни субботние, всякий праздник и три предшествующих ему дня свободны от всякой принудительной работы. Равным образом я возвращаю свободу и все права живущим у меня в Сирии иудеям и позволяю желающим из них вступить ко мне в войско до тридцати тысяч человек; люди эти будут получать, куда бы они ни пошли, такое же точно содержание, какое причитается моему собственному войску. Некоторых из них я помещу в крепостные гарнизоны, других сделаю своими личными телохранителями, отчасти же назначу начальниками моих придворных войск. Я разрешаю иудеям жить по их собственным законам и соблюдать их и желаю, чтобы эти же законы распространялись и на три прилегающие к Иудее провинции [60]60
Т. е. на Самарию, Галилею и Перею.
[Закрыть]. Вместе с тем мне угодно, чтобы первосвященник позаботился о том, чтобы ни один иудей не поклонялся Богу в другом святилище, как только в иерусалимском. Из своих личных средств я отпускаю на расход по жертвоприношениям ежегодно сто пятьдесят драхм [61]61
Драхма– мера стоимости и веса, равная 6 гр. золота.
[Закрыть]и желаю, чтобы из них весь излишек поступал в вашу же пользу. Те же десять тысяч драхм, которые обыкновенно получали цари из средств Храма, я также предоставляю вам в пользу священников, несущих обязанности по богослужению в храме. Все те, кто стал бы искать убежища в Иерусалимском Храме или в одном из зависящих от последнего учреждений, будут отпущены на волю, и имущество их останется в целости, хотя бы они искали спасения по задолженности царю или по какой-либо иной причине. Я разрешаю возобновить и достроить Храм и отпускаю на то нужные суммы из своих собственных средств; равным образом я разрешаю и постройку городских стен и позволяю возвести высокие башни, причем и на все это отпускаю свои средства. Если же понадобится где-нибудь в стране иудейской возвести сильную крепость, то да будет это сделано также за мой личный счет».
Обещания Дмитрия показались братьям более приемлемыми, чем назначение Александром Ионафа первосвященником и присланная ему в дар пурпуровая одежда, и они заключили союз с Дмитрием. Александр, однако, разгромил войско Дмитрия, да и сам Дмитрий был убит, и тогда Ионаф и Симон заключили союзнический договор с Александром. Первое, что сделал Александр, посетив Иудею, это назначил прадеда Ирода начальником над Идумеей и подтвердил его прежние полномочия откупщика дани в пользу Египта, а теперь и Сирии (в отличие от Дмитрия, он не обещал иудеям никаких налоговых поблажек). Иудеям это страшно не понравилось, и тогда одни из них в поисках лучшей доли выехали из страны, причем большая их часть осела в Риме, памятуя о давнем оборонительном и наступательном союзе, другие же стали обвинять во всех своих бедах Ионафа и Симона. Ионаф, желая поправить грустное положение, в каком оказалась Иудея, отправился к одному из сирийских полководцев с намерением выработать новые союзнические соглашения, не столь обременительные для иудеев, но был схвачен в плен и убит. Симон, оставшийся один, понял, что следующей жертвой хитроумных сирийцев станет он, собрал в Храме народ и обратился к нему с речью:
«Единоплеменники! Вам небезызвестно, насколько охотно, после смерти отца моего, как я, так и братья мои шли за вашу погибель на разные опасности, сопряженные с возможностью смерти. Полагаю, что как я лично, так и смерть членов нашей семьи за законы и богопочитание дали вам достаточные тому доказательства. Поэтому нет такого страха, который вытеснил бы из души моей эту решимость и вызвал бы в ней особую привязанность к жизни или презрение к славе. Итак, если уже у вас нет теперь такого военачальника, который решился бы за вас на всякие крайности, то добровольно последуйте за мной, куда бы я вас ни повел. Если я не лучше своих братьев, чтобы не щадить своей жизни, то и не хуже их, и не отступлюсь позорно от того, что они признали за наилучшее, а именно – умереть за ваши законы и ваше истинное богопочитание. Где понадобится явить себя достойным их, там я и явлю себя таковым. Я смело надеюсь не только наказать врагов, но и избавить всех вас с вашими женами и детьми от их заносчивости и с Божьей помощью сохранить в целости Его святой Храм. Я отлично понимаю, что соседние племена наступают на вас оттого лишь, что считают вас не имеющими военачальника, который повел бы вас в бой».
3
Народ скрепя сердце признал Симона своим военачальником и заодно первосвященником, и Симон не обманул его доверия, изгнав из Иерусалима гарнизон македонян. Симону в это время было уже далеко за шестьдесят, но он еще вполне мог бы править Иудеей, совмещая должности военачальника и первосвященника, если бы не его зять – знатный египтянин по имени Птолемей [62]62
В данном случае речь идет о боковой ветви царствовавшей в Египте династии Птолемеев.
[Закрыть], предъявивший свои претензии на власть. Пригласив по случаю праздника тестя с его семьей на пир, он убил Симона вместе с двумя его сыновьями и заточил в темницу тещу. Третий, младший сын Симона – Иоханан, прозванный Гирканом [63]63
Гиркан– первоначально прозвище, впоследствии собственное имя, восходящее к древнеперсидскому «varcan», что означает «волк». Гирканаминазывалось одно из древних персидских племен, населявшее гористую местность на юге Каспийского моря (сегодня это Эльбурс, а в описываемое нами время Гиркания; название сохранилось за реликтовым лесом третичного периода – Гирканский заповедник – на юге Азербайджана). В то время, когда в Передней (Западной) Азии и во всем средиземноморском регионе преобладал языческий культ богини любви и плодородия Астарты (в ассиро-вавилонской мифологии Иштар) и ее вечно юного супруга и бога войны Ваала (Мардука), поклонение которым сопровождалось принесением человеческих жертв, гирканы выработали собственный культ Митры (перс. «договор») – божества верности, управлявшего миром по законам Ахумаразды – верховного бога света, который в конце времен сразится с богом тьмы и победит его, после чего призовет всех людей на свой великий суд для очищения их душ. В ходе реформ Заратустры (первая треть I тыс. до н. э.), Митра потерял свое место рядом с Ахумараздой, но по мере смешения культур и религий разных народов (в т. ч. культуры и религии евреев, десять колен которых, несмотря на разрешение Кира II, так и не вернулось после Вавилонского плена на родину), а в еще большей степени благодаря образованию многонациональной державы Александра Македонского, в состав которой вошла и Иудея, к Митре вернулось его прежнее значение бога верности, с которым люди заключили «договор», подобный «договору» между Предвечным и «избранным народом» – евреями. В Риме Митра почитался как бог солнца, охранявший закон, истину и требовавший от людей аскетической скромности и соблюдения строгих моральных принципов. С возникновением христианства и вовлечением в новую веру все более широких слоев населения Римской империи, официальный Рим противопоставил Митру Христу (каменное изваяние Митры император Элагабал, сириец по происхождению, в 218 г. н. э. доставил в Рим, император Аврелиан в 274 г. узаконил культ Митры, а в 307 г. Митра был торжественно объявлен «Sol invictus», или «Солнцем непобедимым»). Днем рождения Митры считалось 25 декабря (христиане, борясь с митраистами, объявили эту дату днем рождения Христа), с Митрой связывалась вера в причащение и вознесение на небо. Жрецы культа Митры сулили всем верующим в него воскресение и бессмертие души. (Культ Митры оказался настолько живуч, что его именем стал называться головной убор высшего православного духовенства, надеваемый по особо торжественным случаям.) Можно предположить, что на Иоанна, сына Симона Маккавея, культ Митры также произвел определенное впечатление, за что он и получил прозвище Гиркан, как последователь вероучения жителей Гиркании, которых не коснулась вера в Астарту и Ваала. Остается добавить, что влияние жителей этой небольшой по занимаемой территории страны на окружающих их ближних и дальних народов было столь велико, что в описываемое нами время нынешнее Каспийское море называлось Гирканским.
[Закрыть], о котором у нас шла речь выше, – каким-то чудом спасся, по праву наследования вступил в должность первосвященника и объявил мужу сестры войну.
Птолемей, прослышав о намерении Гиркана покончить с ним, заперся в небольшой крепости Дагон, расположенной неподалеку от Иерихона, и приготовился к длительной осаде. Все попытки Гиркана взять штурмом крепость заканчивались одним и тем же: Птолемей выводил на крепостную стену мать Гиркана и свою тещу, истязал ее на глазах сына и грозился сбросить с высоты, если тот немедленно не уберется в Иерусалим. Тщетно несчастная женщина призывала сына не обращать внимания на угрозы зятя и штурмовать крепость, тщетно заклинала его отомстить Птолемею за смерть своих близких, – Гиркан, видя страдания матери, отступал от стены, дожидаясь, когда голод вынудит Птолемея и его небольшой гарнизон сдаться на милость осаждающих.
Дождался. Но дождался не сдачи крепости, а наступления субботнего года [64]64
Субботний год, евр. «шабатон» – каждый седьмой год, объявлявшийся праздничным. В этот год запрещалось возделывать поля, выращивать и собирать урожай. Все, что созревало само собой, включая виноград, сливы и др. плоды, становилось достоянием рабов и свободных чужеземцев, бедных иудеев и животных. В этот год также запрещалось взимать с должников долги, почему субботний год назывался еще и годом прощения. Основной смысл празднования субботнего года состоял в том, чтобы иудеи, дав отдых земле, рабам и животным, посвятили себя раздумьям о высшем предназначении человека в жизни, которое состоит не в накоплении материальных благ, а в заботе о собственной душе в Предвечном, перед Предвечным и в наслаждении даруемой Им благодати. В Библии читаем: «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее; а в седьмый оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею» (Исх. 23:10–11). И еще одно важное наставление Предвечного: «Если скажете: “что же нам есть в седьмый год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших?” Я пошлю благословение Мое на вас в шестый год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмый год, но есть будете произведения старые до девятого года; доколе не поспеют произведения его, будете есть старое» (Лев. 25:20–22).
[Закрыть]. Войско Гиркана разбрелось по домам, вынужден был возвратиться в Иерусалим и сам Гиркан с остатками сохранившими ему верность воинами. Птолемей, возблагодарив судьбу, велел казнить свою тещу, а сам беспрепятственно отбыл на родину в Египет, в город Филадельфию. На этом, однако, несчастья Гиркана не только не закончились, они толком еще и не начались. Сирийцы, воспользовавшись благоприятно сложившейся для них ситуаций, вступили в Иудею, грабя и опустошая ее, и, не встречая на своем пути серьезного сопротивления, подступили к стенам Иерусалима. Гиркан обратился к ним с просьбой заключить перемирие, поскольку иудеи празднуют субботний год и им из религиозных соображений возбраняется общаться с иноземцами и, тем более, проливать их кровь. Сирийцам только этого и нужно было: горячие головы тут же решили не вступать с Гирканом ни в какие переговоры, а полностью вырезать всех иудеев за их заносчивость и отчуждение от других народов. Головы эти, однако, остудило известие о том, что пока сирийцы занимались в Иудее грабежами и вынашивали планы поголовно вырезать всех евреев, на их собственную страну напали парфяне и безнаказанно занялись в Сирии тем же, чем сирийцы в Иудее, – грабежами. Осада Иерусалима была снята, и сирийская армия поспешила отразить нападение парфян.
Гиркан, принеся обильную жертву Предвечному за ниспосланное Им спасение от неминуемой гибели, крепко задумался: как быть ему дальше? Надежды на то, что какой-нибудь очередной сосед не воспользуется празднованием иудеями субботнего года и не придет к ним пограбить, а то и уничтожить их, не было никакой. Как не было и никакой уверенности в том, что ему удастся уговорить иудеев забыть на время о празднике и взяться за оружие, – они скорее согласятся погибнуть, чем нарушат предписанные им законы. Что же остается? Собрать войско из наемников. Но для этого нужны деньги, и деньги немалые! Где их взять? И тогда Гиркан решился на отчаянный и, в сущности, кощунственный шаг: он вскрыл могилу царя Давида и взял оттуда три тысячи талантов серебра, став, таким образом, первым из вождей иудеев, кто принял на свое содержание наемное войско. С этим войском Гиркан отправился в Сирию с намерением вернуть то, что северные соседи награбили в Иудее до нападения на их страну парфян. Отсюда он повернул свое войско на юг и завладел Идумеей. Получив солидный выкуп с деда Ирода и других богатых идумеян, он приказал всем остальным идумеянам покинуть свою страну, чтобы здесь могли поселиться иудеи. Идумеяне взялись за оружие, призвав на помощь дружественных им арабов. Возникла угроза кровопролитной войны с неясными для Гиркана перспективами. Тогда Гиркан вспомнил о давних дружеских связях Антипатра-старшего с Иудой Маккавеем и вступил в переговоры с его сыном, дедом Ирода. Антипатр-дед, увеличивший и без того огромное состояние, накопленное его отцом и потому считавший себя вправе говорить на равных с любым властителем, напомнил Гиркану, что между идумеянами и иудеями не может быть прочного мира, поскольку иудеи со времен Иакова, обманувшего Исаака, хитростью выторговывают себе право на особое к ним отношение, которого лишены другие народы. Гиркан заметил Антипатру на это, что иудеи потому пользуются правом на особое к ним отношение, что являются древнейшим на земле народом, выжившим благодаря неукоснительной вере в своего Бога. Антипатр возразил Гиркану, заявив, что идумеяне не верят во всемогущество Бога иудеев, но тем не менее тоже выжили и по возрасту ничуть не уступают иудеям, кичащимся своей древностью. «Разве мой дед, Иуда Маккавей, не был лучшим другом твоего отца идумеянина Антипатра? – спросил Гиркан. – Или ты изменил памяти наших предков?» «А разве братья лучшего друга моего отца не презирали его за то, что он был необрезанный, хотя во всем остальном ни в чем не уступал, а кое в чем и превосходил вас, иудеев?» «Человек может быть лучше или хуже любого другого человека, но смысл обрезания для нас, иудеев, состоит не в превосходстве одного человека над другим, а в заключении союза между смертным человеком и бессмертным Предвечным», – сказал Гиркан. «Не знаю, не знаю, – заметил Антипатр. – Да и не хочу знать». На этом переговоры между Гирканом и дедом Ирода были прерваны.
4
Самый разговор об обрезанных и необрезанных был Антипатру-деду неприятен. Всякий раз, когда заходила речь об этом древнем обычае евреев, ему вспоминалась одна и та же сцена, свидетелем которой он стал, отправившись в Египет на очередные торги за право приобретения откупа налогов. Именно тогда его казначей, проживавший постоянно в Александрии, желая доставить деду Ирода удовольствие, потащил его глазеть на тайну посвящения новообращенного в галлы [65]65
Галлы– жрецы и служители культа Кибелы и Аттиса; верховный жрец этого культа назывался архигаллом.
[Закрыть]. Видеть это запрещалось всем смертным под страхом смерти. Но казначей за щедрый гонорар подговорил архигалла сделать для деда Ирода исключение, и архигалл разрешил им увидеть весь обряд от начала до конца. Напялив на себя белоснежные бурнусы и скрыв лица под капюшонами, чтобы другие жрецы, участвующие в обряде, приняли их за своих, Антипатр и его казначей встали в конец процессии и вместе со всеми двинулись вокруг храма Кибелы [66]66
Кибела– верховная богиня фригийского происхождения, Magna mater, или Великая мать, как называли ее римляне, богиня плодородия и материнской силы. Ее спутником и возлюбленным был юный Аттис (в букв. пер. с фриг. – ласкательное название «отца» всего сущего, «папочка»). В припадке ревности Кибела наслала на Аттиса безумие, и тот оскопил себя. Празднества в честь Кибелы и Аттиса проводились в Риме с 15 по 27 марта, были приурочены к началу посевной кампании и сопровождались неистовыми оргиями, в ходе которых жрецы Кибелы – галлы оскопляли себя.
[Закрыть], сопровождаемые звуками флейт и барабанов. Впереди шел архигалл, склонив скрытую под капюшоном голову и сложив на животе руки с четками. За ним следовали служки в таких же белоснежных бурнусах и выточенными из черного дерева фаллосами в руках. За служками шел с обнаженной головой новообращаемый – совсем еще молодой человек с безусым лицом и отрешенным взглядом (Антипатр почувствовал неприятный холодок в низу живота, когда этот бессмысленный взгляд на короткое время задержался на нем). За новообращаемым шли обнаженные по пояс юноши, которые не столько танцевали, сколько кривлялись под музыку и при этом хлестали себя цепями по спинам с такой силой, что кожа не выдерживала, лопалась полосами, и из полос этих сочилась кровь. Замыкали шествие жрецы, среди которых и затесались Антипатр с казначеем. Наконец, обойдя храм трижды, процессия повернула к его воротам и вступила в темную прохладу наоса, освещенного тусклым светом немногочисленных факелов. Здесь процессия образовала круг, бичевавшие себя молодые люди легли спинами на мраморный пол, так что пол тут же окрасился их кровью, музыка прекратилась, и архигалл, откинув с лица капюшон, стал читать какую-то молитву на непонятном Антипатру языке, время от времени касаясь рукой головы новообращаемого. Закончив долгую молитву, он сделал шаг назад, и тут же по всему периметру наоса ярко зажглись десятки факелов, отчего в храме сделалось светло, как днем, и снова зазвучала музыка – на этот раз веселая и громкая. Антипатр поразился огромной высоте храма, но еще больше его поразил невероятных размеров фаллос, вытесанный из черного гранита с блестками вкрапленных в него кристаллов кварца [67]67
Каменный фаллос огромных размеров был культовым символом Кибелы. Точно такой же символ – огромный фаллос, вытесанный из черного гранита, – был доставлен в Рим, чтобы отвратить поражение во 2-й Пунической войне (218–201 гг. до н. э.) Предание гласит, что судно с камнем село на мель в устье Тибра, и лишь вмешательство девственницы помогло доставить его в город.
[Закрыть]. Этот гигантский фаллос стоял, как на постаменте, на таком же черном гранитном кубе, но уже без всяких вкраплений, и постамент этот походил не столько на опору фаллоса, сколько на удобное ложе, на которое хотелось взобраться и отдохнуть после долгого стояния на ногах. В храме неизвестно откуда появились танцовщицы, окружили новообращаемого и, ни на минуту не прекращая танца, стали, будто играя, его раздевать. Тут явилась еще одна девица с наброшенным на нее прозрачным покрывалом. Легкой походкой, ступая с носка на пятку, она направилась к центру наоса и здесь, оказавшись рядом с уже раздетым донага новообращаемым, скинула с себя покрывало, тоже оказавшись совершенно голой. Казначей ткнул Антипатра пальцем в бок и, выглянув из-под капюшона, подмигнул ему: ну как тебе эти танцульки? Антипатр в ответ ткнул казначея в бок кулаком и стал наблюдать за дальнейшим ходом событий. Новообращаемый, возбужденный то ли музыкой, а то ли видом юного прекрасного тела, набросился на девицу, повалил ее на черный постамент, на который Антипатру так хотелось взобраться, чтобы дать возможность отдохнуть затекшим ногам, и прежде, чем войти в ее чрево, что, по-видимому, он и должен был сделать в соответствии со всем предшествующим ритуалом, забился на ней в судороге и тут же в изнеможении откинулся на спину. Голая девица соскользнула с постаменты, вскочила на ноги, танцовщицы накинули на нее ее прозрачное покрывало, и все они так же внезапно исчезли, как и появились. Юноши с покалеченными спинами, лежавшие до той поры на полу, поднялись, взяли новообращаемого под руки и помогли ему встать на ноги. Затем они повели его, голого, за архигаллом, который медленно направился из храма во двор, а за ними покинули храм и все остальные участники этого непонятного Антипатру действа. Здесь, во дворе, Антипатр увидел огромного быка черной масти с кольцом, продетом сквозь ноздри, и белой попоной, наброшенной на его могучую спину (Антипатр обратил внимание на то, что в ходе всей долгой процедуры, свидетелем и отчасти участником которой он стал, почему-то преобладало сочетание белого и черного цветов). Юноши с исполосованными цепями спинами, из которых перестала сочиться кровь, подвели новообращаемого к узкой глубокой яме со ступенями, ведущими на дно, и помогли ему спуститься вниз. После этого два раба, держа быка за кольцо и вызолоченные крутые рога, потащили животное к яме. Бык упирался, мотал огромной головой, но боль, причиняемая его ноздрям кольцом, заставила его подчиниться воле людей. Рабы поставили быка так, что глубокая узкая яма оказалась между его ног. Кто-то из служек подал архигаллу короткий, блеснувший на солнце меч, и тот, дождавшись, когда музыка смолкнет, одним коротким ударом снизу вверх перерезал быку горло. Огромное черное тело рухнуло, закрыв собой узкую яму, из перерезанного горла хлынула кровь, ноги задергались в судороге, как несколькими минутами ранее билось в судороге тело новообращаемого. Снова грянула музыка, с быка содрали попону, смочили ее кровью и помогли новообращаемому, залитому кровью с головы до ног, выбраться из ямы. Лишь много позже, когда Антипатр и казначей вернулись домой, Антипатр узнал, что заклание быка над ямой было не обычным жертвоприношением богам, а обрядом, носившим мудреное название тавроболий [68]68
Тавроболий (греч. и лат. taurobolium– «жертвоприношение быка») – религиозный обряд, зародившийся в М. Азии и во II в. до н. э. проникший в Египет, оттуда в Рим и далее – вплоть до Атлантического океана. Сопровождал мистерии в честь Кибелы и Аттиса (а отчасти и Митры, когда его культ проник на Запад). Представлял собой древний обряд крещения кровью, позже всюду замененный крещением водой. Считалось, что человек, омытый кровью, очищается от всех грехов и рождается для новой жизни.
[Закрыть]. Новообращаемого, обернутого в окровавленную попону, снова повели в храм, снова звучала музыка, но теперь она была уже не веселой, а заунывной, как на похоронах. Антипатр уже порядком устал от всей этой долгой нудной процедуры посвящения в галлы, устал от короткого и явно несостоявшегося совокупления новообращаемого с юной прекрасной девицей, и единственное, что он испытывал, возвращаясь под своды храма с огромным черным фаллосом в центре, была детская жалость к зарезанному на его глазах быку. В храме продолжала звучать музыка, света поубавилось, юноши с израненными спинами куда-то исчезли, и вообще участников церемонии заметно поубавилось. Антипатр ожидал, что если не все танцовщицы, то по крайней мере одна девица, понравившаяся ему своим юным прекрасным телом, снова появится, и на этот раз новообращаемый не промахнется, познает ее, но и эта девица не появилась. Теперь танцевал один только новообращаемый. Собственно, это был даже не танец, а все ускоряющееся вращение вокруг себя, так что он, вымазанный успевшей запечься на нем бычьей кровью, казался теперь не человеком, а ожившей копией черного фаллоса, маячившего за ним. Когда новообращаемый довел себя до полного изнеможения и готов был вот-вот упасть, в руке архигалла появился еще один меч, на этот раз короткий и кривой, который он протянул новообращаемому. Тот, не переставая кружиться, подхватил меч, движения его стали еще быстрее («Откуда только берется у него столько сил?» – подумал Антипатр), в какое-то неуловимое мгновение он вдруг остановился, замер, взял в левую руку свой вялый член, посмотрел на него, будто дивясь его безжизненности, и буднично, словно отросший ноготь на пальце, отрезал его и брезгливо, как если бы это был не его член, а дохлая лягушка, бросил его на постамент. Антипатр невольно вскрикнул, на него обернулись жрецы, и казначей, чтобы их не разоблачили и не предали смерти, быстро поволок своего хозяина вон из храма.
5
Эту историю с посвящением новообращаемого в жрецы Кибелы дед поведал Ироду, когда тот был еще ребенком. От природы наделенный живым воображением, маленький Ирод настолько ярко представил себе всю процедуру проведения обряда, что надолго лишился сна. Антипатр и Иоханану-Гиркану рассказал эту историю на следующий день, когда переговоры между ними возобновились, но она не произвела на того впечатления. «Разве мы, иудеи, калечим себя? – спросил он. – Да будет тебе известно, что по нашим законам мужчина с покалеченным детородным членом изгоняется нами из нашего сообщества! [69]69
См. Вт. 23:1: «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне».
[Закрыть]Обрезание, повторю для тебя еще раз, свидетельствует лишь о союзе, заключенном между иудеями и Предвечным, и ничего иного означать не может». Переговоры между Гирканом и дедом Ирода продолжались еще долго, и тому, и другому не раз казалось, что войны не избежать, но в конце концов они сошлись на том, что те из идумеян, которые добровольно согласятся принять обряд обрезания, станут обрезывать своих сыновей, а остальные ограничатся признанием законов Моисея и останутся жить в своей стране на условиях соблюдения этих законов, против которых он, Антипатр, ничего не имеет.
Вскоре после этого разговора дед Ирода женил своего старшего сына, тоже Антипатра, на юной принцессе Кипре – дочери аравийского царя и своего большого друга Ареты. Кипра родила мужу одного за другим четверых сыновей – Фасаила, Ирода, Иосифа и Ферору – и дочь Саломию. Дед не мог нарадоваться на внуков и внучку, целые дни проводил с ними, играя и резвясь, будто сам впал в детство, а когда те подросли, отдал их в греческую школу и лично следил за их успехами в науках. На это у деда уходила масса времени, и потому он, передав отцу Ирода все свои дела и огромное состояние, целиком посвятил себя воспитанию внуков и внучки и надзору за их учебой.
Приблизительно в это же время иудеи, разочаровавшись в Маккавеях и их способности обеспечить им свободу, выдвинули из своей среды новых вероучителей, которых они не знали прежде. Это были фарисеи, саддукеи и ессеи [70]70
Фарисеи, или «отделившиеся» – религиозно-политическая партия, представлявшая интересы широких слоев населения. Иосиф Флавий пишет о них: «Фарисеи живут скудно, воздерживаются от вкусной пищи и следуют велению разума: что разум предписывает им, как добро, то они и делают, и верят, что им следует серьезно стремиться исполнять предписания разума. Они оказывают почтение старцам, и что бы те не утверждали, – фарисеи не противоречат им. Думая, что все совершается по ранее намеченным планам, они все же не отрицают свободы выбора со стороны человека. По их мнению, Бог ставит события в такой порядок, чтобы исполнилось то, что Он хочет, и в то же время воля человека свободна в выборе между добродетелью и пороком. Они также верят, что души бессмертны и заслужат в преисподней награду или наказание, смотря по тому, как люди жили в этой жизни – добродетельно или порочно; последние будут содержаться в вечной темнице, первые же получат силу пробудиться и жить снова. Такое учение привлекло к ним широкие массы, и во всем, что относилось к богослужению, молитве и жертвоприношениям, люди стали поступать по их указаниям; и города давали хорошие отзывы об их добродетельных поступках и словах». Фарисеи верили в существование души и воскресение из мертвых. Поиски все новых и новых сторонников своего учения привели к тому, что фарисеи много ездили не только по Иудее, но и другим странам, обращая в иудаизм приверженцев (прозелитов) из числа язычников.
Саддукеи, или «праведные» (получили свое название от имени первосвященника времен царя Давида Садока) – партия, отстаивавшая интересы иудейской аристократии. Готовы были к сотрудничеству с любой правящей властью, будь то власть иудеев, египтян, сирийцев или римлян. В противоположность фарисеям, саддукеи отвергали предание старцев, придерживались только закона Моисеева и превыше всего ставили свободу воли человека. Иосиф Флавий пишет: «Саддукеи совершенно отрицают судьбу и утверждают, что Бог не имеет никакого влияния на человеческие деяния, ни на злые, ни на добрые. Выбор между добром и злом предоставлен вполне свободной воле человека, и каждый по своему собственному усмотрению переходит на ту или другую сторону. Точно так же они отрицают бессмертие души и всякое загробное воздаяние». Сравнивая обе эти секты, Иосиф Флавий заключает: «Фарисеи сильно преданы друг другу и, действуя соединенными силами, стремятся к общему благу. Отношения же саддукеев между собой суровые и грубые; и даже со своими единомышленниками они обращаются, как с чужими».
Ессеи, или «благочестивые» – рассматривались ортодоксальными иудеями как еретическая секта, основанная священниками Иерусалимского храма, отколовшимися от иудаизма. Жизнь общины ессеев протекала в ожидании скорого прихода Мессии и отличалась строгим соблюдением буквы закона и личной чистоты помыслов и дел. Образ жизни ессеев, их презрение к богатству и отказ от частной собственности в значительной степени подготовили почву для возникновения христианства.
[Закрыть]. Гиркан, как первосвященник, пекущийся о своем авторитете среди иудеев, стал искать контакты с фарисеями, к мнению которых прислушивался и взгляды которых одобрял народ. Однажды он устроил для них пир и, подняв кубок с вином, провозгласил в их честь здравицу. Фарисеям понравилось такое уважительное отношение к ним со стороны первосвященника. Гиркан заверил их, что в своей жизни он руководствуется лишь одним соображением: делать угодное в глазах Предвечного, для чего и впредь намерен брать пример с фарисеев. «Если вы заметите в моих деяниях какие-нибудь ошибки или уклонения от пути истины, – сказал Гиркан, – то прошу вас вернуть меня на правильный путь и наставить. Знайте: я потому избрал путь истины, что не только в деяниях, но даже в помыслах своих хочу быть справедливым». Фарисеи наперебой стали говорить Гиркану, что лучшего первосвященника, чем он, иудеи не знали со времен Аарона и вряд ли когда-нибудь узнают, и что все, что он ни делает для Иудеи и иудеев, направлено на осуществление замысла Предвечного. От внимания Гиркана не ускользнуло, что эти льстивые слова, высказанные в его адрес, разделяют отнюдь не все сидящие за столом. «У тебя, Елиезер, – обратился он с вопросом к самому старшему по возрасту фарисею, – в отношении меня и моих дел несколько иное мнение, чем мы только что услышали?» Елиезер пожевал беззубым ртом и, глядя прямо в глаза Гиркану, ответил: «Прямо противоположное мнение». «Не будешь ли ты так любезен высказать его в присутствии твоих товарищей?» – спросил Гиркан. «Изволь, – сказал Елиезер. – Если ты хочешь следовать по пути истины и при этом оставаться справедливым, ты должен прямо сейчас, не выходя из-за этого пиршественного стола, сложить с себя сан первосвященника». Гиркан был уязвлен в самое сердце, и даже не пытался скрыть своего разочарования. «Какова же причина, по которой я должен сложить с себя сан первосвященника?» – спросил он. Гиркан так же прямо ответил: «Таких причин множество. Но достаточно будет назвать одну: мы слышали от стариков, что твоя мать родила тебя, когда находилась в плену у Антиоха Епифана». Это была ложь! Никто из рода Маккавеев никогда ни в каком плену не был. Дерзкий старик или заблуждается, или не хочет видеть в Гиркане первосвященника совсем не по той причине, какую высказал вслух. Гиркан приказал немедленно разыскать и доставить во дворец саддукея Ионафа, который знал его мать еще с тех времен, когда та находилась на сносях. «Скажи, Ионаф, что ожидает иудея, который намеренно клевещет?» – спросил он, когда саддукея ввели в пиршественную залу. «Смерть, – ответил Ионаф, еще не зная, что произошло за столом. – Ибо сказано: “Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет”». «А теперь скажи, где находилась моя мать, которая вот-вот должна была разрешиться мною от бремени?» «Здесь, в Иерусалиме», – сказал Ионаф, обводя взглядом стол, за которым собрались одни лишь его противники. «Ты не ошибаешься, Ионаф? Моя несчастная мать, павшая от руки своего подлого зятя, точно была в Иерусалиме?» «Где же ей еще было находиться, когда она произвела тебя на свет в тот самый день, когда твои отец Симон и дядя Ионаф вернулись из Модии, где они похоронили достославного брата своего и твоего дядю Иуду Маккавея, и вместе оплакали его в Храме?» Гиркан уже с нескрываемой ненавистью смотрел на Елиезера. «Стало быть, – снова обратился он к саддукею Ионафу, – ни в каком плену у Антиоха Епифана она не была и не могла быть по той простой причине, что в день, когда я родился, и самого-то нечестивого Антиоха Епифана уже пять лет, как не было в живых?» «Истинно так», – подтвердил Ионаф. «Благодарю тебя, честный Ионаф, – сказал Гиркан. – А теперь я попрошу тебя разделить нашу трапезу и выслушать вместе с нами приговор, которые мои друзья-фарисеи вынесут Елиезеру за его омерзительную клевету, которой он оскорбил меня и светлую память моей матери. Итак, господа, я готов выслушать ваш приговор, и клянусь памятью матери, я приму его и исполню, каким бы суровым ваш приговор ни был». «Дозволь, Гиркан, заметить тебе, – сказал Махир, слывущий среди фарисеев рассудительным мужем, – что в таких делах, как вынесение приговора, не следует спешить». «Нет! – воскликнул Гиркан. – Вы не хуже меня знаете, что лишь тот, кто не клевещет языком своим, не делает зла и не принимает поношения на ближнего своего, может пребывать в жилище Предвечного и обитать на святой горе Его. Я настаиваю, чтобы вы немедленно вынесли приговор клеветнику». За столом наступила долгая тягучая пауза. Казалось, что она будет продолжаться вечно. Наконец Махир сказал: «Елиезер был не прав, послушавшись неверных слухов стариков о матери твоей и о тебе. За это он заслуживает ударов палками и заключения в темницу». За столом снова наступила пауза. Это был явно мягкий приговор, несоразмерный с тяжестью преступления, совершенного Елиезером. Фарисеи одобрительно закивали головами. Гиркан взял себя в руки и, стараясь не дать выплеснуться гневу, который клокотал в нем, сказал: «Я поклялся памятью моей матери, что приму и исполню любой ваш приговор. Ваш приговор принят. Мне остается лишь поблагодарить всех вас за честь, которую вы мне оказали, приняв мое приглашение разделить со мной эту скромную трапезу. Вы можете идти».