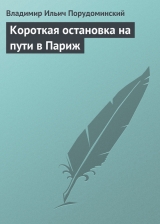
Текст книги "Короткая остановка на пути в Париж"
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Самое замечательное (это, казалось, должно было останавливать его), что сама Татьяна говорила о себе скупо и неохотно. Если он принимался выспрашивать ее, смеялась: «Моя автобиография простая: год рождения, год смерти, а посредине черточка». Но по всему, по всей хватке ее угадывалось, что позади у нее немалое обжитое пространство, радости и страдания, любовь, наверно. Иногда он видел у нее книги, ни авторов книг, ни названий он прежде не слышал (он, правда, читал теперь мало, времени не оставалось, газету разве или оставленный женой на столе «Огонек»). «Про что это?» – кивал он на книгу. «Все книги про одно, – отвечала Татьяна. – Про мечты». Иногда по едва уловимым признакам он чувствовал, что с Татьяной произошло что-то или происходит, он приставал к ней с расспросами, она отмахивалась, смеясь: «Что у меня может случиться? Со мной и случиться-то ничего не может». Но и это ее немногословие, пугающее, иной раз и обидное, не разъедало его доверия.
7
Татьяна жила недалеко от вокзала, в одноэтажном барачного типа здании какого-то малоприметного технического учреждения. В торцовой части здания имелась каморка, предназначенная то ли для дворника, то ли для вахтера. (Татьяна вполне успешно совмещала обе эти должности, а при необходимости выполняла также работу секретаря и счетовода, даже иногда чертила кое-что, – наверно, за эти заслуги и досталась ей по тому времени завидная жилплощадь.) Удобно было, что в каморку вел отдельный вход, притом не с улицы, а со стороны пустыря, куда глядел торец барака. Пустырь, огороженный проломанным во многих местах забором, был вдоль и поперек перерыт траншеями: чуть ли не до войны здесь наметили строить ДК железнодорожников, но денег всё не хватало и строительство откладывалось с года на год.
Старик, именно до этого часа еще добрый молодец, внимательно оглядевшись, свернул с Вокзальной в тупик, вдоль которого тянулся забор, снова огляделся, не свернул ли кто следом, прошел пару сотен шагов в конец тупика, огляделся в теретий раз (никого!) и быстро нырнул в хорошо ему знакомый пролом. Высоко над пустырем висел полный круглый месяц, тусклый, как оловянная тарелка, и таким же тусклым был лежащий на пустыре снег, расчерченный линиями черных по срезу стенок траншей и вырытого неведомо когда под фундамент котлована. Старик шел осторожно, глядя под ноги, на каждом шагу нащупывая неровности промерзшей, припорошенной снегом земли.
Эти трое появились неожиданно: продрались сквозь какую-то щель далеко впереди и тотчас повернули ему навстречу. Три силуэта – сразу угадываются крепкие мужики: завяжется драка, с такими не сладить, тут же и уложат. Они шли навстречу и перебрасывались негромкими словами, до него доносились ругательства и неприятный, грозящий бедою смех. «Чужие или свои?» – полоснул вопрос; тотчас вылепился в воображении генерал-начальник, маленькие шаги, маленькая белая рука за бортом мундира: если свои, пощады не жди, конец. Двое, косая сажень в плечах, поталкивая друг друга на узкой тропе, шли впереди, третий, выше их ростом, странно припрыгивая, будто перескакивая с кочки на кочку, поспешал следом, то и дело взвизгивал смехом. Старик (добрым молодцем времени быть не осталось), коли уж не разминуться, решил уступить и сошел с тропы и остановился, пропуская недобрых встречных. По смеху, по походке, по всему облику эти были всё же не свои, но кто их знает, могли и придуряться. «Неужели Татьяна?» – согрешил он мыслью, и снова дверь приотворилась, генерал стоял на пороге, хитро на него посматривая. Ну, нет, если и в Татьяне разувериться, тогда всё к черту, пусть убивают. Трое были совсем рядом, они подходили молча, он слышал их громкое сопение, и худой не оступался и не смеялся больше. Сейчас закурить попросят, подумал Старик. Он почувствовал щекотливую пустоту в животе, ноги у него дрожали. Но они не попросили (он даже успел понадеяться, что страх его напрасен: идут люди, и пройдут себе мимо), – поравнявшись с ним, тот, что шел первым, развернулся и с бычьей силой ударил его кулаком в лоб. Он сразу поплыл и, оседая на землю, почувствовал, как ударили еще раз, и еще. (Кастет, наверно, соображал он.) Кричать он не мог, да и смысла не было, только себе во вред, как не мог, да и смысла не было сопротивляться, и пока трое мужиков, продолжая наносить удары, ворочали его большое тело, стаскивая пальто и прочую одежду, душа как бы со стороны созерцала еще некоторое время то, что происходило на пустыре под смутным оловянным фонарем безликого месяца, ловила хриплые злые слова, будто заглушаемые лихорадочным тарахтением движка. «Штаны замочил сука... ничего анюта отстирает... ишь жопу наел смотри какой арбуз... ты павлик не заглядывайся... дрочить дома будешь...» (Это, наверно, длинный, Павлик... – догадывался для чего-то. – Смешливый...) «... клади всё в мешок... ... дышит?.. готов вроде... затяни мешок покрепче» (В пиджаке удостоверение сотрудника управления – катастрофа! – плеснуло последний раз в сознании.)
Рано утром тело обнаружил в траншее случайный прохожий, завернувший на пустырь по нужде.
8
Старик, к удивлению докторов, выжил.
...Когда он, наконец, очнулся, он сразу – одним куском – вспомнил всё: и тусклый месяц над пустырем, и черно-белый чертеж котлована, и силуэты тех, кто его убивал, их слова и удары, и поганый смех долговязого, всю мерзость, пережитую до той минуты, когда он окончательно провалился во тьму. Врач слегка пожимал ему руку, как бы желая разбудить его; эти прикосновения, хоть и отзывались болью во всем теле, были приятны. Жив, понял он, и сознание того, что жив, обдало его радостью, но он продолжал лежать, не открывая глаза, чувствуя всем телом растущую силу притяжения Земли. И вместе с радостью возвращения к жизни муравьиными тропками спеша вползал в руки, в ноги, в сердце съедающий радость страх: генерал мягко прохаживался по кабинету, старался обреченный Фрумкин, аккермановское дело крутилось, зачерпывая лопастями всё, что попадалось на пути... Ах, да, еще служебное удостоверение в кармане пиджака...
«Обрезком железной трубы... – говорил кому-то врач. – Чуть пониже – и конец...»
Кто-то аккуратно покашлял, спросил:
«Какие возможны последствия?»
Голос был знакомый.
«Последствия непредсказуемы, – ответил врач. – Не исключены двигательные, речевые расстройства. Амнезия». И пояснил: «Потеря памяти...»
И тут же резкая, как молния, мысль ослепила Старика. Он внутренне собрался в комок, как перед выходом на арену, и – открыл глаза.
Рядом с доктором, тоже в белом халате, но не совсем по росту и надетом так, как бывают надеты на посетителях, стоял знакомый ему сотрудник управления. Пугая гостей широкой улыбкой, особенно нелепой на его разбитом, выглядывающем из-под бинтов лице, он переводил радостный, ласковый взгляд с одного на другого и тихо смеялся...
Так будет он смеяться два с половиной года, внимательно до изнеможения день и ночь следя за каждым своим дыханием, пока не настанет время выздоравливать (да и то не сразу), чтобы потом, получив инвалидность, перебраться за Уральский хребет и там, в другой части света, начать жить сначала.
9
Снова оказавшись на воле, он узнал, что жена за эти годы сумела оформить развод и снова выйти замуж, и подивился тому, что кто-то способен жить с этой скучной, холодной женщиной и, может быть, даже любить ее. Всё его семейное прошлое воплотилось в наспех выдернутом из середины «Огонька» листе с репродукцией – ребенок, стоящий под яблоней, тянется ручонкой к свисающему с ветки тяжелому золотому плоду. В этот лист были наспех завернуты шерстяные носки, положенные в чемодан вместе с остальными считанными, принадлежащими ему, по мнению жены, вещами. Заранее собранный ею чемодан терпеливо ждал его в прихожей. Он взял чемодан и ушел, не заходя в комнаты.
Барак, в котором жила Татьяна, давно снесли. Да и пустыря больше не было, на его месте стояла серая пятиэтажка. Он стал было узнавать, куда перебралось техническое учреждение, но, оказалось, что и учреждения такого больше не существует. Всё вокруг втолковывало ему, что он обречен начать новую жизнь с нуля, и он подчинился этому. Возле него менялись другие женщины, он даже снова женился, и снова неудачно, но того, что довелось ему испытать с Татьяной, никогда не испытывал больше. И он снова и снова не то что бы просто вспоминал – проживал заново эти, в общем-то, немногие и всякий раз недолгие их встречи, от прикосновения ее руки, когда она, отворив ему дверь, быстро подносила жесткую ладонь к его губам, до приятно кисловатого вкуса мирабели во рту, долго сохранявшегося после того, как он с осторожностью и оглядкой выбирался из ее каморки.
Однажды, когда они пили чай (это было одно из последних их свиданий), она сказала: «Если забеременею, нипочем не стану избавляться, рожу себе парня». Засмеялась: «Или девочку. Но парня лучше». Он ничего не сказал, даже посмеялся вместе с ней, он верил, что она не сделает ничего, что было бы дурно для него, но ее слова, тем не менее, огорчили его: появление ребенка было бы чем-то ненужным, неудобным, беспредельно осложняющим их отношения. Вспоминая этот разговор, он предполагал иногда, что Татьяна затеяла этот разговор не просто так, не вообще, а желая предупредить о том, что уже совершилось, и теперь, годы спустя, ему странно и приятно было думать, что вдруг где-то на белом свете, скорее всего, ничего о нем не ведая, живет его сын, и изобретать в воображении, как некая неожиданность, на которые щедра жизнь, возьмет да и сведет их. И когда сорок лет спустя в дальнем сибирском городе его, обитающего в скудости и немощи пенсионера, нашел немолодой господин с усталыми недобрыми глазами и обрюзгшими щеками, по облику и повадкам новый преуспевающий деловой россиянин, и объявил, что Татьяна Ивановна перед смертью просила позаботиться о нем, Старик не то что бы не удивился (конечно, удивился! еще как удивился!), но при этом встретил нежданного гостя с какой-то вдруг охватившей его убежденностью, что именно так оно и должно быть. Господин делово объяснил Старику, что имеется возможность обеспечить его дальнейшую жизнь в Германии или Израиле, как он захочет; в Германии, однако, по всему удобнее, и в климатическом отношении тоже, а он смотрел на пришельца и искал сходства с Татьяной, и не находил, пока не спохватился, что тот, наверно, похож на него.
10
...Что-то он не храпит, – тревожился Ребе, прислушиваясь к тихому, едва приметному дыханию Старика. – Не садится на кровать, не пристает с допросами?.. Тени облаков бежали на полированном экране. Охотник с воздетым рогом то озарялся светом, то снова погружался в сумрак. Ранняя птица посвистывала в саду под окном. В тишине слышно было, как по улице, еще не пробудившейся навстречу очередному дню, проехал велосипедист.
«Вы не спите?» – чувствуя, что голос у него замирает, спросил Ребе.
«Не сплю», – сказал Старик.
«Вам плохо?» – спросил Ребе.
«Мне хорошо», – ответил Старик.
И тотчас легкая, прохладная ладонь покрыла лоб Ребе.
Глава тринадцатая
1
На следующее утро Профессор впервые проспал обычную прогулку и вышел к завтраку наспех причесанный и небритый. Он дурно спал минувшую ночь. Перед сном он дочитал роман, которым снабдил его доктор Лейбниц. Роман закончился ужасно. То есть закончился он так, как и должен был закончиться, но Профессор, продвигаясь к концу книги, не переставал надеяться, что сам автор, как бог из машины, вторгнется в развитие действия и, вопреки всему, что написал, одарит читателя счастливым концом. Автор же, не изменяя себе, остался до последней главы суровым реалистом, не ищущим поблажек от жизни и не склонным заменять жестокую действительность сладкими грезами. А тут еще телевизионная передача, которую Профессор неведомо зачем остался смотреть после ужина. Ему бы вовремя убраться к себе в комнату, послушать музыку (недавно дети прислали чудесный диск композиторов барокко – Монтеверди, Вивальди), полистать иллюстрированный журнал, помечтать о том, что было бы, если бы было так, как мечталось, но Старик, падкий на зрелища, насел на него, зазывая к телевизору, а он не нашел решимости отказать (Ребе с каким-то атласом уже устроился в кресле перед экраном). И ко всему луна: мертвенный свет лился в окно, бродил по комнате, тревожил и пугал его то холодным, настойчивым блеском на стекле висевшей напротив кровати картинки, то гипсовой белизной вазочки на столе, в которую фрау Бус, желая порадовать его, вставляла иногда несколько ландышей, то черной горбатой тенью тяжелого халата, брошенного на спинку кресла, а у него не хватало ни догадки, ни сил подняться и затянуть гардину. Подушка сделалась жесткой и комковатой, больно давила затылок, каменистыми выступами упиралась в спину, впечатления прочитанного, увиденного, пережитого, одно сменяя другое, резкими, быстрыми кадрами вставали перед Профессором, скручивались плотным жгутом и душили его, лунный свет, белый, холодный, проникал сквозь прикрытые веки, и некому было прижать его к большой теплой груди, как прижимала няня Матреша, когда, оглушенный детским кошмаром, просыпался он по ночам: «От луны смута, морок...»
Он не выдержал, что было силы придавил пальцем кнопку звонка. Профессор ждал, что войдет фрау Бус, проследует к нему, приговаривая что-то доброе, он услышит, как под юбкой трутся одно о другое ее толстые бедра, она обнимет его за плечи и склонится над ним, даруя утешение и покой. Но в проеме отворившейся двери возникла крепкая, четко изваянная фигура Ильзе, и Профессор, увидев ее, тотчас раскаялся в том, что попросил помощи. Ильзе отказалась дать ему сверх обычной белой таблетки снотворного еще и желтую, какую давала ему, когда одолевала его бессонница, фрау Бус. «Вы слишком тепло одеваетесь на ночь». Ейн, цвей, дрей – Ильзе, решительно поворачивая его сильными руками, он и охнуть не успел, стащила с него вязаную фуфайку, которую он натянул под пижаму, взбила подушку, уложила его, как сочла удобным, задернула гардину и выключила свет. Он увидел напоследок, как в прямоугольнике открывшейся в коридор двери появился статный силуэт Ильзе, потом дверь захлопнулась, стало совсем темно.
Профессор закрыл глаза и ужаснулся навалившейся на него темноте. И было еще
что-то – необычное, страшившее его. Прошло какое-то время, пока он сообразил, что это – тишина. Она заполняла пространство помещения, как воздух заполняет шар, только стук сердца, казавшийся чьими-то поспешными шагами в коридоре, отдавался в ухе, и оттого тишина была еще напряженнее и страшнее. Старик не храпит, наконец, снова догадался он. Может быть, Старик умер (с его-то диагнозом)? Ну, конечно, умер (Профессор был уже убежден в этом). Умер, и лежит совсем близко, за двумя дверями, и застывает, не от холода, а оттого, что жизнь ушла. И почему молчит Ребе? Почему не поднимает тревоги? Неужели чуткий, как стрелка компаса, Ребе заснул так крепко, что не слышит гнетущей тишины? Надо было встать, и пойти туда, поднять тревогу, потребовать еще снотворного в конце концов, – но Профессору страшно было открыть глаза, включить лампу, нажать кнопку звонка, увидеть Ильзе в проеме двери... И он лежал, погруженный во тьму и тишину, слушал суетливый топот собственного сердца, и старое его тело дрожало от холода и страха.
2
Он долго мерз, не решаясь снова надеть желанную фуфайку, и, кажется, только под утро провалился в сон, но и сон не принес ему успокоения. Он странствовал, то и дело сбиваясь с пути, по какому-то огромному непонятному зданию. Бродил по бесконечным коридорам, поднимался на лифте, и опускался, и снова поднимался, даже во сне удивляясь тому и пугаясь, что поднимается не просто снизу вверх, а наискось, по диагонали, он заглядывал в комнаты, которые оказывались то учебными аудиториями, то больничными палатами, то еще чем-то, он продолжал искать, и во сне не представляя себе ясно, кого же он ищет. Он понял это, когда на каком-то повороте увидел женщину, маленькую и ладную, в тонком просвечивающем платье, похожую на сестру Паолу из кабинета врачебной физкультуры, но он-то знал, что это не Паола, а Вика. Его тело, его тотчас ставшее прерывистым дыхание, его сердце, гулко заметавшееся в груди, тотчас сообщили ему об этом. Женщина стояла к нему спиной на лестничной площадке у окна и, не отрываясь, вглядывалась во что-то, происходившее снаружи. Он тихо подошел сзади, ближе, ближе, и вот уже прижался к ней, обнял, почувствовал ее маленькие точеные ягодицы, провел ладонью по животу, она не оборачивалась, высматривала что-то вдали за окном, он осмелел еще больше, но тут будто резкий толчок, не пробуждая его, включил сознание, и он с ужасом понял, что плоть его по-прежнему мертва и бессильна. Он почти проснулся от нахлынувшей тоски, тем более (он сквозь сон чувствовал), что ему пора было встать, чтобы помочиться, но не проснулся и даже, наверно, заснул еще крепче. Он всё еще стоял у окна, но женщина уже исчезла. Внизу, под окном лежала серая полоса автобана, по которому медленно тянулась бесконечная процессия легковых машин, у каждой из них на крыше был укреплен длинный черный ящик, наподобие того, в котором возят доску и прочие приспособления для занятий виндсерфингом. Приглядевшись, он с замирающим сердцем обнаружил, что происходит нечто невообразимое: автомобили стоят на месте – движется, увлекая их вперед узкое асфальтовое полотно дороги. Что-то пугало его в этом медлительном движении. Он припал лицом к стеклу: ящики на крышах машин не были принадлежностью веселых смельчаков, резвящихся в бурной стихии, – это были гробы.
3
Накануне вечером они смотрели по телевизору смешные истории про мистера Бина. Впрочем, по-настоящему от души хохотал только Старик. Его широкое лицо багровело от хохота. Профессор, хоть и смеялся, полагал нужным оправдываться: комическое мастерство актера поистине великолепно, найденная им маска убедительна, но, если вдуматься, всё происходящее перед ними достаточно печально. Обладатель одной вечной маски не может не вызывать жалость. Если представить себе, что артист Аткинсон завтра захочет сыграть Гамлета, зрители будут по привычке видеть в нем этого нелепого мистера Бина. «Да на черта ему ваш Гамлет? – заспорил Старик. – С этим болваном Бином он сколотил себе уже не один миллион. И еще кучу миллионов сколотит, пока всем не надоест. А тогда купит остров (если еще не купил), будет лежать под пальмой и чесать между ног». Профессор не соглашался. Он убежден, что в жизни артист Аткинсон, как большинство комиков, человек трагического мироощущения. Этот трагизм то и дело дает о себе знать в смешных приключениях нелепого мистера Бина. А Гамлета мечтают сыграть, наверно, все артисты, какие только есть на свете:
«Не так ли, Ребе?» Ребе, разложив на коленях таблицы с расчетами, по обыкновению, смотрел на экран несколько отсутствующим взглядом; лишь изредка он, казалось, слегка улыбался, отгонял от глаз паутинку и за козырек натягивал фуражку на лоб. «Кто знает, – отозвался Ребе. – Может быть, Гамлет казался окружающим таким же нелепым, как этот мистер Бин».
Объявление о следующей передаче не предвещало ничего неожиданного. «Путешествие в мир неведомого» или что-то вроде того. Обычная познавательная программа: скорее всего, научный или видовой фильм. Но уже первые кадры оказались так тревожны, что даже Ребе поднял голову от расчетов и замер в напряженном ожидании.
Сперва на экране появилась больничная палата. Возле кровати, на которой лежал человек, видимо, только что отбывший в этот обозначенный в титрах неведомый мир, скорбно, слегка сутулясь, стоял почтенный седой господин в черном. Наверно, целую минуту, очень долго длившуюся, пребывал он недвижимым, потом закрыл простыней лицо умершего и неторопливо направился к двери. Он вышел в длинный и пустой белый коридор, тихо и плотно прикрыл за собой дверь палаты, повернул лицо к зрителям. «Рано или поздно каждый человек умирает, – раздался с экрана негромкий убеждающий голос. – Заранее подумать о своих похоронах, заранее обеспечить, чтобы они соответствовали вашему желанию, заказать самый лучший билет для путешествия в неведомый мир, значит освободить себя и близких от важной заботы, с которой каждому из нас так или иначе предстоит встретиться».
Нет, это не для моих нервов, и уж во всяком случае не перед сном, подумал Профессор, но вслух произнес, стараясь, чтобы сказанное прозвучало равнодушно и даже беспечно: «Кажется, опять реклама. Пойду-ка лучше почитаю». Он слегка потянулся. «Не робейте, Профессор!» – расплываясь в улыбке, подмигнул ему Старик. – «Совершить путешествие, о котором нам хотят рассказать, всё равно придется. Но когда, не знает никто, и этот седой зазывала на экране тоже. Меня однажды уже убили, даже в яму бросили, а я после этого еще полвека отмахал. А?» Профессор покачал головой, выразительно взглянул на Ребе («При его-то диагнозе»!) и остался сидеть в кресле. Он не любил говорить о смерти и не умел думать о ней. Старик, чувствуя это, при каждом удобном случае с жестоким постоянством заводил с ним беседу о конечности жизни и неизбежном приближении конца, приправляя свои соображения шутками и прибаутками, конечно же, весьма неуместными. «Как же он боится!» – думал Ребе, не о Профессоре – о Старике, но в разговоры не вмешивался, и потому, что не имел желания вмешиваться, и потому, что, как он полагал, каждый должен сам и по-своему пройти курс подготовки к путешествию в неведомое, которое предстоит совершить.
В хорошую погоду, если была охота прогуляться подольше, они шли к вокзалу кружной дорогой, и тогда у них на пути оказывалось похоронное бюро, в одном из окон которого красовался вертикально поставленный вызолоченный гроб, напоминавший о сокровищах египетских пирамид. Витрины заведения были вообще со вкусом оформлены исполненными философского смысла натюрмортами из камня, дерева, керамики и разнообразных тканей, привлекавшими внимание прохожих; декорация к тому же часто обновлялась. Кроме того, в витринах, будто это были окна какой-нибудь художественной галереи, неизменно выставлялись акварели некой Эльзы Химмель, видимо, имевшей с бюро свои особые отношения: умело написанные ландшафты, изображения цветов и плодов, проекты витражей. Тут же лежали и билетики с ценой, работы стоили недорого. «Были б деньги, я бы купил вот эту, – Старик делал знак толкавшему кресло Элиасу задержаться у витрины. – С озером». Он восседал в своем кресле на колесах, как фараон, его тяжелые щеки расползались в улыбке. «Профессор, что вы там жметесь в стороне, как девственница на танцплощадке! Мы пока, слава Богу, картинки выбираем, а не кое-что другое. А?» Профессор покорно подходил ближе, делал вид, что рассматривает выставленные в окне работы, но взгляд его не задерживался на них, проникал в сумрачную глубину помещения, различая там тяжелые ладьи гробов и положенные поверх мерцающие серебристой белизной покровы. «Или эти белые лилии в синей вазе. А? – весело кричал Старик, точно командовал аукционом. – Это вам не то, что картинки у нас в комнатах! – (Хотя картинки, развешанные в комнатах Дома, скорей всего, принадлежали кисти той же Эльзы Химмель.) – А вы, Ребе? Что вы скажете про эти лилии?» «Я не люблю белых лилий, – Ребе отмахнулся то ли от своей паутинки, то ли от Старика. – Они слишком сильно пахнут».
Седой господин на экране убедительно рассказывал об удобствах анонимной кремации. Если вы не хотите беспокоить ваших родных и близких, если ваши родные и близкие не хотят беспокоиться или почему-либо не в силах принять на себя неизбежные беспокойства, соответствующая фирма без всякого участия с вашей стороны превратит ваше отжившее тело в горстку-другую пепла. Нужно только позвонить по телефону и сообщить, что вы умерли. Ну, и оплатить услуги, конечно. За вами приезжает автомобиль, а через определенное время родные и близкие получают прах в запломбированной урне, модель которой вы можете сами заранее выбрать по каталогу. Анонимная кремация производится согласно самым строгим правилам. Тут на экране показали огромный во всю стену холодильник, в секциях которого, как в сотах, хранятся взятые в переработку тела, упакованные в прозрачные пластиковые мешки. Два работника фирмы в светло-зеленых комбинезонах извлекли тело из мешка, натянули на него белое трикотажное белье. «У нас за таким бельем когда-то в универмаге очереди стояли», – весело прокомментировал Старик. Потом покойного обрядили в какое-то подобие специального мундира – темно-зеленый мундир удобно надевался спереди и застегивался на спине с помощью нескольких крючков. «Прямо генерал! – веселился Старик. – Только орденских планок не хватает и золотой звезды героя». Профессор оборвал его: «Прекратите!» Голос у него дрогнул. Он поднялся было, чтобы уйти, но, постояв минуту, снова опустился в кресло. Гроб был светлого дерева, просторный, с высокими стенками, слегка украшенными резьбой. «Ничего себе ящик! В России мы о таком и не мечтали!» – не мог угомониться Старик. (Ох, страшно ему, – думал Ребе. – Да ничего, пусть помается!) «Не кощунствуйте!» – вдруг тонким голосом закричал Профессор. Он побледнел, снова встал с кресла, шагнул было к двери – и остановился: в этот момент на экране возникли гигантские металлические клещи, они опустились откуда-то сверху, подхватили гроб, подняли, подержали на весу и опустили на черную бегущую дорожку транспортера. Ладья неторопливо двинулась вперед – дальше, дальше, и вот на ее пути распахнулись тяжелые ворота и обнажилось сияющее пламенем жерло печи. Огнь пожирающий... – с ужасом вспомнил Профессор. – Откуда это? Огнь пожирающий...
А с экрана молодая красавица с ярко-голубыми линзами в глазах уже увлекательно рассказывала, что вместо того, чтобы покупать могилу на кладбище, можно захоронить урну в лесу под деревом; для этого отведены специальные лесные участки. Нестандартно и поэтично. Лесные ландшафты, предъявленные телезрителям, были, в самом деле, очень привлекательны. Имеется и морское захоронение: урну с вашим прахом берут на борт специального судна и опускают в пучину. Морские виды тоже манили воображение.
«Что скажете, Профессор? Красиво? А?». Старик повернулся к Профессору, точно ничего и не было между ними.
«Боюсь, эта передача не для нас, – сказал Профессор. – Начальство Дома без нашего участия решит, что с нами делать».
«Но помечтать-то можно. Тем более что есть заманчивые предложения. Вы, Ребе, выбрали что-нибудь. А?»
«Мне незачем выбирать. – Ребе потянул на лоб козырек фуражки. – Меня похоронят на кладбище Батиньоль в Париже».
«Простите... – Профессор задохнулся от неожиданности. – Вы собираетесь в Париж?»
«Непременно. Здесь – только короткая остановка».
Старик побагровел и захохотал:
«Да вы в Доме уже шесть лет... Или семь?»
«Это неважно. Мне надо в Париже передать письмо. Я обещал. Там ждут».
(«Там ждут», – сказал Учитель, передавая ему письмо. – Он знал, что умирает. Была новогодняя ночь. Двадцатый век перешагивал во вторую половину. Учитель договорился с санитаром, что Ребе – тогда еще Лев в квадрате – поможет хоронить его. «Боюсь, не запомню места, – сказал он Учителю. – Кладбище большое. А здесь не то что имен, номеров не ставят». Синие, уже меркнувшие глаза Учителя засветились улыбкой: «Вы полагаете, я собираюсь здесь лежать?..»)
Передача заканчивалась. Из телевизионного ящика неслась бодрая музыка.
«Господин Профессор, у вас процедура».
В двери стояла старшая сестра Ильзе.
4
Зачем он смотрел эту дурацкую передачу! Ведь он уже встал, чтобы уйти. И снова, как мальчишка, по первому слову Старика покорно опустился в кресло. Этот грубый Старик обладает какой-то необъяснимой особенностью подавлять его, подчинять себе. Впрочем, наверно, он сам всего более виноват в своей податливости. Несносный характер, всегда готовый к уступкам, ищущий соглашения. Воспитанный в детстве под крылом обожавшей его, вечно зябнувшей в страхах семьи. Родители, однажды напуганные и так до конца долгой жизни не успевшие освободиться от испуга, всегда и во всех случаях ищущие возможность ладить с ними, с теми, кто за окном и вокруг – сверху, снизу, в учреждениях, в трамвае, на улице. И няня, найденная или дарованная им под стать: в младенчестве он прятал лицо в мягкой и теплой выемке между ее тяжелых грудей, в мягкой байке ее платья, чтобы не вдыхать, не чуять, не слышать разлитого повсюду в воздухе запаха, привкуса, посвиста страха. И вот теперь, когда жить осталось несколько воробьиных шагов и, если не бояться смерти, то вообще уже нечего бояться, над ним по-прежнему властвует привычка страха, и наглый окрик Старика, точно команда собственного мозга, подчиняет дух и тело...
Процедура как всегда возбудила Профессора, но тоска, которую разворошила в душе передача, не отпускала его. Неужели всё, что ждет его впереди, удобный гроб, брошенный железными клещами на вечно ползущую ленту транспортера и пламенеющее жерло печи?.. Огнь пожирающий!.. Иногда он жалел, что оставил Россию, его воображение заполняли сослагательные мечтания – заполненные аудитории (и он на кафедре), юные лица студенток, птичий перезвон молодых голосов, покорные и смелые аспирантки, исполненные серьезного достоинства беседы с коллегами, знакомые имена которых он, среди множества новых, неведомых ему имен, еще встречает, когда попадает ему в руки российская газета, книги, им написанные, значимые, итоговые, в красивых солидных переплетах. Всё это было брошено под ноги Вике, она прошла, не испытывая благодарности, похоже, даже не заметив того, что у нее под ногами, по всему, что могло составить смысл и сущность оставшейся его жизни. Он искал в этой молодой любви продолжения жизни: он любит, он любим – он живет. Светлый месяц, проплывая за окном, с каждой ночью становился массивнее, круглее. Вика в большом, не по росту, профессорском халате сидела на диване, скрестив по-турецки ноги, воодушевленно разворачивала перед ним рожденные ее воображением видения будущего, похожие на страницы рекламного атласа туристического агентства, заполненные фотографиями ярко-синих океанов, экзотических земель, великих творений искусства и зодчества всех народов и континентов, – он увлеченно слушал ее, будто пил элексир долголетия. Жадно требовательная маленькая женщина, она умела взять от него, мужчины, казалось ему, вдвое, втрое более того, что он мог дать, и это тоже приносило радостное ощущение нескончаемого продолжения жизни. Она снова и снова пересказывала теорию об идеальных детях, рождаемых от старого (слово мучило его, но он стеснялся сказать ей об этом) отца и юной матери, и однажды почувствовала, что в самом деле беременна. Он вдруг забыл о своих опасениях, чувство присутствия рядом нового прекрасного существа охватило его. Двигаясь по комнате, он старался ступать как можно тише; находясь рядом с Викой, сам того не замечая, прислушивался к тому, что происходит в ней; улыбался и даже напевал что-то. Иногда на улице ему чудилось, что сжимает в ладони трепетную нежную ручку – он невольно подравнивал свои шаги к крошечным шажкам ни для кого, кроме него, невидимого шествующего рядом малыша, мысленно низко наклонялся к нему, чтобы просто и весело поведать о том, что происходит вокруг. Будущий ребенок, не заботясь о здравомыслии, обещал ему нескончаемое будущее: он забывал хронологию, видел рядом с собой уже не малыша – прекрасного молодого мужчину (нимало не похожего на его старшего сына – этот пошел в мать, в Анну Семеновну, был невысок ростом и полноват), он вел с прекрасным молодым мужчиной – сыном – ученые разговоры, спорил о политике, заглядывал в кафе выпить чашку кофе с коньяком. Но Вика, не спросясь его, избавилась от плода: «Сперва надо уехать. С ребенком мы застрянем здесь неведомо насколько». Он затосковал, по ночам вдруг просыпался в испуге, будто кто-то грубо встряхнул его за плечи, подолгу лежал тихо, сдерживая дыхание, чтобы не побеспокоить лежащую рядом маленькую женщину, за окном была черная пучина, и светлый месяц, будто переменив назначенный ему во Вселенной маршрут, больше не плыл мимо окна по небу.








