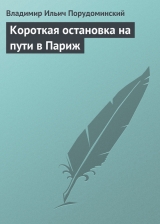
Текст книги "Короткая остановка на пути в Париж"
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
5
Роман, который читал Профессор, закончился ужасно.
...Профессор из романа, еще недавно такой благополучный, столь уверенно шествовавший по дорогам жизни, был повержен, превращен в ничто. Родители девчонки, которая в постели была настолько изощрена, что он подчас чувствовал себя с ней неопытным юнцом, обвиняли его в использовании служебного положения, насилии, разврате, чуть ли не в растлении малолетней. У отца девчонки обнаружились какие-то важные связи, в весьма высоких сферах начались разговоры о непорядках в университете, в солидной газете появился фельетон об университетских нравах, о той цене, в частности, которую студентки принуждены платить престарелым профессорам за нужную оценку. Имена не были названы, но ректор всё же пригласил к себе профессора, – после неприятного разговора тому ничего не оставалось, как подать в отставку. Приятели отдалились от него: он стал для них скучен, как бывают скучны неудачники. Знакомые посмеивались: неудачи кажутся смешными, если неудачник виноват в них сам. Недруги злорадствовали. Жена рассердилась, потребовала, чтобы он переехал на Мельничную, в свое холостяцкое убежище, и, не таясь, завела себе респектабельного любовника, директора фирмы по продаже медицинского оборудования, взамен прежнего, подающего надежды молодого скрипача, с которым встречалась в гостинице. Вся жизнь профессора из романа сосредоточилась теперь во встречах с девчонкой, разрушившей его прошлое и настоящее и сделавшей сомнительным его будущее. Она едва не всякий день прибегала к нему на Мельничную, он загодя чуял ее приближение, чтобы тут же, на пороге сжать ее в объятиях, и вспоминал знакомого добермана, принадлежавшего одному сослуживцу. Рассказывали, что пес вот так же чуял момент, когда хозяин выходил из здания университета и садился в машину, чтобы ехать домой: именно в этот момент доберман выбегал в прихожую, замирал у двери, лишь вздрагивая иногда, поводя ушами и втягивая ноздрями воздух, и ждал, пока дверь отворится и хозяин появится на пороге, чтобы в радостном порыве броситься к нему. Девчонка (он звал ее Ли, как звали друзья и подруги, с которыми она его, впрочем, не знакомила) обсуждала с ним планы дальних путешествий, то по Африке, то по Австралии или Южной Америке, – отдыхая от любви он прокладывал вместе с ней головокружительные маршруты, прикидывая, что дальнее и долгое странствие, может быть, единственный разумный выход из положения, в которое он попал (они попали). Он помечал в записной книжке, какие вещи понадобятся им в путешествии и часто навещал магазины (чего раньше терпеть не мог), деловито высматривая необходимое. Однажды профессор отправился проведать сестру, обитавшую в недальнем городке, – с сестрой они дружили, но из-за его занятости виделись чрезвычайно редко. Сестра была старше его семью годами: что с ней будет и будет ли она, когда я возвращусь из Африки, печалился он. От всего пережитого за последние месяцы профессор был утомлен, нервы вконец расшатаны, он отказался от привычного автомобиля и выбрал поезд в надежде, что дорога принесет ему покой и развлечение. В вагоне он и в самом деле подремал немного, потом заказал кофе с круассоном и, чувствуя, как утишается сумятица в душе, смотрел на тянущуюся за окном реку, по которой проплывали белые теплоходы. Он предполагал провести у сестры несколько дней, но в первую же ночь почувствовал недомогание, тяжелая тоска тучей придавила его, час, другой, третий он томился в бессоннице, понял, что долее не в силах оставаться здесь, наскоро расцеловал разбуженную им, оторопевшую от неожиданности сестру, вызвал такси и помчался на вокзал. Может быть, доберманово чутье напомнило о себе?.. Ожидая поезд, он выпил в буфете две стопки коньяку, алкоголь взбодрил его; по дороге в вагон вошла странная пара – рослая африканка и маленький вьетнамец с шафрановым раскосым лицом, они устроились на диване неподалеку от профессора, смешно целовались (африканка резким движением хватала в охапку своего малыша, наклонялась над ним и опрокидывала на его лицо огромную копну черных волос), пили по очереди кока-колу из большой литровой бутылки и снова целовались. За окном поднималось солнце; туман, лежавший на полях, над лентой реки, дымными волокнами тянулся ввысь, тоска профессора тоже развеивалась понемногу, он уже жалел, что напугал сестру и не провел с ней назначенного времени, – кто знает, доведется ли еще встретиться. Впрочем, и мысли о сестре оставляли его по мере приближения к дому, образы будущего овладевали им. Он, увлекаясь, думал о том, как навсегда покинет город, с которым так долго и, чудилось, прочно была связана его жизнь и который в конечном счете так безжалостно с ним обошелся, о том, как найдет для себя иное место обитания, другой город, скорей всего – и другую страну, как увезет туда маленькую Ли (конечно, чтобы жениться на ней, придется преодолеть множество пренеприятных трудностей, но о них пока думать не хотелось), и проведет остаток жизни в угождении своим скромным прихотям и утехам любви. Конечно, Ли еще очень молода, и многое, что она желала бы испытать, уже отзвучало для него, но она любит его, и, может быть, ее любви достанет на тот, в общем-то, недолгий срок, который ему еще осталось топтаться на земле. Он же отдаст всё, что имеет, чтобы сделать счастливой утреннюю пору ее жизни, которая для него будет порой заката и ухождения в ночь. С вокзала он отправился к себе на Мельничную пешком. Час был ранний, движение на улицах небольшое, от неосвещенных витрин магазинов тянуло сонным покоем, словно товары, в них разложенные, устав красоваться, задремали к утру, как прелестницы на балу. В сквере на подступах к Мельничной ему попался навстречу знакомый бездомный бродяга, который обычно ночевал здесь, а теперь перемещался в сторону центра, там в дневные часы он располагался у входа в торговую галерею и ставил перед собой на тротуар высокую оловянную кружку, в которую собирал подаяние. Бродяга был похож на Карла Маркса – большая седая борода и седые волосы до плеч. Под курткой он носил ярко-красную рубаху. В уголке рта у него был зажат вечно дымящийся окурок сигары, борода и усы вокруг губ желтели никотином. Спальный мешок и рюкзак с имуществом были взвалены на видавший виды велосипед, который бродяга, придерживая одной рукой за руль, катил рядом. Профессор обычно подавал ему, случалось, при этом задерживался ненадолго, чтобы услышать суждения уличного философа на тот или иной счет, нередко весьма неожиданные. Он и на этот раз принялся суетливо рыться в кармане, не в силах припомнить, куда засунул кошелек с мелочью; бродяга, коснувшись в знак приветствия двумя пальцами полей шляпы, величественным жестом ладони уверил его, что подаяние можно отложить до новой встречи. Профессор пересек сквер, свернул за угол на Мельничную, и именно в эту минуту, как в без надлежащего вкуса смонтированной киноленте, из подъезда его дома показалась Ли. Она никогда не ночевала одна, без него здесь, на Мельничной, но в том-то и дело, что и эту ночь Ли провела, похоже, не одна: вместе с ней вышел из двери подъезда неизвестный профессору высокий крепкий парень в черной кожаной куртке; черный лакированный шлем мотоциклиста парень держал в руке. На улице они тотчас обнялись, порывисто, жадно, будто истосковались друг по другу, долгие годы ожидая свидания. Профессор застыл в полусотне метров от них, не в силах и страшась пошевелиться, но они, занятые поцелуем, не глядели по сторонам. На Ли была тоже черная кожаная куртка, которую профессор никогда прежде не видел, за плечами висел рюкзачок, в этом рюкзачке однажды (какой это был счастливый день!) она принесла ночную пижаму и домашние тапочки. Профессор стоял обреченно и смотрел на открывшуюся перед ним перспективу улицы, знакомые фасады домов, знакомые, с наизусть запомнившимися номерами автомобили, припаркованные вдоль тротуара...– ноги не шли, и идти было некуда; девчонка с парнем наконец перестали целоваться, подошли к стоявшему перед подъездом мотоциклу, парень достал откуда-то из-под сиденья еще один лакированный шлем, протянул Ли, она нацепила его и взобралась на заднее сиденье; парень оседлал мотоцикл. Ли крепко обхватила парня за пояс, мотор затарахтел, профессор услышал, как Ли, перекрывая шум мотора, крикнула что-то и громко рассмеялась. Мотоцикл рванул с места. Профессор, провожая его взглядом, смотрел туда, где недлинная улица, казалось, слегка сужалась, чтобы влиться в старинную, уложенную брусчаткой площадь перед церковью, шпиль которой маячил вдали. Но парень, вдруг круто развернул сверкающую лаком и никелем ревущую машину, профессор испуганно шатнулся к стене, молодые люди промчались мимо, не заметив его...
6
Оставалось еще страниц тридцать недочитанных, но Профессор в отчаянии захлопнул книгу. После этой сцены с мотоциклом читать дальше было уже незачем и невозможно. Черная кожаная куртка доконала его. Именно в такую куртку мотоциклистки, прежде ему не знакомую, была обряжена Вика, когда они виделись в последний раз.
Где-то сверкал огнями, торопился в нескончаемом круговороте дел и развлечений Берлин, но в отдаленном районе столицы, где они поселились, было темно, дни и вечера были похожи один на другой. Им отвели маленькую двухкомнатную квартирку в нижнем этаже скучного многоквартирного дома, снизу доверху заселенного почти сплошь эмигрантами. И квартира была скучная, с голыми белыми стенами, они не заботились ни о том, чтобы украсить ее, ни даже о том, чтобы обставить со вкусом. Им казалось, что это лишь вынужденная, незначащая остановка на пути, как спешащий человек останавливается у светофора: вот вспыхнет желанный зеленый цвет – и можно бежать дальше. Но прошел месяц, другой и третий – в жизни ничего не менялось. Время от времени Профессор собирался с духом и отправлялся в учреждение, ведающее трудоустройством, – его встречали со скукой, без малейшего интереса, разве что с недоумением: ведь ему уже назначено всё положенное и необходимое для жизни. Однажды, правда, молодой человек с пухлым гладким лицом, показавшийся Профессору подростком, сочувственно его выслушав, «покликал» в компьютере и нашел для него должность смотрителя в парке: работа не очень обременительная и целый день на свежем воздухе. В парке имеются вольеры, где содержатся козы, овцы, а также кое-какая домашняя птица: нужно следить за тем, чтобы посетители не давали животным пищу, которую приносят собой, а покупали пакеты с кормом в специальных автоматах. Было бы стыдно поведать об этом предложении Вике; возвратившись домой (так приходилось теперь называли постылую квартиру, в которой они обитали), он терпеливо ждал ее, уставившись в экран телевизора. На экране показывали распродажу в каком-то крупном торговом центре: сияли, вспыхивали, гасли и снова вспыхивали лампы и неон реклам, сотни предметов разных форм, цветов размеров сменяли один другой, люди с радостно озабоченными лицами сновали во всех направлениях...
Вика всё чаще приходила поздно: она искала работу. Нужны знакомства, связи, объясняла она, нужно действовать, она не для того позволила себя увезти, чтобы сидеть здесь взаперти перед ящиком или обсуждать с соседями достоинства и недостатки окрестных врачей и продовольственных магазинов. Где-то там, в другом Берлине, куда Профессор, не имея дела, редко выбирался (очень уж угнетало его всякий раз возвращение в скучную выгородку пространства, где – он убежден был – не могли селиться его пенаты). Вика решительно лепила для себя какую-то новую жизнь, он сознавал и чувствовал это, и ревновал ее к тому неведомому, что происходило с ней за пределами скучного мира, который оказался ему отведен, и понимал, что не имеет права да и не в силах хоть как-то препятствовать Вике лепить эту новую жизнь. Одно только тревожило и мучило его – возьмет ли Вика его в новую свою жизнь, которую так настойчиво и торопливо лепит. И хотя ответ был легко предсказуем и неутешителен, надежда, всё более схожая с мечтаниями начитавшегося приключенческих романов школьника, не оставляла его. Как было жить без этой надежды, когда эта надежда и была жизнь. Вика возвращалась в темноте, энергичная и веселая, воодушевленно, хотя слишком общо и коротко, сообщала ему о проектах, в которых предполагала участвовать (теперь в ходу стало это слово – проект), что-то ей уже пообещали, а что-то назревает и, похоже, скоро благополучно решится. В последнюю их пору Вика была очень жадна и откровенна в любви. После бурной близости она тотчас засыпала; он, надремавшись за день, долго лежал без сна, смотрел в темноту (разве увидишь небо из окна нижнего этажа?) и утешал себя мыслью, что так обманывать невозможно. Он не предполагал, что ее щедрость в постели была диалогом не с ним, а с собственной совестью.
Возле Вики начал появляться Юрген, молодой и вроде бы уже преуспевающий журналист. Вика объясняла: Юрген, спасибо ему, предложил ей участвовать в некоторых его проектах. Сам парень был не словоохотлив, но часто улыбался, глаза у него были веселые. Юрген ездил на могучем мотоцикле величиной с небольшую лошадь; Профессор никогда прежде такие не видел. Под вечер он заезжал за Викой. Вика предупреждала, что вернется поздно. «Чао», – Юрген улыбался Профессору и делал ему рукой, как ребенку. Когда Профессор замечал, как в дверях, пропуская Вику вперед, Юрген слегка касался ладонью ее спины, сердце его больно сжималось, не от ревности – от тоскливого предчувствия. Потом он подходил к окну и, не раздвигая прозрачную ткань занавески, смотрел, как маленькая Вика, смеясь, карабкается на заднее сиденье мотоцикла; она ни разу не захотела почувствовать его взгляда, не обернулась к окну. Громадина-мотоцикл, задыхаясь от нетерпения, сползал с тротуара на мостовую, Юрген давал газ, они исчезали так быстро, точно вдруг становились невидимыми.
В тот, последний день они, сразу вдвоем, Вика и Юрген, возникли раньше обычного, Профессор только что успел сходить в магазин – прикупил кое-что к обеду. Первое, что заметил Профессор, едва они вошли, и что потом почему-то особенно пронзительно терзало его память, была надетая на Вике черная кожаная куртка. В рокерской куртке – Вика никогда не носила такую – она смотрелось по-новому и показалась Профессору по-новому обжигающе желанной. «Прости, но я уезжаю», – объявила Вика, едва перешагнула порог. Лицо ее было бледно. Она торопилась сказать то, что собиралась сказать. «Надолго?» – нелепо улыбнувшись спросил Профессор, коря себя за то, что спрашивает. «Навсегда». Немудреный диалог был будто из пьесы, наскоро слепленной ремесленником драмоделом. Юрген, большой, как и его мотоцикл, стоял за спиной Вики и улыбался; глаза у него были веселые и добрые. «Признаюсь, не ожидал», – Профессор попробовал тоже улыбнуться. «Мы ждем ребенка. Прости». Профессор вспоминал потом, что после этих слов Вика подошла к нему и поцеловала его в лоб (как покойника, растравлял он боль, вспоминая), но на самом деле Вика не подошла и не поцеловала. Собранная дорожная сумка стояла тут же в прихожей под вешалкой – видно, собрана была с утра, он и не заметил. Юрген легко поднял сумку с пола. «Но так же нельзя! – вдруг, сам того не ожидая, жалко закричал Профессор. – Нельзя же так!» Он вспоминал потом, что Вика подошла к нему и провела ладонью по его щеке (на самом деле не подошла и не провела). «Успокойся. Я приеду на днях, и мы обо всем поговорим», – сказала уже в дверях. Юрген, коснувшись ее спины и как бы выталкивая ее легким движением, обернулся к Профессору: «Чао». Улыбка у него была хорошая, приветливая. Профессор, вскрикивая что-то, подбежал к окну – за окном никого не было. Он отбросил легкий тюль, прижался лицом к стеклу, но мотоцикл уже растворился в воздухе. На столе в комнате Профессор обнаружил неведомо откуда взявшийся пластиковый пакет, полный крупными в детский кулачок сливами. Он потом не мог вспомнить: он ли купил их для Вики или она, уходя, оставила этот пакет. Сливы были янтарно-желтые, чуть тронутые с боку лиловым дымом. Профессор остановился у стола и начал есть сливы. Ему казалось, он думает о том, что произошло и о том, как быть дальше, но он ни о чем не думал, удивительно ни о чем, – просто стоял у стола и одну за другой ел сливы; руки и подбородок сделались липкими от сока. Так он стоял до тех пор, пока не съел до одной все сливы, и когда ни одной не осталось, спохватился, что съел их немытыми...
7
...Из холла доносился приятный бой часов, считавших те счастливые часы, которые только и предлагалось замечать, когда живешь в Доме. Он безнадежно проспал – утренний душ, бритье, прогулку. Даже повелительные позывы не разбудили его в этот навалившийся тяжелым, глухим пластом остаток ночи.
В комнату вошла степенная турчанка-уборщица фрау Экер в черном платке. «Вы, наверно, замерзли, господин Профессор. Такая холодная ночь». Она стащила с кровати мокрую простыню и не стала постилать чистую, пока не просохнет матрас.
Глава четырнадцатая
1
В то утро, открыв глаза, доктор Лейбниц с удивлением увидел стоявшие в стеклянной вазе ярко-оранжевые цветы берберы, похожие на солнца, нарисованные рукой ребенка. Он не любил береберы, они казались ему искусственными, и оранжевый цвет раздражал его своим бездумным оптимизмом. Он не любил также и не умел пробуждаться по утрам не у себя дома. Память тут же поведала ему обо всем, что произошло накануне, и он огорченно подумал, что, поддавшись настроению, возможно, в несколько часов разрушил дорогое для него сооружение, создаваемое годами, и, того более, что сооружение это оказалось не таким прочным, как ему чудилось. Затрещал будильник. Доктор Лейбниц терпеть не мог будильники, полагаясь на бесперебойно действовавший в нем внутренний указатель времени, к тому же и звук этого будильника раздражал его – будто кто-то перемалывал в кофейной мельнице осколки стекла. Лежавшая рядом женщина слегка приподнялась на локте, прижалась к нему и поцеловала его в губы. После выпитого накануне вина дыхание ее было нечистым. Во рту у доктора тоже пересохло. Поцелуй был ему неприятен. Он повел плечами, высвобождаясь из-под налегавшего на него сильного тела женщины.
2
...Накануне, после выпуска «Новостей», доктор как обычно совершил вечернюю пробежку. Впрочем, пробежка получилась не совсем обычной, даже совсем не обычной: во всем, что окружало его и в самом себе доктор чувствовал в этот вечер радостную легкость праздника. Праздничное, отливающее предзакатным золотом небо раскинулось над ним. Легкие облачка казались золотистыми парусами кораблей, неторопливо плывущих в бескрайнем просторе. В роще, в эту пору весны особенно прозрачной, напоенной воздухом и вечерней прохладой, зелеными огоньками теплились на ветвях дерев молодые листочки. Самый воздух, в такт бегу вдыхаемый доктором, полнился легкой хмельной силой, будоражил, торопил, – доктор едва удерживал себя, чтобы не нарушать выбранный темп. Шаг был легким, ноги касались земли легко и точно. На душе было ясно, спокойно. Мысли тоже не тревожили доктора: всё, что его занимало, в чем виделась цель жизни, именно к этому дню было окончательно решено, задокументировано и уложено в красную папку, на переплете которой доктор крупно вывел фломастером число «500».
Ровно пятьсот дней оставалось по его расчетам до отъезда на Сицилию, и на эти пятьсот дней было по датам и пунктам разложено всё, что еще предстояло сделать, начиная от переговоров с агентством о продаже недвижимости и кончая транспортным агентством, в котором он намеревался заказать билет на самолет. Доктору нравилось это число 500. Скажешь: год и четыре с половиной месяца, – в этом есть что-то аморфное, нечеткое, тогда как в формуле 500 дней звучит упругая деловитость, обязательность, высокая скорость движения. Радуясь светлому простору неба, заметно прибавившейся долготе дня, легкости дыхания и шага, доктор взбежал на холм, крест на вершине которого означал пройденную половину пути. Христос с перебитыми ногами встретил его привычным усталым, печальным взглядом из-под сползшего на лоб тернового венца.
Возле креста доктор, как было у него принято, остановился ненадолго и принялся делать гимнастические упражнения. Он поочередно закидыавал свои крепкие мускулистые ноги на невысокую ограду, окружавшую крест, широко раскидывал в стороны руки и, резко подаваясь вперед, касался концами пальцев носка ноги. Вдруг прыснул дождь, легкий и быстрый, никак не понять, откуда: небо было по-прежнему ясным, хоть и померкло несколько, всё те же редкие облачка, дымные на потемневшем его полотне, вроде бы не полнились влагой, да и тянулись стороной. Прохладные капли стекали по разгоряченному лицу доктора, плечи и спина намокли, это развеселило его. Сдерживая шаг, чтобы не поскользнуться, он сбежал с холма, потом взял нужный темп и направился в сторону дома. Дождь быстро кончился, так же внезапно, как начался. Приятно было чувствовать, как лицо и плечи обсыхают, обдуваемые прохладным встречным ветерком. Быстро темнело. Вдоль просеки и в аллеях парка зажглись фонари.
Дома доктор сбросил в передней кроссовки, быстро принял теплый душ и промокнул влагу на теле мокрой простыней. Не одеваясь, он вошел в комнату. Красная папка с крупно начертанным на переплете числом 500 лежала посреди стола. Доктор жадно отбросил крышку переплета и принялся перелистывать заполнявшие папку деловые письма, счета, квитанции, яркие рекламные листки с фотографиями домов, ландшафтов, образцов мебели, графики, карты дорог, наконец расписание авиационной компании, в котором красным маркером был помечен первый утренний рейс на Палермо. Доктор наметил взять в середине следующего месяца короткий отпуск и отправиться на рекогносцировку, никому, понятно, ничего не сообщая об этом. Ну, может быть, если Ильзе спросит, он скажет ей, что едет на неделю в Париж (когда говоришь, что едешь еще куда-нибудь, у собеседников непременно возникают новые вопросы – зачем да почему, но когда говоришь, что едешь в Париж, вопросов не возникает: всякий хочет съездить в Париж, если выпадает возможность). Доктор стоял обнаженный, держал папку в руках, каждая бумажка была ему знакома и каждая была вещественным обещанием будущего счастья, первый шаг к которому он сделает уже завтра с рассветом, когда приступит к выполнению программы первого из оставшихся пятисот дней. Он чувствовал, что даже тело его предельно возбуждено, как будто не кусок картона был у него в руках, а держал он за руки мановением волшебства явившуюся к нему женщину, которой долго добивался. Доктору неудержимо захотелось выйти на люди, не то что бы возникла потребность общаться с кем-нибудь, – захотелось не утратить в обстановке привычных одиноких будней бездумного ощущения праздничности, кипевшего в нем колким, веселым кипением шампанского. Всей кожей чувствуя удовольствие, он натянул новую, ни разу еще не надеванную белую рубаху, тут, там коснулся мягкого ее полотна душистой пробочкой от давно тосковавшего в шкафу флакона с дорогим одеколоном и, сам себе улыбаясь, снял с вешалки костюм, предназначенный лишь для самых редких и особо торжественных случаев.
3
За несколько лет жизни в городе доктор Лейбниц не набрал большого числа знакомых и всё же разглядел в полутемном зале несколько известных ему лиц, всем вместе кивнул от порога и поспешил к свободному столику в дальнем углу – меньше всего ему хотелось сейчас делить с кем-нибудь свое счастливое настроение. Знакомого официанта, открывшего перед ним карту с перечнем блюд, он задержал вопросом, не из Сицилии ли тот родом. Официант был не из Сицилии, но так получилось, что прожил на острове четыре года.
«И что же, хорошо там?»
«Если вы не надолго, ничего не найти лучше. А жить – скучно. Пока сезон, вокруг одни туристы. И все они будто одинаковые, все хотят одного и того же. А когда туристы разъезжаются, скучно от того, что вокруг никого нет. Говорят, что Сицилия – это пляж, вулкан и мафия. Но мафию за последние годы порядком прижали, ждать, что начнется извержение вулкана, интересно только первые два дня, а на пляжах в основном приезжие. Люди, живущие у моря, купаются редко, потому что всегда могут искупаться».
Доктор неторопливо тянул красное сицилийское вино и смотрел, как за буфетной стойкой проворный тощий повар в высоком колпаке, похожий на паяца, исполнял перед пылающей печью свое завораживающее действо. Вот подхватил кусок теста, ловким красивым движением перебросил с руки на руку, и еще, и еще, похлопал, погладил, снова перебросил... Красота и повторяемость точных движений, живой, дышащий огонь в печи, рассыпающийся жарким золотом (это не электрический камин-картинка с плоским изображением пламени на холодном стекле экрана), расставленные на столах свечи, загадочно выхватывавшие из полутьмы, в которую был погружен зал, фрагменты лиц и рук, и, конечно, темное красное вино, неторопливо разносимое по телу током крови, – всё располагало доктора в его счастливом одиночестве к размышлению и покою. Время от времени он поднимал свой бокал, чтобы, держа его перед глазами, сквозь налитое вино заново увидеть полнящуюся огнем печь, пекаря с его жонглерским танцем, мерцающие свечи, как звезды, разбросанные по залу. И тогда ему казалось, что яркий клубок огня, ворвавшись в бокал, разогревает заполняющую его жидкость, ворожба пекаря оборачивалась мелькающей за красной завесой чернотой, сверкающие крестики свечей вспыхивали и меркли в бездонной непроницаемой глубине. В какой-то момент он вроде бы даже задремал, но тут же одернул себя! Сегодняшний праздник – не сладкий отдых обретения – разбег и новое начало. И пятьсот дней – 500 дней, – лежащие впереди, надо пройти уверенно и бодро, ни на шаг не отворачивая от цели. Пятьсот дней – это в конце концов всего семьдесят недель, семьдесят шажков времени, с непостижимой скоростью сглатывающего расстояние от понедельника до понедельника. Теперь, когда каждый такой шажок означает не просто движение вперед, но приближение будущего, когда с каждым новым понедельником он будет всё глубже вступать в это будущее, всё реальнее вживаться в него, ощущать себя в нем, когда всё, что сегодня и здесь, будет всё меньше занимать его, недели замелькают с особенной быстротой.
4
Официант принес ему граппу в высокой узкой рюмке. Он отпил глоток. Пламя обожгло желудок, дохнуло в голову. Потом доктор вспоминал, что именно в эту минуту мимо его столика черным силуэтом неспешно проследовал кто-то незнакомый: «Добрый вечер, господин доктор!» Он не задумываясь ответил и тут же спохватился: доктор не любил вступать в общение с незнакомыми людьми. Кто бы это мог быть? Он не успел разглядеть лицо незнакомца – только силуэт: высокая, узкая фигура, слегка надломленная в пояснице, странный, облегающий на старинный манер, едва не до колен пиджак. Позже, вспоминая, он как-то само собой придумал незнакомцу длинный тонкий нос, гладкие волосы до плеч. Но в тот короткий миг, когда перед его взором появился и исчез этот непонятно откуда появившийся и куда исчезнувший человек, не было ничего, кроме черного силуэта и неожиданно возникшей в душе тревоги. Чтобы прогнать ее, доктор мысленно открыл красную папку с числом 500 на переплете и принялся думать о Сицилии. Это имя, как скипетр волшебника, тотчас начертало в его воображении огромное во всю стену окно, и море за окном, и небо над морем, и растворенную в воздухе полоску горизонта вдали. Доктор, как было принято в его фантазиях, стоял у окна, смотрел на море, на небо, на открывшееся перед его взором бесконечное пространство – и на этот раз вдруг ужаснулся этой открывшейся перед ним пустоте. Он поневоле сделал шаг от окна и оглянулся в поисках опоры. Но и позади была пустота. Он вспомнил фильм о летчике, который видел однажды. Летчик со сверхзвуковой скоростью летел на огромной высоте над морем. Он поворачивал машину так и этак, выполняя назначенное ему задание, и вдруг утратил способность ощущать пределы пространства. Верх, низ, море, небо – всё не то что смешалось: перестало существовать. Машина крутилась в пустоте.
В зале появилась пожилая пара: высокий седой мужчина, которого, при его отменной выправке и точных изящных движениях, невозможно было назвать стариком, и его спутница, тоже совсем седая дама, – возраст оставил следы на ее прекрасном лице, но обозначение старая и ей никак не подходило. Они устроились за соседним столиком. Доктор поневоле наблюдал за ними, и это увлекло его. Правильные точеные черты лица мужчины, движения его крупных рук, золотой перстень (королевский, определил доктор), массивный и вместе по-особенному скромный, вещь не напоказ – для себя, прическа дамы, изысканная, но изысканная своей простотой, ее закрытое черное платье, тоже королевское и тоже очень простое, ожерелье – круглые, серебристо-серые камни под цвет ее седины, но главное – выражение лиц этих двух, жесты, редкие касания рук, взгляд их глаз, лучившийся нежностью и таившимся в душе каждого радостным, веселым волнением, когда они явно немногословно, больше выражением лиц, этими взглядами, касаниями рук, беседовали друг с другом, – всё это привлекало внимание доктора, не отпускало, как ни старался он, чтобы интерес его был возможно неприметнее. Даже белый сыр, черные блестящие маслины, налитое в бокалы вино, обычная снедь и самые простые предметы, многажды повторенные на столиках итальянского ресторана, на их столике казались чем-то особенным, будто выставленным в музейной витрине. Они счастливы, думал доктор, и оттого всё в них и вокруг них, всё, к чему они прикасаются, полнится совершенством. Они ушли бесконечно далеко от него. Они живут уже в мире его мечты, думал доктор, и мир этот уже так же не Сицилия, как и не этот городишко. Они – это они. Они уже за чертой, там, где счастье не помечено точкой на географической карте, где люди не носят масок, или, по крайней мере, не меняют их, ему же (если, конечно, достигнет цели) еше предстоит обрести свою последнюю, или – вдруг и в самом деле – добраться до подлинного своего лица. Путь, который он вознамерился пройти, у этих уже позади, прекрасные итоги этого пути они так по-королевски просто отмечают сейчас здесь перед ним. Он вспомнил свою красную папку. Что же он-то собрался сегодня праздновать? Его 500 дней – даже не начало новой жизни: счета, рекламки, графики, и никто не в силах предугадать (сам он тоже не в силах), что произойдет, если перевалит он всё-таки через хребет промеченных пятисот дней и окажется на треугольном каменистом куске суши, где, по словам официанта, нет ничего, кроме пляжей, вулкана и мафии.








