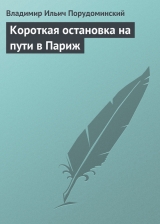
Текст книги "Короткая остановка на пути в Париж"
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Глава вторая
1
Вечером Старик уселся в их маленькой гостиной смотреть телевизионное шоу, которое никогда не пропускал. Тут же расположился Профессор с немецкой книгой: это был снискавший известность роман, прочитать его посоветовал Профессору доктор Лейбниц. Ребе сидел в уголке со своими вырезанными из старых журналов таблицами и схемами. Но шоу шумно и навязчиво требовало к себе внимания, и Профессор, заложив книгу пальцем, прикрыл переплет, а Ребе перестал черкать карандашиком в своих бумагах и, откинув голову, из-под козырька кепи устремил внимательный взгляд на экран.
На сцене поставили высокий, заполненный водой аквариум, привлекательная девушка, обнаженная – лишь крошечный лифчик и едва заметное бикини, – зажав в зубах трубку для дыхания, с головой погрузилась в него, после чего устроители шоу выплеснули в аквариум еще ведро воды, в которой кишели водяные змеи. Змеи быстро и нервно кружили в аквариуме, проплывая мимо лица девушки, между ногами, касаясь ее тела своими длинными и тонкими телами. Так надо было простоять то ли три минуты, то ли целых пять. Стрелка подвешенных над сценой часов, казалось, едва тащилась по кругу циферблата. Змеи скользили перед глазами девушки, прикрытыми уродливыми очечками пловчихи. А в глубине сцены на покато обращенном в сторону публики пьедестале, сверкая красным лаком, возвышался небольшой опель – награда победителю, чей номер публика найдет наиболее заслуживающим внимания.
«По существу, это пытка, – возмущался Профессор. – Нечто подобное есть у Орвелла».
«У нас пытки были попроще, – подумал Ребе – То ли выдумки не хватало, то ли времени, то ли денег».
«В конституции записано: достоинство человека неприкосновенно, а в итоге за публичное унижение человеческого достоинства еще и приз выдадут. Как той женщине, которую – помните? – однажды вот так же положили раздетую в стеклянный ящик и высыпали на нее десять, кажется, килограммов тараканов».
Профессор вспомнил сухой шорох копошащихся насекомых, который слышался в затаившем дыхание зале, и с брезгливым ужасом передернул плечами.
«Что вы развоевались! – не отрывая взгляд от экрана, заспорил с ним Старик. – Никто эту девку насильно в аквариум не загонял. Мне хоть автобус пообещай, я туда не полезу».
«Прикажут – полезешь», – подумал Ребе и покосился на оттопыренную, как жабра, багровую щеку Старика.
«Конституция обязывает соблюдать достоинство человека, но как обязать, научить самих людей защищать свое достоинство», – продолжал свою риторику Профессор.
«Вот именно, – согласился Старик. – Сам за себя не постоишь, никакие конституции не помогут. Думал о-го-го, а оказалось рулон туалетной бумаги».
Он захохотал.
2
Когда-то, семьдесят, может быть, даже семьдесят с лишком лет назад старик, которого так и называли теперь Стариком, был курчавым, розовощеким подростком и был впервые и безнадежно – он знал это – влюблен. Безнадежно, потому что, хотя советская власть и все равны, но он был мальчиком из полуподвала, где обитал с матерью, кассиршей на железной дороге, и горбатой старшей сестрой Идой, портнихой-надомницей, перешивавшей и чинившей старую одежду, тогда как предметом его любви оказалась Ривочка, дочь доктора Бунимовича, известного врача, акушера и гинеколога, у которого рожали и лечились жены и дочери всех городских руководителей и знаменитых людей. Бунимовичи жили в обширной квартире на втором этаже, который во дворе почтительно именовали бельэтажем, квартира принадлежала прежде деду Ривочки, тоже врачу-гинекологу. Домашняя работница Бунимовичей, рябая деревенская женщина Тося, шустрая и словоохотливая, забегавшая к Иде поболтать, говорила про своих хозяев: «Грех жаловаться! Богато живут!»
Подросток, которого называли теперь Стариком, заканчивал семилетку, тут же на их улице, недалеко от дома, разместившуюся в двухэтажном здании бывшего реального училища. Ривочка училась в Образцовой школе № 1 имени то ли Косиора, то ли Постышева (он уже запамятовал на старости лет, кого именно, да и какая разница: сами эти персонажи, некогда прославленные и могучие, остались ныне – и то лишь для немногих, особо памятливых, – мало приметными этикетками в именном указателе былых исторических фигур). Сестра Ида называла образцовую школу бобрятником. «Там бобрята, дорогая шкурка, – картавила она. – А вы второй сорт. Кошки-мышки». Ида громко смеялась и дергала плечами, будто стараясь подкинуть повыше висящий на спине горб.
Отца он не знал. Ида однажды потрясла его сообщением, что отцы у них разные. Своего отца Ида тоже не знала. Такого он от матери, некрасивой и неприветливой, никак не ожидал. Мать на его расспросы отвечала сердито: «Я за ним не следила. Ушел и пропал. Может, убили, а может, нашел кого получше. Время было такое». Ее и без того красное лицо становилось еще темнее. «Будем считать, отцы пали на фронтах гражданской», – весело каркала Ида.
Ривочка была стройная девушка с легкой походкой. Когда она шла по улице, она улыбалась. Тогда, в отрочестве, мальчик, ставший теперь Стариком, был убежден, что она всегда счастлива. Впрочем, так, наверно, тогда и было. Разговаривая, Ривочка мило гримасничала – поджимала губы или сводила их трубочкой, широко раскрывала глаза, окаймленные длинными ресницами. Впрочем, поговорить с ней ему почти не доводилось: если встретятся, разве что «привет!» и «пока!», а встречались редко. Кроме общей школы у Ривочки была еще и музыкальная, и отдельно частные уроки немецкого и французского; летом Бунимовичи снимали дачу и уезжали из города.
Но однажды под вечер раздался торопливый стук в дверь, он откинул крючок и увидел на пороге Тосю и Ривочку. «Привет!» – выглянула Ривочка из-за Тосиного плеча и, широко раскрыв глаза, изобразила изумленный взгляд, то ли передразнивая изумление, появившееся (он чувствовал) на его лице, то ли сама изумляясь, что появилась здесь. Оказалось, нынче вечером у нее в музыкальной школе концерт, для которого куплено новое платье, стали надевать – и надо же, то ли узко где-то, то ли широко (он уже позабыл, конечно). «Брысь! Примерка!» – каркнула на него Ида, как всегда, когда приходили клиентки, чтобы вышел в кухню. Но на этот раз он обиделся и буркнул, выходя: «Дура!» В кухне, общей для всех трех полуподвальных семей, пахло холодными примусами. Он переминался с ноги на ногу, ожидая разрешения снова вернуться в комнату, и жалел, что на нем не надеты ни ботинки, ни пальто и он не может уйти куда глаза глядят. Ему стыдно было, что Ривочка находится там, в их комнате, с двумя тесно поставленными кроватями, накрытыми лоскутными одеялами, и с продранным кожаным сидением его дивана, стыдно было оставленной на обеденном столе грязной посуды, стыдно было придвинутого к окну столика со старой швейной машинкой, вокруг которого валялись разноцветные лоскутки материи, стыдно было ног прохожих, сновавших мимо этого окна под потолком, и всегда державшегося в помещении тонкого известкового запаха сырости.
Когда его впустили обратно, Ида уже громко тарахтела на своей разношенной машинке, выполняя срочную работу, Тося стояла напротив нее и быстро, будто торопясь обогнать машинку, пересказывала последние дворовые и уличные новости, Ривочка между тем устроилась на его позорном диване с вырванным клоком кожи и рассматривала книгу о путешествиях в глубь Африки. Своих книг у него не было, он брал в районной библиотеке. Розалия Самойловна, библиотекарша, всегда норовила ему всучить что-нибудь про гражданскую войну или из школьной жизни, но он любил путешествия – капитан Кук, Амундсен, Колумб, Ливингстон и Стенли. Он представлял себе, как в одиночку на современном танке (таком, какие показывали в кинохронике про маневры) оказывается, подобно Робинзону, на неведомом острове, затерявшемся в необозримых просторах океана, бессчетная толпа дикарей с копьями и луками выбегает из густых тропических зарослей ему навстречу, он закладывает в ствол снаряд, один выстрел, другой, дикари в ужасе разбегаются либо, изъявляя полную покорность, падают ничком на землю, и он, подняв на башне броневой машины красный флаг, – бог, царь и герой – объезжает покоренный остров.
«А Дюма читал? – спросила Ривочка. – Три мушкетера или Граф Монтекристо?»
Нет, Дюма он не читал. Только слышал о нем от счастливцев, которым чудом попадали в руки эти книги. В районной библиотеке книг Дюма не имелось.
«Приходи. У меня и Три мушкетера, и Двадцать лет спустя, и Виконт де Бражелон, это еще Десять лет спустя...»
Он удивился: «Откуда у тебя? В библиотеке и то нету».
«Еще от дедушки».
«И все читала?»
«Эти раньше читала. А теперь больше – про любовь».
Ривочка слегка прищурилась и мечтательно посмотрела вверх, в сторону окошка, мимо которого туда и обратно торопливо шагали ноги невидимых пешеходов.
«Анну Каренину, что ли?» Он хмыкнул и покраснел.
Ривочка сложила губы в хитренькую улыбку:
«Между прочим, у папы Мопассан есть. Вот такой том. – Она показала пальцами. – С иллюстрациями».
Он снова покраснел. От старших ребят он знал, что Мопассан это что-то совсем неприличное.
Ида перестала тарахтеть машинкой. Вскинула повыше свой горб и, держа платье за плечи, подошла к Ривочке: «Теперь, кажется, что надо».
В эту минуту мальчик, ставший с тех пор Стариком, вдруг представил себе, как Ривочка в одних черных сатиновых трусиках, схваченных на бедрах резинками (девчонки приходили в таких на уроки физкультуры) стоит перед зеркалом и, подняв обнаженные руки, не спеша натягивает на свое стройное тело новое платье. У него пересохло во рту.
«Так ты приходи, – сказала Ривочка. – У меня завтра до половины седьмого французский. Вот ты к семи и приходи».
Тося откуда-то из-под фартука достала две денежных бумажки и протянула Иде: «Не мало?»
«В самый раз», – сказала Ида. Быстро взяла деньги, сунула в карман.
Он готов был сгореть от стыда.
3
Девушка между тем стояла в аквариуме, скользкие, верткие змеи шныряли вокруг нее. Видно было, что ей страшно и, наверно, холодно. Дыхательная трубка, конец которой она сжимала во рту, торчала над поверхностью воды, как обломанный стебель какого-то растения. Время от времени девушка спохватывалась, поднимала руку и, расставив пальцы буквой V, пыталась воспроизвести бодрый и ободряющий публику жест. Наконец стрелка часов обползла необходимое количество кругов. Служитель в красном комбинезоне расставил лесенку-стремянку и помог девушке выбраться из аквариума. Она стояла посреди сцены в лучах наведенных на нее прожекторов, которые, казалось, высвечивали на ее бледной коже пупырышки холода и страха, с ее похожих на водоросли волос стекала вода. Наконец она опомнилась, сдернула нелепые очечки, засмеялась, замахала руками, закричала что-то, неслышное за овациями и ударившим марш оркестром. Ведущий в седом парике и бархатном, расшитым золотом наряде изысканно, чтобы не замочить руку, взял ее за кончики пальцев и торжественно, как в танце, под отбивавшие ритм аплодисменты публики повел за кулисы. Девушка уже освоилась, свободной рукой посылала направо и налево воздушные поцелуи и, не попадая в такт, следовала за ним. После нее на сером ковре сцены оставались темные мокрые следы...
4
Доктор Бунимович, коротко постучав (что поразило мальчика), вплыл в комнату Ривочки – толстый живот, сверкающая лысина, белая, крепко накрахмаленная сорочка, галстук-бабочка, белый платочек уголком в нагрудном кармане пиджака, аромат одеколона.
«Желаю вам, молодые люди, хорошо провести время. Мы в театр...»
«Что сегодня дают?» – спросила Ривочка.
(Мальчик, сегодняшний Старик, удивился этому необычному дают.)
«Продавец птиц. Приехала московская оперетта».
Мальчик уже понял, скорее, даже почувствовал, что попал в иной, неведомый мир, и это назавание спектакля, показавшееся ему странным и манящим, вмиг явило его воображению тропический лес и перепархивающих с ветки на ветку необыкновенных птиц с ярким оперением, и тот, который ловил и продавал этих птиц, был, наверно, темнокожий, в белой чалме, таких показывали недавно в кинохронике «Путешествие по Индии».
В дверях появилась жена доктора Бунимовича, тоже толстая с рыжими крашеными волосами, в лиловом платье.
«Мы опаздываем».
(Откуда Ривочка такая худая, стройная?)
«Прошу любить и жаловать», – доктор протянул мальчику руку, и тот почувствовал его большую, теплую ладонь.
«Не забудь напоить гостя чаем». Это уже к Ривочке.
«Принесешь программку, только чтоб с пересказом содержания, и шоколадку из буфета», – приказала Ривочка.
Она поцеловала отца в лысину.
«Пожалуйста, нигде не задерживайтесь. А то опять отправитесь куда-нибудь в гости». Ривочка слегка надула губы и сделала обиженные глаза.
«Мы опаздываем, – сказала из дверей жена доктора Бунимовича. – Тося, принесите доктору шляпу»...
Они остались вдвоем. Оба молчали. Слышно было, как где-то далеко, в кухне, Тося звякает посудой. Ривочка стояла в двух шагах от него у книжного шкафа и, слегка склонив голову, с интересом его разглядывала. Она разглядывала его, как разглядывают из глубины комнаты севшую за окном на ветку птицу.
«А что, если я ее сейчас поцелую? – подумал он. – Ударит? Заорет?»
Он вообще-то один раз уже целовался с девчонкой, с Иркой Романовой из их класса. Эта Ирка Романова, курносая, с мокрыми губами и широкими бедрами, считалась между мальчишками особой весьма легкомысленного поведения. Они рассказывали о ней друг другу томительные подробности, часто видно было, что врут, но хотелось слушать. Во время школьного вечера Сережка Николаев, его друг, шепнул ему, задыхаясь: «Там, в гардеробе, Ирка Романова ждет. Побежали!». Они нашли Ирку в узком темном проходе между рядами вешалок, на которых теснились пахнувшие уличной влагой пальто.
«Ты чего его привел? – рассердилась Ирка. – Сейчас как разверну обоих».
«Он тоже хочет», – объяснил верный Сережка.
«Дурак ты. Ладно, пусть учится».
Она притиснулась к нему, прижалась животом, потерлась о его губы мягкими мокрыми губами.
«Что? Сладко? А теперь катись отсюда. Я Сережку ждала, не тебя».
Он выбрался из гардероба, вытер рукавом губы. Ему и противно было, точно обмарался, и хотелось вернуться, что-то еще испытать, изведать, что досталось, может быть, Сережке, не ему.
Он смотрел на Ривочку, на ее веселые, подвижные губы, на ее широко раскрытые, внимательно на него смотрящие глаза, и думал, что с ней было бы, конечно, всё совсем иначе.
«Ты только не вздумай лезть целоваться, – сказала Ривочка. – Я этого терпеть не могу». Он покраснел.
«Очень надо!»
Во рту у него пересохло.
(Мопассана читает, сердито подумал он.)
«Выбирай книги, а я скажу Тосе, чтобы чай вскипятила».
В двух книжных шкафах за стеклом поблескивали и пестрели плотно прижавшиеся один к другому книжные корешки.
«В этом шкафу еще дедушкины, а в том новые, которые уже мне покупали», – объяснила Ривочка.
Он подошел к шкафу и стал сквозь стекло читать на корешках названия.
Книг было так много интересных, что он не мог ничего выбрать.
На шкафу стояла мраморная статуэтка: девушка на скамейке, у нее на коленях раскрытая книга; девушка оторвала взгляд от книги, подняла голову, смотрит вдаль.
Ему вдруг сделалось ужасно тоскливо: ничего он из этих шкафов не возьмет, не унесет, – и зачем сюда явился.
Вошла Ривочка.
«Ничего не выбрал? Пойдем чай пить, а то остынет. Я тебе потом сама что-нибудь отыщу».
Протянула ему руку: «Пошли».
А у него ладонь – он почувствовал – мокрая, потная. Неловко провел, отирая, о полу куртки, сжал в непослушных пальцах ее тонкие пальчики.
На столе, покрытом белой скатертью, стояли красивые чашки (как из таких пить-то?), серебряная сахарница, молочник тоже серебряный. Возле каждой тарелки салфетка в серебряном колечке.
Тося в белом переднике принесла из кухни блестящий никелированный чайник.
«Я сама», – Ривочка потянулась взять у нее чайник.
«Сама! – не отдала чайника Тося. – Хозяйка! Пальцы ошпаришь, кто будет на пианине играть?»
Посреди стола громоздились в вазочках какие-то шарики, покрытые шоколадной глазурью, посыпанные сахаром крендельки.
«Ты его спроси: может, он есть хочет, – сказала Тося. – Смотри, какой мужик здоровый. Что ему это баловство»,
Он покраснел.
«Вы, Тося, его совсем смутили. А ты, может быть, и правда, голоден? Хочешь бутерброд?»
«Ничего я не хочу», – сердито сказал он.
«Нет, нет, печенье непременно попробуй: его папе из Киева прислали».
Тося разлила чай.
«Тебе с молоком? – Ривочка взялась за молочник. – Папа между прочим обожает пенки. А ты?»
Он не успел ответить, как из молочника скользнула в чашку густая длинная пенка.
Его чуть не стошнило от одного ее вида.
Ривочка заметила его смятение. И он понял, что – заметила. В ее широко раскрытых глазах блеснул озорной интерес. Она подвинула к нему чашку.
«Только непременно с печеньем. Вот возьми кренделек».
Своими тонкими пальчиками она протянула ему обсыпанный сахаром завиток.
«Ну, смело, – подбодрила она его и засмеялась. – Одним махом. Как микстуру».
Она сложила губы трубочкой и, слегка склонив голову, смотрела на него.
«Не хочет, пусть не пьет, – сказала Тося, которая тоже всё заметила. – Сама, небось, от сливок нос воротишь. Давай сюда, я выпью».
Он взял чашку за витую ручку, такую нежную, что, казалось, отломится и останется в пальцах, быстро поднес ко рту и одним громким глотком схлебнул пенку. Сейчас вырвет, тоскливо подумал он. Взял из тонких пальцев Ривочки кренделек, отгрыз кусочек. Двинул стулом.
«Ладно. Я пойду».
«И чего обидела!», – сердито сказала рябая Тося.
«Ты, правда, обиделся? – Глаза у Ривочки были огорченные. – И книгу не выбрал».
«В другой раз»...
5
На экране между тем средних лет мужчина, коротко обстриженный, с короткой, мощно отлитой фигурой тяжеловеса, торопливо, один за другим засовывал в рот целлулоидные шарики для настольного тенниса и с силой выплевывал их в мишень. Опять же требовалось (так он сам объявил) за минуту взять в рот и выплюнуть несколько десятков шариков и при этом попасть в цель. Лицо и шея мужчины побагровели, он со скоростью заведенного механизма подносил руку ко рту, шарики летели пулей, с пустым стуком ударялись о доску мишени, падали на пол и катились по сцене; зрители, подбадривая героя, считали хором: «...дрейундцванциг... фирундцванциг...», и каждый раз, когда он со скоростью заряжающего устройства автоматического оружия закладывал в рот шарик, страшно было, что он второпях вместо того, чтобы выплюнуть, по ошибке его проглотит.
«Дурак! – смеялся Старик. – Нашел, на что время тратить! Обучил бы верблюда, у верблюда бы лучше получилось. А?»
Стрелка часов, обгоняя метателя шариков, обежала круг. Под рукой у человека на сцене осталось несколько так и не выпущенных в цель шариков. Но публика было великодушна, и он все равно сорвал свои бурные аплодисменты.
В дверях появилась старшая сестра Ильзе. Профессору пора было делать процедуру. Он виновато улыбнулся и суетливым шагом двинулся вслед за сестрой.
Ребе уже несколько минут не смотрел на экран. Человек с шариками его не заинтересовал, и он снова погрузился в свои вычисления. Энергетический канал, который он прокладывал в юго-восточном направлении, где-то совсем недалеко наталкивался на могучую преграду, которую никак не удавалось обойти. Водя карандашиком по карте, Ребе предположил, что это район Освенцима, здесь всегда возникали сложности. Он спешил: время позднее, а он не мог бы заснуть, не выполнив дневного задания Учителя, не почувствовав на лбу его легкой прохладной ладони – сигнала, что маршрут найден, энергия добра достигла цели.
«Вот стыдоба!.. – что-то происходившее на экране очень возмущало Старика. – Это же надо на такое идти ради тачки лакированной!.. Вы, Ребе, взгляните только...»
Но Ребе в своем картузе сидел, вобрав голову в плечи, и водил по карте огрызком карандаша.
«Как черепаха из мультфильма», – усмехнулся Старик и стал смотреть один.
6
...Он смотрел и вспоминал: специальное училише в большом приволжском городе, Западную Украину, где надо было укоренять и укреплять на присоединенных территориях непривычную для тамошних людей советскую власть, войну, которую он прошел от начала до конца, до Рейхстага (на Рейхстаге, впрочем, не расписался), четыре года трудной работы, отмеченной скромным орденом и полдюжиной медалей, – только в сорок шестом он вдруг снова оказался в родном городе, куда его ничто не тянуло. Мать перед самой войной насмерть задавил поезд: прямо по путям возвращалась домой после ночной смены (Ида написала в открытке: «как Анну Каренину»), на похороны он не выбрался, а потом город захватили немцы, и сестру Иду уже через несколько дней расстреляли вместе с пятью тысячами других самых ненужных евреев в старых каменоломнях за городской чертой.
Он попал в город ненадолго, всего на несколько недель: послали для усиления в состав группы, занятой трудным путаным делом. Многих из прежних знакомых в городе уже не было: одни погибли на фронте, других расстреляли немцы, некоторые не вернулись из эвакуации, но оставались и такие, кого он помнил и кто помнил его, – он старался не встречаться с ними: не хотел лишних связей, лишних отношений, да и люди эти, жизнь которых уже давно разминулась с его жизнью, не интересовали его. Работы был непочатый край, он отправлялся в управление рано утром, домой возвращался заполночь, несколько раз кто-то на улице окликал его, о чем-то расспрашивал, он отвечал сухо и торопливо.
Его поселили на частной квартире, специально предназначенной для сотрудников, прибывающих в командировку. Вторую комнату занимала веселая одышливая толстуха весьма преклонного возраста, отрекомендовавшаяся ветераном трудового фронта. Он был уверен, что она доносчица, поэтому держал себя с ней непринужденно, пошучивал и приносил к вечернему чаю конфеты и печенье из служебного буфета.
Порученная работа уже подходила к концу, когда однажды под вечер ему сообщили, что какая-то женщина, старая его знакомая (фамилию он слышал впервые), просит его принять. Он приказал пропустить – в кабинет вошла Ривочка. За десять лет она, конечно, постарела, морщинки на лице и глаза усталые, но это он разглядел позже, когда она сидела напротив, ярко освещенная лампой, а сперва, когда появилась на пороге, только задохнулся, как прежде, мальчиком: она.
Тотчас справился с собой.
«Это у вас по мужу фамилия?»
Она кивнула.
«Давно?»
«Четвертый год. Девочке уже полгода».
«А родители?»
«Родители погибли».
«Здесь?». Он кивнул на окно.
«В дороге. Ехали в эвакуацию, а вагон разбомбили».
«А вы что ж?»
«А я жива».
Он вспомнил сверкающие корешки книг за стеклом шкафа, мраморную статуэтку – девушка, мечтающая на скамье,
«И что же делает ваш муж?»
«Он очень хороший человек. Намного меня старше. Благодаря ему я и жива осталась. Работал на Криницком заводе, инженером. Недавно его арестовали».
Ему показалось, будто кто-то туго затянул на нем ремень. Впрочем, следовало ожидать что-нибудь подобное: не для того же она явилась в управление, чтобы на него посмотреть.
«Я знаю, что он невиновен», – быстро прибавила Ривочка.
«Об этом мы с вами судить не можем».
Он что-то слышал про аресты на Криницком заводе, но завод был совсем не по его части.
«Я к этому делу не имею ни малейшего отношения».
Ривочка покорно кивнула.
Сейчас она встанет и уйдет навсегда. Сердце у него сжалось. Перед глазами, точно высвеченный лампой, возник тот вечер, весь разом: толстый доктор, книги в шкафу, мраморная девушка на скамье, серебряный молочник с пенками, рябая Тося в белом переднике, ты только не вздумай лезть целоваться.
Он чувствовал, что Ривочка медлит, и знал, что всю жизнь себе не простит, если упустит такую возможность. Губы у Ривочки были сомкнуты печально и строго, его томило желание припасть к ним, заставить раскрыться, ответить ему, вобрать его в себя. «Опомнись, – свистел в уши страх. – Узнает кто, костей не соберешь», но не в силах был ничего с собой поделать. Крепко сжал зубы, точно перекусывая какой-то проводок, подмигнул Ривочке, обвел глазами комнату, показывая ей на стены, на потолок (она понимающе кивнула), молча написал на листке бумаги свой домашний адрес, поставил над ним: «Завтра в 7 веч.», показал ей листок (она снова кивнула), порвал, клочки положил в карман. Завтра было воскресенье, а по воскресеньям толстуха уезжала в деревню, где у нее имелся огород, и возвращалась обычно заполночь, если вообще возвращалась, иной раз оставалась ночевать у товарки в деревне. Едва за Ривочкой затворилась дверь, он, будто чары оставили его, тотчас пожалел о том, что сделал, и чуть не бросился вдогонку. Но такое было бы совсем неосмотрительно. Он стал придумывать разные объяснения на случай, если про их свидание сделалось бы известно, объяснения выстраивались толково и убедительно. И по мере того, как отступал страх, мечта о Ривочке, жестокая, тревожащая тело мысль, что теперь она в его власти, всё крепче овладевала им. Он будоражил память разными замечательными штуками, которым обучила его, когда их воинская часть стояла в Польше, податливая повариха из местных, и теперь примерял, как будет всё это проделывать с Ривочкой, при этом Ривочка возникала в его воображении не теперешней, с какой он только что расстался, а давней тоненькой девочкой, которая стоит перед зеркалом и, подняв руки, снимает через голову платье.
Вечером в воскресенье он загодя высматривал ее, прячась у окна за кружевной занавеской. Ривочка появилась перед домом, как было условлено, ровно в семь. У нее была усталая походка, – но разве он мог рассчитывать, что она на крыльях прилетит? Думать об этом не хотелось. Страх, что кто-то ее заметил, электрическим разрядом на мгновение сжал сердце, но радость предстоящего тут же охватила его, сердце застучало быстро и громко, он бросился отпирать дверь до того, как раздастся звонок – резкий вскрик звонка грубо разорвал бы нетерпеливую, заполненную лишь гулкими ударами его сердца и стуком каблуков на лестнице тишину ожидания; уже на пороге он обнял Ривочку и поцеловал, – не отпугивая, коротко, как друзья целуются при встрече: «Ну, вот и увиделись!» Посреди стола сиротливо пристроились бутылка красного вина и маленький торт, купленные в служебном буфете (по карточкам не найдешь). Он принялся было тотчас разливать вино, но Ривочка отодвинула стакан: «Я не могу, у меня времени совсем мало: соседку попросила за дочкой присмотреть». Он вдруг обрадовался, что у нее времени мало, что дочка.
«Удалось что-нибудь узнать?» – спросила Ривочка.
Она присела на краешек стула, как просительница, обеими руками держала на коленях маленькую дамскую сумочку. Он снова вспомнил статуэтку – девушку с книгой на коленях, устремившую взгляд вдаль. Ривочка сидела, опустив голову, и не смотрела на него.
«Пока немногое, – соврал он. – У нас ведь непросто. В чужие дела вмешиваться не положено. Ищу ходы. Может быть, что-нибудь и высветлеет».
«Спасибо!», – Ривочка подняла голову и внимательно на него посмотрела.
«Если он не виноват, всё обойдется».
«Спасибо», – снова сказала Ривочка.
«А я все эти годы думал о тебе, все десять лет. Всякое, конечно, случалось, но, кроме тебя, настоящей любви в жизни не было».
Ривочка в третий раз повторила: «Спасибо».
«Я все-таки налью. Выпьем, чтобы всё хорошо кончилось».
«Хорошо, налей», – покорно сказала Ривочка и положила сумочку на стол.
Они выпили.
Он, волнуясь, прошелся по комнате, остановился у Ривочки за спиной, положил руки ей на грудь. Наклонился и, тяжело дыша, поцеловал ее шею. Она сидела, не двигаясь, и молча смотрела в окно. Там, за окном, ворона на ветке чистила перья.
«Я люблю тебя», – сказал он, не сомневаясь, что так оно и есть.
Грудь у Ривочки была маленькая, девичья. Как у той девочки, что перед зеркалом через голову снимала платье. Это вдруг, как жгучим бичом, подхлестнуло его желание; непослушными пальцами, почти обрывая, он начал расстегивать пуговицы на блузке.
«Это так надо?» – спросила Ривочка.
«Глупая! Я же люблю тебя!».
«Отвернись, – сказала Ривочка. – Я сама разденусь».
Он получил всё, что желал получить, хотя всем телом чувствовал, что она старается скрыть свое безразличие; это мешало ему и сердило его, но не останавливало; он, как задумал, заставил Ривочку испробовать острые блюда, которые мастерица была готовить польская повариха, и, когда в какую-то минуту Ривочка резко отвернулась от него и выдавила, не скрывая неприязни: «Не хочу!», он вспомнил пенку и хрипло засмеялся. Он понимал, что не любовь привела ее к нему, и все-таки ему было хорошо, может быть, он был даже счастлив, но едва всё кончилось, почувствовал неодолимое желание, чтобы она скорей ушла: неровен час, соседка вернется с огорода раньше обычного или еще что-нибудь образуется непредвиденное.
«Выходи осторожно, – предупредил он. – Оглядись, чтобы ни с кем не встретиться».
Она не засиживалась. В прихожей на прощанье он обнял ее: «Сделаю, что смогу». Она внимательно посмотрела ему в глаза: «Я верю. Потому и пришла». Вдруг улыбнулась, кокетливо, как встарь: «Ты раньше хороший парень был». Растроганный ее улыбкой и торопясь закончить свидание, он повторил: «Что смогу», хотя заведомо знал, что ничего он не может, и не сделает, и не захочет сделать, что срок его командировки кончается через несколько дней, и обратный билет уже выписан, и впереди ждет его новое, очень заманчивое, назначение.
7
Телевизионный конкурс подошел к концу. После того, как отчаянный парень в кожаной куртке, вздыбливая свой мотоцикл, проделал разные невероятные трюки, а следом целое семейство выстроило на сцене высокую, ломкую, как карточный домик, пирамиду из стульев, на которую и взобралось в полном составе, стали подводить итоги. Публика большинством голосов отдала первое место девице, мучившейся в аквариуме со змеями. Победительница снова вышла на сцену, почему-то по-прежнему только в бикини и лифчике, села в красный опель, включила мотор, торжественно погудела и под овацию зала медленно поплыла за кулисы.
Старик был недоволен: «Этот верблюд с шариками хоть плевать в мишень научился, а она что? Залезла в банку с водой, зажмурилась от страха, постояла три минуты и ухватила тачку. Змеи, конечно, не ядовитые – кто же разрешит ядовитых? Может, и вовсе слепые какие-нибудь, без рта, вроде червей. Тут главное брезгливость одолеть. У многих также страх врожденный. Ребе, вы боитесь змей?»
Ребе откинул паутинку от глаз и улыбнулся. Несколько минут назад ему удалось выполнить задание. Восточнее Освенцима он нащупал узкое пространство, достаточное для прохождения энергии, тотчас направил туда поток и теперь чувствовал прикосновение легкой прохладной ладони.
«Раньше боялся, но с некоторых пор перестал», – ответил Ребе.








