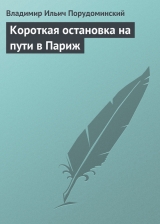
Текст книги "Короткая остановка на пути в Париж"
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Глава одиннадцатая
1
Ребе натянул фуражку на лоб и, лежа неподвижно на спине, несколько минут смотрел, как перемещаются на полированной поверхности шкафа тени плывущих за окном облаков. Потом охотник на шкафу затрубил в свой изогнутый полумесяцем рог, и на Ребе обрушилась легкая, как вакуум, непроницаемая тишина, сквозь которую до его слуха уже не проникали ни храп Старика, ни шорох пробегавших по улице машин, ни шаги ночной дежурной в коридоре. Тишина была напоена запахом дыма и снега, тем особенным запахом, который растекается в воздухе, когда в зимний день разжигают костер на поляне посреди окованного морозом хвойного леса. Потом с этим запахом стал смешиваться тонкий, но явственно уловимый запах сирени, даже мокрой сирени, и Ребе вспомнил, как после дождя, не разбирая дорожки, шел по саду, раздвигая лицом и грудью отяжеленные лиловыми гроздьями ветви кустарника. Его лицо было мокро, и гимнастерка на груди темнела влагой, он стоял, скрытый зеленью, и смотрел снаружи на прямоугольник кухонного окна, в котором появлялась, исчезала и снова появлялась занятая своими заботами девушка, дочь фрау Гунст, хозяйки этого небольшого домика, в который был определен на постой его, Ребе, непосредственный начальник, инженер-майор Архангельский.
На окраине городка, в котором квартировала часть, помещалось немецкое оборонное предприятие, его приказано было демонтировать и переправить в Советский Союз. Для этой цели в городок вместе с несколькими специалистами и был командирован инженер-майор Архангельский. Инженер-майор поспешно искал людей, способных по своему образованию и знанию языка разобраться в технической документации. Тут-то и подвернулся ему отвоевавший войну тихий светловолосый солдат.
С фрау Гунст инженер-майор познакомился вскоре после прибытия в город. Он случайно проходил мимо ее домика, когда перепуганная немка выбежала на улицу с мольбой о помощи. Фрау Гунст схватила его за рукав, щумно объясняя (она помогала себе жестами, но инженер-майор, на ее счастье, знал немецкий), что сама вынуждена была уже уступать требованиям победителей, теперь же дело дошло до ее дочери, совсем девочки: «Господин офицер, ей в марте только исполнилось шестнадцать!» Инженер-майор Архангельский, горбоносый и смуглый, похожий на казака, хотя был исконним петербуржцем, вбежал в дом, где, взамен ожидаемого кошмара, застал весьма мирную сцену: в гостиной на диване, боясь шевельнуться, лежала с задранной юбкой худая белобрысая девчонка, а рядом лицом вниз сладко храпел вполне одетый и даже не сбросивший автомата пьяный сержант.
Инженер-майор растолкал и выпроводил несостоявшегося насильника, а затем, бегло осмотрев владения фрау Гунст, объявил, что, наверно, лучше всего сумеет защитить ее от дальнейших притязаний, если сам поселится здесь.
Фрау Гунст, несмотря на перенесенные лишения военного времени, сохранила миловидность лица и округлость форм. Отношения с ней инженер-майора оставались тайной, впрочем, нисколько Ребе не интересовали. Душой его владела девушка, дочка, – она виделась ему совершенством, даже внешне, хотя трудно было не заметить ее, пожалуй, несколько долгий нос и мелкие зубки. С той ночи, которую Ребе провел у своей спасительницы, он по-прежнему, как и до этого, не знал женщин. Солдаты, сослуживцы, быстро разгадали это и подшучивали над ним, нахальная медсестра Валентина в банный день с хохотом звала его, громко, чтобы все слышали: «Давай с нами, с девками, мыться, мы тебя спину мылить научим!», но шутки и разговоры не задевали Ребе, будто не к нему и относились, и того менее пробуждали в нем желание отправиться вместе с другими к какой-нибудь известной свободным нравом особе и подтвердить свое мужское начало. Только с этой немецкой девушкой он в мечтах своих был мужчиной, обнимал и ласкал ее и имел от нее детей, и чувствовал себя готовым положить за нее жизнь.
Лирические стихи немецких поэтов, которые он когда-то в школе и университете, не испытывая в том охоты, принужден был выучивать наизусть и которые теперь казались ему прекрасными, ясно, от первого до последнего слова, выстраивались в его памяти, – между тем, он и слова не сказал с девушкой, кроме ежедневных гутен таг и ауфвидерзеен, да еще данке – битте (это когда он приносил что-нибудь из еды, полученное в пайке). Его кормили в ту пору хорошо, лучше, чем других солдат части, в офицерской столовой, так что от пайка у него постоянно образовывались кое-какие излишки, – но дело и не в излишках: он готов был вовсе забыть про еду и питье, скажи ему кто-нибудь, что в таком случае он сможет взять девушку за руку, коснуться щекой ее щеки.
Он иной раз по четверти часа, а то и долее, таился в кустах, жадно высматривая, как девушка, занятая своими хозяйственными заботами, движется по кухне. Движения ее – чудилось ему – были удивительны: она не воду наливала в кастрюлю и не пыль тряпкой смахивала, а танцевала какой-то завораживающий волшебный танец. Наконец, он решался, окликал девушку своим гутен таг или просто э-э – произнести ее имя (которое знал) он стеснялся, в этом чувствовалось что-то нескромное, даже интимное, а назвать принятым фрейлейн Гунст не поворачивался язык. Девушка всякий раз пугалась, услышав его оклик: она привыкла, что люди подходят к дому по дорожке, а не выпархивают откуда-то сбоку из глубины куста; к тому же после перепуга первых дней нашествия в самой возможности появления русского солдата было что-то неожиданное и страшное. А ему, признаться, нравился ее испуг, когда она, как вкопанная, замирала на мгновение в том положении, в котором застигнута была его окликом – с поднятой рукой, или склоненная к полу, или держа в руке кружку, из которой продолжала литься вода. Битте – он вынимал из мешка и быстро кидал на подоконник буханку хлеба, кусок сала или сахар в пакете (такая благотворительность, как и вообще налаживание отношений с местным населением более чем положено начальством не одобрялось) – Битте. Данке – она таким же быстрым, понимающим движением смахивала то, что он положил, с подоконника куда-то внутрь помещения – Данке. Он смотрел на ее улыбку, золотистые локоны, на тонкие белые руки, тянущиеся из рукавчиков ставшего за последние год-другой коротким платьица, улыбался: битте, битте – и снова отступал в кусты.
В те недолгие для него весенние дни, напоенные запахом сирени, электричеством майских гроз и переполнявшей душу хмельной радостью победы, ему казалось, что он познает всю полноту счастья. И потому почудилось ему, будто бежал он, распахнув руки, навстречу солнцу, навстречу девочке в платьице с короткими рукавчиками, навстречу звучащей где-то впереди чудесной музыке, – и вдруг земля разломилась под ногами, он провалился и летит в черную, холодную, бездонную глубину, когда однажды утром, войдя в отведенную ему для работы комнату, увидел за столом вместо инженер-майора Архангельского совсем другого майора, не инженера, с воспаленными глазами на странном лисьем лице, когда четверть часа спустя, без пояса, без брючного ремня, без медалей на груди и с пустыми после обыска карманами, вслушивался в то, что, горячась, толковал ему другой майор, вслушивался и ничего не понимал: какая-то вражеская разведка, агент Архангельский – всё это не имело к прожитой им жизни ни малейшего отношения. Майор, сидевший перед ним, сердился, кричал, стучал по столу ладонью, а он всё не мог постигнуть, чего от него требуют, и лишь напряженно ждал, не прорвет ли путаницу майорской речи острый осколок той давней ночи, хотя помнил, как упал прошитый автоматной очередью лейтенант Маслов и как стучала о днище кузова грузовой машины голова мертвого Билялетдинова.
2
«Нам кажется, что жизнь не удалась, если она идет не так, как нам хотелось бы», – сказал Учитель, едва они познакомились.
Он, тогда еще не Ребе (скоро станет Львом в квадрате) увидел прозрачные синие глаза, тотчас вызвавшие желание искать сравнение с небом, бороду удивительно чистой седины.
«Я хочу умереть», – сказал он.
«Если это правда, то вы счастливец. – Учитель смотрел на него с интересом. – Даже здесь, в этом аду, люди цепляются за жизнь, хотя у всех, кто оказался здесь, она сложилась, конечно же, вопреки их желанию. А вы – пожалуйста! – хотите отказаться от единственного Божьего дара. Но мгновенье прекрасно не потому, что вы готовы расстаться с жизнью. Оно прекрасно потому, что, желая умереть, вы готовы жить заново».
«Вы имеете в виду загробную жизнь», – спросил он.
«Здешнюю», – сказал Учитель.
3
...Старик перестал храпеть, и это – будто выключатель щелкнул – тотчас прервало странствие Ребе по просторам памяти и воображения. Он на всякий случай закрыл левый глаз, тот, что был со стороны Старика, правым продолжая наблюдать за тенями, движущимися по стенке шкафа; не поворачивая головы, слушал, как Старик тяжело возился, охая и кряхтя. Вот он уселся, наверно, на краю кровати, широко расставив крепкие голые ноги, звучно зевнул. Ребе лежал, не шевелясь, и старался дышать спокойно и ровно. Только бы не начал вязаться, по обыкновению, со своим Аккерманом или Аккерманами, дались они ему, – думал он.
«Ребе?» – окликнул его Старик.
«Вы же видите, я сплю», – отозвался Ребе и на всякий случай закрыл второй глаз.
«Врете, не спите. Вы никогда не спите. Я даже вас боюсь».
«Сейчас я проснусь, вызову сестру, и она даст вам таблетку».
«Перестаньте. У меня к вам вопрос».
«Я уже сто раз говорил: в городе Аккермане не был, с мадам Аккерман не знаком».
«Я о другом. Вы можете мне объяснить, отчего у меня по ночам так потеют яйца? А?
Словно машинным маслом облили».
«Об этом вы тоже сто раз спрашивали».
«Вот то-то. У вас не потеют. У Профессора тоже. Или, может быть, в меру. А у меня так прямо капает с них».
Он сполз на пол и зашлепал босыми ногами в туалет. Через минуту оттуда, будто ливень по крыше, зашумели бьющие о пластиковую занавеску душа струи воды.
Ребе открыл глаза. Охотник на шкафу надувал щеки, но рог его безмолвствовал. Ребе вспомнил, как Учитель говорил весело: многие беды человечества происходят оттого, что тираны мало спят. Наполеон, например. Или Ленин. Наш усатый владыка тоже любит варить свою кашу по ночам. А насколько меньше зла было бы в мире, если бы все они крепко, без просыпа спали, ну, хоть десять, а то и двенадцать часов в сутки...
Глава двенадцатая
1
Черт его знает, спит он, этот Ребе, или вовсе не спит? Ночи напролет лежит вот так, не шевельнувшись, на спине, со своим страшным, открытым, немигающим глазом... Сколько их всё-таки было там подследственных, в этом сволочном аккермановском деле?.. Сперва – восемь, это точно, те, кто сидел за пасхальным столом. Потом, когда начали раскалываться и называть имена, десять, двенадцать... А сверху давили – требовали еще. У генерала, начальника областного управления любимое слово: старайся. В мягких сапожках неслышно появлялся в кабинете, стоял пообок (рука по-наполеоновски – за бортом мундира), дышал коньяком и хорошим ужином. «Старайся! – кричал. – Виявляй! Без пощады виявляй! Виколачивай! Имэна пусть дает! – щеголял кавказским акцентом в подражание главному, что над столом на портрете. – Имэна!» И они старались, выявляли, выколачивали, потому что знали: одна надежда – если зачтут, что очень старался.
Старик (тогда еще вовсе не старик – добрый молодец!), конечно, тоже старался, тоже кричал, колотил кулаком по столу, по лицу сидящего перед ним человека, забывался, но страх снова перехватывал дыхание – вот этак и его распластают, как цыпленка, и положат на раскаленную сковородку, – и от страха начинал еще пуще кричать и колотить.
Когда постарались, имен набралось пятнадцать или семнадцать. Сейчас уже в точности не установишь. Но, кажется, на семнадцатом он и выбыл из игры.
Старик поднимал голову от подушки, приглядывался к остро очерченному профилю Ребе: мучительно чудилось, что в проклятом аккермановском деле именно Ребе был этим семнадцатым, его последним. Иначе почему именно Ребе, с той минуты, как встретились здесь, в Доме, так навязчиво разрушает положенный ему, Старику, на старости лет душевный покой?..
В жизни, конечно, много было всякого, о чем теперь не хотелось вспоминать, но только аккермановское дело, в котором всё перемешалось, перепуталось – правый и виноватый, охотник и дичь, угрожающий и устрашенный, – только это дело не хотело теряться в пыльной кладовке памяти, тревожило снова и снова, резало, саднило, как незажившая рана. «Постарайся, прижми-ка этому пионеру-герою яйца, чтобы язык заработал!», – командовал генерал, и он, Старик, а тогда ох какой еще добрый молодец, старался, прижимал, а генерал тут же рядом, чуть в сторонке, переступал ногами в мягких сапожках и, склонив голову набок, смотрел, как он старается, прижимает и как у заупрямившегося было подследственного начинает работать язык.
Вспоминая, Старик только понять не мог, зачем ему так хочется услышать от Ребе, что он, и правда, проходил по этому поганому аккермановскому делу. Зачем он, приступая к Ребе с допросами, всякий раз с тайным страхом и мучительной надеждой ждет, что тот вдруг изменит своей блаженной тихости, перестанет темнить со своими дурацкими вычислениями и отгонять паутинки от глаз, заорет с ненавистью: «Да, я сидел за праздничным столом у Иды (или Фиры, или Софьи – как ее?) Аккерман, макал мацу в красное вино, жевал горький лук и сладкую фаршированную рыбу, и за это ты прижимал мне своей железной коленкой яйца, и вот теперь я не сплю по ночам, слушаю, как ты дышишь, потому что от доктора Лейбница выведал, что однажды ночью ты – тик-так – и перестанешь храпеть!» Чего он хочет, вымогая из Ребе признание? Зачем стремится разрушить покой, обретенный в последние годы жизни? Но в душе жгло, и дергало, и свербило, и так хотелось, так необходимо было объяснить Ребе, что всеми стараниями и прижиманиями он, Старик, желал того Ребе или не желал, сотворял из Ребе героя и жертву, тогда как сам он со своими стараниями и прижиманиями был зерно меж двух жерновов: с какой стороны ни глянь, всех хуже, мерзее, больнее было в этом деле ему. Что хотя в оборот взяли всех этих несчастных ребе – восемь, двенадцать или семнадцать – главный удар в завершение должны были нанести по нему, по Старику, тогдашнему доброму молодцу, по таким же добрым молодцам, как он. К тому времени оставалось их в управлении не семнадцать, не двенадцать, не восемь даже, а – пересчитать на одной руке, да и из тех, что на одной руке, еще не покончив с аккермановским делом, успели изъять Когана, самого старшего и опытного.
2
А началось всё с того, что восемь человек, мужчин и женщин, собрались за столом у своей знакомой, зубного врача Иды (или Фиры, или Софьи) Аккерман, чтобы справить еврейскую пасху. Среди этих восьми находилось, само собой разумеется, доверенное лицо, составившее тотчас по окончании праздничного ужина соответствующую бумагу с подробным изложением всех событий, которых стало свидетелем: перечислены были блюда на столе, и разговоры вокруг стола, и рассказанные анекдоты, и провозглашенные тосты. В тостах и была вся механика дела, и не в тостах даже, а в одном-единственном тосте, когда все собравшиеся за столом возбужденно и радостно, как сообщало доверенное лицо, сдвинули наполненные бокалы и объявили, что желали бы в будущем году в этот самый день оказаться в Иерусалиме. Это было хорошее кое-что, как выражался в подобных случаях генерал, начальник управления: попытка бежать за рубеж тянула на высшую меру, а тут к тому же коллективная попытка, группа, сговор, а хочешь – заговор. Сочное дело, – генерал, округлив пальцы, будто держал в ладонях тяжелый зрелый плод, яблоко, например, еще лучше – персик. Страна уже разобралась с космополитами, в Москве взяли членов Еврейского антифашистского комитета, прикрыли еврейское издательство, газету – и палец не надо было слюнявить и поднимать, чтобы понять, куда ветер дует.
Аккермановское дело отдали им троим, всем, кто еще оставался на одной руке, – Когану, Фрумкину и ему, Старику. Точнее сказать, Коган, умница, стратег, и обернул эту бодягу с анекдотами и фаршированной рыбой, тянувшую школьным сроком за трепотню, в настоящее большое дело. В сочное дело.
Первым номером Коган притянул самого своего сотрудника, информатора, и заставил донос переделать на явку с повинной: тут появилась и группа, и разработка планов бегства, и руководитель – эта самая Ида Аккерман, зубной врач и агент иностранных разведок. Генералу хотелось поначалу видеть во главе заговора мужчину (кавказские понятия), но Коган, стратег, кивнул на Голду Меир и еще кое на кого из наших, на самом верху, – получалось, что баба даже как-то больше подходит к моменту. Участники пасхального ужина у госпожи Аккерман, под который была замаскирована тайная сходка, раскалывались быстро: действовали физические методы воздействия и угрозы по адресу членов семьи, некоторые же, и того более, будто не понимая, что накликают на себя, с какой-то странной готовностью и даже ответственностью включались в шахматную партию, которую принуждали их играть.
Месяца через полтора после начала работы исчез Коган. Кто приказал, что шьют, даже где находится – неизвестно. Генерал, как ни в чем не бывало, неслышно прохаживался в своих сапожках, тоже, между прочим, стратег, лишнего не скажет, а если обронит словцо, то, будьте уверены, не случайно. И вот из таких-то крох оброненных стало выявляться как нечто вроде бы само собой разумеющееся, что место Когану, похоже, выявляется в том самом аккермановском деле, которое по его же проекту аккуратно, как гнездо ласточки, лепили в управлении. Они остались на этом деле вдвоем с Фрумкиным, и оба понимали, да что там понимали – потрохами чувствовали, что обречены, и оба очень старались в надежде на чудо, и поневоле состязались один с другим, утверждая себя в добром мнении начальства, отвоевывая один у другого лишний пятачок в пространстве времени, которое было отпущено, и опасались один другого, и когда генерал как бы невзначай спросил у Старика, не нужна ли ему помощь, Старик, хоть тотчас и смекнул, что такой же вопрос генерал задал Фрумкину, понял так же, что этого вопроса они с Фрумкиным друг другу не простят.
Семнадцатый в деле, его последний, и появился в тот последний день, точнее – в ту последнюю ночь, которую он, Старик, провел в угрюмом и уже ощущаемом не столько привычным, сколько враждебном и опасном здании управления. Он уже не помнил лица семнадцатого, помнилась только плешивая узкая голова со впалыми висками и удивившая привычка будто муху от глаз отгонять, точь-в-точь как у Ребе. Старик забыл также фамилию семнадцатого, в самом деле забыл, не придуривался (позабудешь, если со всего маху огреют тебя по башке обрезком железной трубы!), помнил, однако, что тот был учителем математики – потому помнил, что генерал, когда привели семнадцатого, сказал весело: «Этот Пифагор, если постараться, может очень интересную теорему доказать». Но семнадцатый, как ни старались, бормотал что-то ненужное и отмахивался. Генерал молча прохаживался в своих сапожках за спиной Старика, и Старику, отлично постигшему признаки начальственного неудовольствия, казалось, будто позади него раскачивается огромный черный маятник и острым концом туда-сюда чертит линии на его спине. «Тебе, наверно, отдохнуть пора, – генерал зевнул, будто разговор затянулся (а всего каких-нибудь полчаса прошло), дохнул на Старика коньяком. – Отдай его Фрумкину. Пусть Фрумкин постарается». Неслышно ступая, вышел из комнаты. Ну всё, – понял Старик. – Хана!..
3
Старик сел на кровати, свесил ноги, потер колени. Ребе лежал на спине, сложив на груди руки, неподвижно, как покойник. Спит или не спит, – приглядывался Старик. – Черт его знает, у него никогда не поймешь. Открытый глаз Ребе неприятно поблескивал в темноте. «Вы спите?» – спросил Старик. Ребе не отозвался, конечно. «Я же знаю, что не спите». Ребе молчал, но вот, будто против воли, поднял руку, провел перед лицом ладонью. «Я же говорю, не спите. А?.. Вы слышите? Пусть не Аккерман. А человека по фамилии Фрумкин вам приходилось встречать?» Ребе хотел было пригрозить, что вызовет дежурную, но, чтобы не затевать разговора, промолчал, с шумом выпустил набранный в легкие воздух, потянул козырек фуражки пониже на лоб. «Вы только скажите, да или нет, что вам стоит. Фрумкин? Такая обыкновенная фамилия: Фрумкин, – попросил Старик. – Да или нет?»
Пойти, что ли, в туалете от него запереться, – подумал Ребе. – Не станет же он ночью колотить кулаком в дверь.
Но в этот момент поступил сигнал.
Ребе сначала даже не поверил: в такое время, среди ночи, сигналы поступали крайне редко. Может быть, это охотник на шкафу затрубил в свой рог? Но месяц уже проплыл мимо окна, и одинокая фигура охотника немо чернела в темноте. Он между тем ясно чувствовал поступление сигнала. Он понял, что происходит нечто чрезвычайное. Всё в нем напряглось, как в древесной почке, прежде чем лопнет кожура и, расправляясь, вырвется наружу зеленый листок. Он стал ловить направление. Но будто какая-то аппаратура в нем разладилась: едва ли не впервые он не в силах был усвоить задачу. Волны метались, кружили по комнате, не желали расправляться в линии, слепили яркими всполохами и ослепляли его. Он вспомнил, как они с Игнатием Горбылем, был у него такой кореш, однажды захвачены были в поле сильнейшей грозой. Поле казалось котлом, накрытым темной тяжелой крышкой, – этой крышкой было небо, желтые молнии с оглушительным грохотом ломали его на куски. Молнии крушили небесное тело прямо над ними. Старый дуб развалился под ударом невидимого гиганта дровосека. И с каждой вспышкой они с Горбылем пригибались и вжимали голову в плечи, и ждали, что следующая молния ударит точно, не промахнется. «Тут мужик, как в очко, – между двумя ударами грома крикнул Горбыль, утирая мокрое лицо. – Либо ты, либо я...» Либо ты, либо я, – подумал Ребе. – И вдруг ему совершенно ясно сделалось, что всю набранную энергию он должен – таков сигнал – не думая о дальних маршрутах, немедленно передать Старику. Такого быть не может, пробовал он сопротивляться, уже чувствуя, что решение принято, но не желая поддаваться. И тут он увидел Учителя. Учитель появился откуда-то из-за деревьев, прямые стволы сосен были как протянутые в небо медные струны. С раскрасневшихся щек Учителя стекала седина бороды. Его влажные синие глаза смеялись. «Вспомните Иону пророка. Как отбивался он от воли Того, кто призвал его (Учитель всегда говорил о Боге – Тот). Как не хотел облегчить участь грешной Ниневии. Но Тот укорил его: Мне ли не пожалеть не умеющих отличить правой руки от левой?..»
4
Тяжелая дверь управления вытолкнула его на улицу. Быстрым уверенным шагом, будто по делу, чтобы, если генерал, или Фрумкин, или другой кто-нибудь смотрит из окна, видел его уверенность, этот деловой шаг, он пересек улицу, по другой стороне (чтобы видели, если смотрят) отмаршировал до угла, свернул и только тут, за углом, сперва обернувшись (никого!), взглянул на часы.
Был второй час ночи. Домой идти не хотелось. Ему никогда не хотелось идти домой. Ему нечего делать было дома. Жену он не любил. Он был уверен, что никогда не любил ее. Может быть, поначалу увлекся немного, но первых же недель совместной жизни оказалось достаточно, чтобы осознать свою ошибку. Он не понимал, как случилось такое, что эта скучная, с юных лет высохшая душой и телом особа в пору ухаживания и жениховства чудилась ему полной жизни девушкой, к тому же начитанной интересной собеседницей. После свадьбы он понял: в ту сладкую пору ее оживляла надежда выйти замуж, на что она, наверно, и не рассчитывала (слишком мало женихов осталось после войны в России), а основой ее начитанности был журнал «Огонек», получив который в выходной день, она потом всю неделю тщательно штудировала от фотографии на обложке до кроссворда на последней странице. В постели она тоже была неинтересна – холодна и безучастна, и то, что он, здоровый мужик, не мог победить ее безразличия, тоже отвращало его. Садясь обедать, он раздраженно перекидывал развернутый номер «Огонька» со стола на диван, а после обеда, прилегая покурить и поразмышлять на досуге, снова возвращал журнал на стол, стараясь при этом не спутать открытую страницу: жена в таких случаях начинала ворчать, точно «Огонек» какой-нибудь тысячестраничный фолиант и найти в нем то место, которое читал час назад, составляет неимоверный труд. Впрочем, по-семейному сидели они за трапезой крайне редко: обедал он обычно на службе, задерживался там далеко за полночь, нередко до утра, не раз бывало, возвращался домой, когда она уже собиралась на работу, в свою контору – он валил ее на кровать, она сопротивлялась: ей не хотелось потом снова одеваться, причесываться, красить губы; они соединялись коротко и раздраженно.
Детей у них не получалось. Он винил в этом ее холодность, она же вычитала в своем «Огоньке», что причиной мужского бесплодия является перенесенная в юности венерическая болезнь, и подозревала его в этом. Он знал, что она его не любит, но разойтись они не могли: это тотчас сказалось бы на его служебном положении. Однажды он вычитал где-то словесный оборот – скованные цепью, и теперь этот оборот постоянно возникал в его памяти, когда он думал о себе и о ней. Светлые, то ли сероватые, то ли голубоватые глаза жены с годами казались ему всё более блеклыми, почти бесцветными, как и ее белокурые волосы, пересушенные перманентом.
…Он постоял несколько минут за углом. На темной улице никого не было. Он знал, что пойдет к Татьяне, в такую ночь ему некуда было больше пойти, но он, по привычке, медлил, озирался и просчитывал. Татьяна была его тайна, его опора и, кажется, единственная на этой земле его любовь; ему даже подумать было страшно, что тó, что происходило между ними, может быть разрушено, осквернено чуждым взглядом и словом.
5
Они познакомились полтора года назад в электричке. Он возвращался с выданного ему на службе садового участка, где, имея возможность для того лишь в редкие дни, с медлительностью, уже у него самого вызывавшей смех, пытался возвести небольшое, пригодное для жизни и ночлега строение. Был воскресный вечер. В вагоне было тесно. Напротив него, почти упираясь коленями в его колени, сидела женщина, может быть, чуть постарше его, если еще не под сорок, то прилично за тридцать, он поначалу и не приглядывался к ней: протиснулся, высмотрев свободное место, повозился, устраиваясь,
кое-как вытянул из кармана газету, уткнулся глазами в тесные, липнущие одна к другой строчки. Она первая его окликнула: «Приедешь домой, вели жене штаны зашить». (Приметила порванные на колене рабочие брюки – зацепился о гвоздь, а иголку с ниткой с собой не захватил.) «Мужик видный, а штаны рваные». Это мужик видный ему польстило. Он поднял голову: загорелое скуластое лицо, косынка, красные ягодки сережек... Таких на любой стройке считать не пересчитать. Вот хоть высунись из окна электрички тут, там вдоль по насыпи бабы машут кувалдами, таскают тяжелые шпалы – тотчас ухватишь взглядом такую же точно. Она смотрела на него и улыбалась, широко, весело. «А если жены нет? – принял он шутку. – Может, ты зашьешь?» В глазах у нее что-то темнело, перемещалось, появлялось и исчезало, как в глубине желтоватой, тронутой рябью воды, когда смотришь с моста в небыструю речку. «Ишь, какой смелый! – она улыбалась и приглядывалась к нему будто испытующе. – А если что пришью?» Сидевшая рядом с ней женщина в брезентовой робе (после выяснилось, что не с ней ехала, – незнакомая) громко засмеялась. «Ну, разве что меня к себе пришьешь, – повернул он по-своему. – Я согласен». Она вдруг перестала улыбаться. «Ладно. До города доедем, видно будет». Он почувствовал, что лицо у него покраснело, что голос сорвется, если он заговорит. Уткнул глаза в газету и молчал до самого города (благо, недолго оставалось), не сползая взглядом с первой подвернувшейся строчки: что определяет задачи нашей станкоинструментальной промышленности. Когда поезд остановился, все заторопились выходить, вышла и женщина в робе, а эта, выудив из-под скамейки кошелку с каким-то барахлом, всё сидела, пока он, помешкав, растерянный, как подросток, не поднялся с места. Тогда встала и она, поймала жесткой ладонью его руку: «Ну, что? Пойдем, что ли?»
6
Он никогда никому не доверял, а ей как-то сразу доверился. Пугался иной раз: как же это он так распустился; кто-кто, уж он-то знал, что доверять нельзя никому, что каждый, и тот, о ком никак не предполагаешь (такой раньше иных прочих), может, волею или неволею, предать тебя, что жизнь есть система расставленных капканов, и каждый в ней, опять же волею или неволею, охотник и заяц одновременно. Порой, захлестнутый страхом, он начинал размышлять, как бы ему осторожно, «по-хорошему» отвалить от Татьяны, и всякий раз, размышляя о том, не то что умом – сердцем, всем существом своим сознавал, что по своей воле не откажется от нее, что, если было и есть в его жизни хорошее, о чем думать радостно, то всё это радостное сосредоточилось в скуластой женщине с жесткими ладонями, сокровенные прикосновения которых бывали подчас особенно, до нетерпимости острыми.
Мысли о Татьяне пробуждали, иногда в самую неподходящую минуту, его мужскую силу; но это не была тяжелая, грубая, даже насмешливая страсть, к которой он привык. Оставаясь с Татьяной, он не испытывал жестокого желания подчинить ее себе, тем более унизить, как прежде бывало у него с женщинами, – когда он был с ней, ему хотелось угадывать самые заветные ее желания, приноровляться к каждому едва уловимому ее движению, во всем подчиняться ей. С ней он впервые изведал ни с чем не сравнимую прелесть нежности не в женщине – в себе: подчас взять ее руку и поцеловать теплую, чуть влажную жесткую ладонь ощущалось им такой близостью, которой уступала самая полная близость с другой женщиной.
Он вспоминал потом (тогда об этом не задумывался), что, когда оставался с Татьяной, сам акт телесной близости не был столь продолжительным, не занимал всё или почти всё отпущенное время свидания, как происходило у него прежде (и потом) с другими женщинами. Разговор за чаем с мирабелевым вареньем (Татьяна не отпускала его, не напоив чаем) оказывался для него не менее желанной близостью, чем телесное соединение. И это было тоже открытием, чем-то новым – радостным и привлекательным.
Трудно устроив свое большое тело на табурете за крошечным столом, приткнутом в углу Татьяниной каморки, он зачерпывал ложечкой из стеклянной банки приятно кислые желтые шарики и с незнаемым дотоле одушевлением рассказывал сидящей напротив женщине о своей жизни. Никогда еще не было рядом с ним человека, которому он хотел бы рассказывать о себе. Это была выучка – жить за семью печатями, жить как бы зеркалом, отражающим, но непроницаемым. Он и вспоминать не любил: вспоминая, он на каждом шагу наталкивался на нечто, о чем вспоминать не хотелось, – теперь, возле Татьяны, он почувствовал манящее очарование прошлого, накопившегося в его тогдашние тридцать с небольшим. Татьяна будто сорвала запретные печати, и он щедро водил ее по дорогам и тропкам того мира, который успел создать за прожитые годы в своей памяти и воображении. Приукрашал, хвастал, привирал, конечно, но и не щадил себя, сокрушенно вытягивал из тайников заветное, что заталкивал прежде в самые дальние и темные углы, – с Татьяной он, тоже впервые, узнавал радость покаяния. И когда она, обрывая его исповедь, прижимала к его губам свою ладонь, это было словно отпущение грехов.








