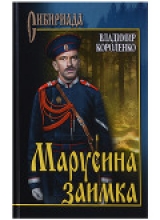
Текст книги "Марусина заимка"
Автор книги: Владимир Короленко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
– Как же зря, – сказал я, чувствуя, что почва у нас начинает ускользать. – Ведь человек замерзнет... Надо помочь.
– Как поможешь?.. Ежели бог сохранит, придет, дальше свезем... Почто, Тимофей, не подобрал его? – обратился он опять к нашему ямщику.
– Где посадил бы я? Сани махоньки, сам околел...
– Верно и то... Трое ехали... Что ж теперь делать? Теплина была, так, может, господь упасет...
– Постойте, – крикнул я с тоской. – Нельзя же этак... Ведь в эту минуту, может быть, человек умирает... Слышите, что делается...
На мгновение водворилась тишина, – и опять со двора слышны были удары, точно кто размеренно и с промежутками толок что-то в ступе. И по временам воображение примешивало к этому стоны... Это доносился, вероятно, звенящий гул лесных верхушек или, может быть, на реке трескался лед.
В избе послышались вздохи. Тем не менее, дверь открывалась. Ямщики начинали понемногу выходить.
– Спаси господи! – прошептал кто-то, и чей-то другой голос прибавил резко:
– Сами тоже стынем... Зима не пройдет, чтобы на ближних станках не застыл человек, а то двое. Перегон у нас лютый!
– Третий год – Федька в этом же лесу застыл.
– В прошлом годе баба с мальчонком.
– А у меня мнук не застыл, что ли? – злобно выкрикнул в толпе какой-то старик.
– Этому ветру почта не ходит, – опять сказал наш ямщик.
Двери скрипнули еще и еще... Народу убывало.
– Постойте, – сказал я в отчаянии. – Возьмите деньги, что ли! Десять рублей, – кто согласится поехать со мною...
В это время мой взгляд упал на лицо Игнатовича, безмолвно сидевшего на скамье у стола с совершенно помертвевшим лицом, и мне стало вдруг как-то жутко. Голос мой сорвался...
Помню, что в эту минуту староста с внезапным участием взглянул мне в лицо и сделал движение...
– Двадцать, тридцать, все, что у нас есть! – сказал я, почти задыхаясь от волнения...
– Стойте, – крикнул староста своим грубо-решительным голосом, от которого толпа ямщиков сразу остановилась. – Никто не уходите! Слышите, люди деньги дают, а и без денег все одно надо бы. Верно, что грех!.. Надо бога вспомнить! Ну, чья очередь? Говорите, старики!..
Толпа отхлынула от порога к середине избы... Староста стоял рядом со мною, и я теперь не сводил с него глаз. Это был мужик средних лет, рослый, смуглый, с грубыми, но приятными чертами лица и глубокими черными глазами. В них виднелась решительность и как будто забота.
– Эх, господин, – сказал он мне сурово, когда среди ямщиков начался тот говор, которым открывается обыкновенно обсуждение мирского дела на сходе. – Совесть у тебя есть, а ума мало... Без денег-то бы, пожалуй, лучше было... Я уж хотел объявить наряд... Теперь пойдет склёка.
И действительно, началась мучительная "склёка". Вы знаете, – эти ленские ямщики составляют своеобразные ямские общины, обломок прошлых веков. Земли у них нет, в состоят они на жалованье. "Пара лошадей" составляет основание подушной раскладки, "душа" равняется части лошади, которой соответствует часть жалованья. Все доходы станка и все повинности приурочены к этому основанию... Теперь мои деньги вступали в эту раскладочную машину, и притом деньги экстренные. Предстояло разверстать их на мир, а мир должен был выставить очередных.
Поднялись споры... Прогонная плата, части лошадей, старые счеты, очереди, возка дров, прогон почты, провоз заседателей и исправников, сироты, кормежка арестантов – все это теперь выступило на сцену и обсуждалось горячо и всесторонне. Я несколько раз пытался остановить эти споры тоскливым напоминанием о том, что человек в это время может погибнуть, но ближайший ямщик сказал мне с серьезной непреклонностью:
– Ничего не поделаешь, не мешай! Дело мирское... помешаешь, хуже...
Споры продолжались. Решение все еще не выяснялось... Снаружи несся все тот же зловещий гул...
Наконец вмешался староста, которому как будто сообщалось мое нетерпение. Он лучше меня, конечно, знал ту разверсточную машину, которая так шумно действовала перед нашими глазами, и видел, что пока она сделает точно и справедливо свое дело, – пройдет еще немало времени... И вот он выступил вперед, одним окриком остановил шум, потом повернулся к иконе и перекрестился широким крестом. Кое-где в толпе руки тоже поднялись инстинктивно для креста... Тревожная ночь производила свое действие на грубые нервы...
– Братцы, – сказал он. – Нельзя эдак-ту... Видит бог, святая владычица... Я отказываюсь. Не надо мне денег... Я еду, не в зачет, без очереди... Когда господь ежели поможет, – оставьте свои деньги, господин... Свечку, когда что, поставите...
В толпе водворилось молчание, и через минуту один из станочников, еще недавно много споривший и горячившийся из-за какой-то неочередной "выти", – первый сказал с спокойным сочувствием:
– Ну, помоги тебе господи... Ежели охотой...
– Дело твое...
– Не в зачет, – твоя воля... И то сказать: душа дороже денег... Тут и сам застынешь...
– Ишь ведь сиверко... Господи помилуй... Верно, – почта не пойдет... Ну их, и с деньгами. Своя душа дороже...
– Помоги тебе владычица, Софрон Семеныч.
Я с безотчетным облегчением взглянул в ту сторону, где сидел Игнатович... Мне казалось, что в великодушном предложении старосты и в том, как оно было принято, – есть что-то разрешающее и как бы оправдывающее также и нас... Но Игнатовича на этом месте уже не было.
Вскоре изба очистилась. Остались только хозяин, несколько замешкавшихся ямщиков и я. Игнатовича нигде не было видно. Ямщики говорили, что он вышел, одевшись, еще до окончания разверстки...
У меня сжалось сердце каким-то предчувствием. Я вспомнил его бледное лицо во время переговоров. Вначале на нем было обычное мизантропическое выражение, с примесью злого презрения к себе и другим. Но в последнюю минуту мне запомнилось только выражение глубокой, безнадежной печали. Это было в то время, когда я предложил деньги и среди ямщиков начались споры...
Я вышел на площадку, искал и звал его, прибавляя на всякий случай, что дело сделано и что я скоро еду за человеком в лесу... Но ответа не было, в окнах встревоженного станка гасли огни, ветер тянул по-прежнему; по временам трещали стены станочных мазанок и издалека доносился стонущий звук лопающегося льда.
– Товарища кличешь? – спросил меня проходивший мимо ямщик. – Да он, чай, ушел спать в другую избу... Беспокойно было у вас. Может, попросился к шабрам.
В это время к избе подъехали широкие розвальни, запряженные парой лошадей, и староста, весь закутанный в меха, в огромных рукавицах, соскочил с них и подошел ко мне.
– Что такое? – спросил он. – Что еще?
– Скорей, скорей, ради бога, – сказал я, охваченный нервным ознобом. У меня возникла внезапная уверенность, что я найду Игнатовича по дороге.
– Ну, нет, – сказал он. – Погоди, барин, этак нельзя. Одежда у тебя не по этому ветру. На вот, я привез тебе. Одевайся.
И он настоял, чтобы я оделся в его меха... Мы выехали почти уже на рассвете, захватив с собой еще кучу одежи на всякий случай...
Ветер был тяжелый и палящий. На небе светила полная луна, а внизу мчалась так называемая поземка.
Вы знаете, что это? Ветер подымал с земли сухой снег и нес нам навстречу ровно, беспрерывно, упорно... Это не метель, но хуже всякой метели... В такую погоду всякое движение останавливается; кажется, мы действительно кой-чем рисковали в это утро. Мне потом отрезали два пальца...
– Нашли вы этого человека? – спросил я нетерпеливо, видя, что Сокольский опять остановился.
– Нашли, – ответил он как-то беззвучно... – Это было уже серым утром... Ветер стал стихать... Сел холодный туман... У него был огонь, но он давно потух. Он, вероятно, заснул... Глаза у него, впрочем, были раскрыты, и на зрачках осел иней...
– А ваш товарищ? Он действительно остался на станке?
Сокольский посмотрел на меня помутившимся и потускневшим взглядом.
– Я был глубоко убежден, что он пошел по дороге в лес, и потому всю дорогу ночью кричал и вглядывался. Староста успокаивал меня. Он, во-первых, никак не понимал, что человек может бесцельно отправиться на гибель, а во-вторых, дорога от станка была только одна и притом широкая и обставленная вехами, так что сбиться было невозможно, особенно в светлую все-таки ночь...
Когда мы поехали обратно, уложив нашу печальную находку и закутав в меха, было уже утро. Ветер стих, и мороз внезапно сдался. Потом взошло солнце. Следов нигде не было.
– Значит, вы ошиблись?
– Мы приехали на станок... Там его тоже не было...
Сокольский замолчал, и на растроганном грубоватом лице его проступило выражение глубокой нежности...
– Он был непрактичен и беспомощен, как ребенок, – сказал он. – Никогда он не умел найти дорогу... Выйдя из избы, он пошел спасать замерзающего, но... взял в другую сторону...
Рассказчик повернулся ко мне.
– Понимаете вы это? Взял сразу из станка в другую сторону и пошел все прямо. Дорога тут была такая же широкая, и скоро опять начинался лес. В этом густом лесу на следующий день еще сохранились в затишных местах следы. Они шли все прямо, не сворачивая. Прошел он удивительно много и... не отступил ни шагу, пока...
Сокольский замолчал и довольно долго смотрел в сторону.
– Надеялся ли он спасти этого незнакомого человека?.. Не думаю. Он пошел, как был, захватив, впрочем, трут и огниво, которыми едва ли даже сумел бы распорядиться. Говорю вам – совершенный ребенок. Ему, просто, стало невыносимо... И еще... Мне порой приходит в голову, что он казнил в себе подлую человеческую природу, в которой совесть может замерзнуть при понижении температуры тела на два градуса... Романтик в нем казнил материалиста...
Он опять замолк.
– Вы сказали, кажется, – подлую человеческую природу? – сказал я через некоторое время.
Он оглянулся, как будто несколько удивленный.
– Ах, да!.. Не знаю я, не знаю!.. Просто ничего не знаю. Знаю одно, что погибают часто не те, кому бы следовало, а мы, которые остаемся...
Он не досказал, махнул рукой, и все остальное время мы ехали молча, пока из-за откоса не показались дымки станка, на котором нам пришлось расстаться. Сокольский очень торопился к своей партии и уехал вперед, а мы поневоле ехали тише.
VII
Дня через два после этого, когда мы проезжали густым лесом, ямщик, молодой мальчишка, подросток, указал мне кнутовищем большой каменный крест в чаще, в стороне от дороги, и сказал:
– Человек тут застыл... двое... Крест поставил приискатель, Сокольской; может, знаете? Вчера проезжал. Гляди, его следы это...
Действительно, по глубокому снегу, освещенному продиравшимися сквозь чащу лучами солнца, ясно виднелись чьи-то крупные следы от дороги к кресту и обратно.
– Никогда мимо не проедет, – сказал опять ямщик, повернувшись на облучке и улыбаясь. – Всегда вылезет. Постоит-постоит, опять садится. Креститься не крестится, а, видно, молится... Когда и заплачет... Чудак, а барин хороший.
И, хлестнув лошадь, он прибавил задумчиво:
– Видно, приятели были...
«Государевы ямщики»
I. СТАНОЧНИКИ
Осенью 188.. года мне с двумя товарищами пришлось совершить по Лене путь от Якутска до Иркутска, что составляет приблизительно около трех тысяч верст.
Наше положение давало нам право на "тройку обывательских лошадей с провожатым" бесплатно. Но перед отъездом мы имели несчастие повздорить несколько с местной властью. Исправник, "из хохлов", человек в высшей степени флегматичный и ленивый, не стал с нами спорить или изобретать способы мщения. Он только нашел, что выданная нам бумага составлена неправильно, и выдал другую. В этой последней было все то же, что и в первой, за небольшим исключением: как и в первой, в ней было сказано, что мы имеем право "следовать от станка до станка" и даже с провожатым, но о лошадях не было упомянуто ни слова.
Впоследствии мы узнали, что такими загадочными бумагами якутская полиция снабжала иногда в виде особого одолжения проторговавшихся или прокутившихся на летней якутской ярмарке иркутских приказчиков. Остальное предоставлялось ловкости и авторитету путников. Если они сумеют импонировать забитому и неграмотному населению, то проедут даром всю дорогу... Они будут кричать, торопить ямщиков, кое-где откупаться подачками от редких грамотеев, кое-где даже, для большей уверенности, бить старост по скулам, а ямщиков по шее. Во всяком случае, такая дружеская бумажка дает возможность сильно сократить расходы длинного и дорогого пути.
С такой же бумажкой в руках очутились и мы. Наше право на "обывательских лошадей" было неоспоримо, но, чтобы восстановить его, нам пришлось бы жаловаться и ждать. Ждать, пока жалоба и резолюция проедут те же три тысячи верст, до Иркутска и обратно, какие приходилось сделать нам... И мы решились пуститься в путь без жалобы...
Сначала дело шло гладко. Под городом споров не возникло. Далее мы ехали от станка до станка, и ямщики везли нас беспрекословно только потому, что нас к ним привозили соседи. Значит, так и нужно. Но затем, уже довольно далеко от города, на одном из станков какой-то грамотей, одетый в звериные шкуры, вчитался в наше "свидетельство" и заподозрил в нем форму знакомой "дружеской бумаги", смысл и значение которой население уже разгадало. Он стал что-то говорить ямщикам по-якутски, те робко окружили нас, топтались, молчали, поталкивали друг друга, и, наконец, задние объявили, что по этой "бумаге" нас везти не следует. Станочники, вероятно, ждали с нашей стороны вспышки и обычных проявлений авторитета, которые доказали бы им если не наше право, то степень нашего значения в мире повелевающих (грамотей на всякий случай поместился сзади всех). Но мы не имели к этому ни охоты, ни способностей. Мы просто стояли только на своем. Тогда толпа стала смелее, голоса все больше возвышались, начались шумные споры...
Положение становилось затруднительным. Мы походили на путников, отчаливших с ненадежным парусом от одного берега и рисковавших не пристать к другому. Прогоны, особенно в осеннее время, на три тысячи верст требовали несколько сот рублей. Таких денег у нас не было. Если бы где-нибудь произошла окончательная остановка, у нас не хватило бы и на обратный путь до Якутска. Год был голодный, хлеба трудно было на пустынных станках достать и за деньги, и поэтому провизию мы тоже везли с собою. Вообще, мы физически не могли уступить, если бы и хотели, и наш путь обратился в настоящую каторгу: приезжая к вечеру на станцию, усталые и озябшие, мы вместо отдыха встречали новые сомнения, возражения, упреки и споры... Они продолжались обыкновенно и утром следующего дня. Выезжали мы поздно, проезжали мало, и если была в этом хорошая сторона, то разве та, что таким образом мы имели случай ознакомиться с своеобразным бытом этих ленских станочников...
Ленские станки – это как бы сколок прошлых веков, оставленный на далекой реке в нетронутом виде периодом российских реформ, как остается зимний лед в глубоких ущельях... Это бывшие "государевы ямщики", мужики, несущие на жалованье ямскую государеву службу. Государству необходимо поддерживать сношения с отдаленным и мало населенным краем. Изредка проедет по реке чиновник или полицейский заседатель, в неделю раз проскачет почта, порой промчится эстафета или генерал-губернаторский курьер пролетит, как сорвавшийся с цепи, по-старинному понукая ямщика полновесными ударами по шее. И уже совсем редко появится купец или иной партикулярный человек, следующий по собственной надобности и, значит, платящий "прогоны", в общем составляющие совершенно ничтожную цифру...
Да еще порой в эту узкую ленскую щель с юга, от Иркутска, пригонят партию арестантов и пустят ее дальше самостоятельно вниз по реке. Начальник партии уезжает вперед, а команда с арестантами растягивается на далекое расстояние. Скрыться из этой щели некуда: направо и налево за береговыми хребтами дикая таежная пустыня, населенная лишь бродячими тунгусами. Назади – уже пройденные станки, население которых, раз накормивши арестанта (своего рода натуральная повинность), в другой раз его не примет. И партия, растягиваясь иногда на неделю, спускается от станка к станку летом в лодках, зимой на дровнях, мечтая о далеком якутском остроге, как о земле обетованной. День за днем на станки являются эти люди в серых халатах, испуганные, подавленные суровым величием этих камней и голодные. Их с проклятиями разводят по очередным избам и проклятиями же сопровождают каждый кусок подаваемого дорогого хлеба...
Наконец, порой поселенец напроказит на приисках, – тогда его снабжают "листом", и ямщики везут его до места приписки... А весной он опять спускается в лодке, чтобы через некоторое время опять катить на обывательских обратно...
В совокупности всею этого – смысл существования ленских ямщиков. Когда-то давно по реке проехали землемеры и чиновники, высматривая из лодки "места, годные для поселения", и по глазомеру определяя расстояние. Потом из разных мест России и Сибири пригнали мужиков и поселили на голых камнях. Мужики, по большей части завербованные волшебными сказками о "золотых горах", плакали и били кайлами углубления порой в сплошном камне. В ямы вставляли столбы, на столбы клали венцы и строили избы и юрты... И с тех пор они живут здесь столетия – мужики, несущие на жалованье государственную службу! Старинные "ямы" всюду давно исчезли, исчезло крепостное право во всех видах. Осталось оно только на Лене...
Выбор мест для станков, по-видимому, из "государственных видов" останавливался преимущественно на местах, совершенно неудобных для земледелия. Станочники не наделены землей, и все их существование зависит от почтовой гоньбы...
Каждые три или четыре года исправники, их помощники или заседатели проезжают по станкам и заключают с ямщиками контракты "по добровольному соглашению". Для станочников это добровольное соглашение определяется тем, что без "жалованья" они перемрут голодною смертью... Целыми станками, поголовно, они будут умирать среди этих равнодушных камней, и никому до этого не будет дела... Зато, если бы они действительно отказались, почтовая служба станет, и необходимое "воздействие центра на окраину" прекратится. В ямщики нужен мужик и только мужик Варнака-поселенца, с которым пришлось бы пробираться сам-друг этими дикими камнями и ущельями, боится начальство. Якуты и инородцы, в свою очередь, боятся начальства, и было много случаев, когда при первом же окрике или ударе грозного фельдъегеря ямщики-инородцы бросали лошадей и разбегались... Ввиду этого признано, что для правильной гоньбы идет только правильный и настоящий русский мужик, искушенный в долготерпении и понимающий начальственное обращение.
На этой почве возникают отношения в высшей степени запутанные, своеобразные, а пожалуй, и безобразные. Чиновник, отравляющийся по станкам для заключения новых контрактов, прежде всего должен обеспечить гоньбу, а затем сделать это как можно дешевле, так как этим он может отличиться и получить награду. Поэтому в тех местах, где поблизости есть пашни и покосы, которые станочники снимают у якутов или бурят, население держится крепко, и пены за пару доходят иной раз до тысячи и более рублей. Одна из таких счастливых волостей носит даже название "дворянской". Здесь мужчины ходят в приисковых, расшитых кафтанах, собольих шапках, и молодые ямщики курят привозные папиросы "Лаферм" с золотыми орлами на мундштуках. Однажды при мне такой ямщик, которому проезжий обещал на чай, если он подаст лошадей скорее, посмотрел на него равнодушным взглядом и ответил:
– Я тебе, господин, сам, пожалуй, дам на чай, – только не езди!
И это понятно, потому что редкие прогоны, разверстываемые по душам, – ничтожны сравнительно с "жалованьем" этих счастливцев.
Зато в других местах, где нет ни пашен, ни покосов, ни сторонних заработков, – цена сбивалась до трехсот и даже до двухсот шестидесяти рублей, особенно в трудные годы дороговизны хлеба и сена... Население таких обездоленных станков – наследственно угнетенное, необыкновенно печальное и явно вырождающееся. Уйти им целым обществом в переселение нельзя! Это будет уже "бунт", и начальство примет "строгие меры". Отдельных же членов своих не пустит само общество: остающиеся не желают принять от уходящего часть тяжкого бремени этой ужасной жизни.
Так и тянется забытая историей жизнь своеобразных ямщичьих общин. На каждом станке должно быть столько-то пар лошадей, по стольку-то за пару. Население разделяет "по душам" и почтовую повинность, и плату "Душа" ямщика – это такая-то доля лошади... В станках с меньшим населением эта доля будет больше, и на домохозяина придется половина лошади и даже целая... Где население более многочисленно, "душа" соответствует четверти, осьмой и т.д. части лошади... Разверстка этих лошадиных "душ" с лежащими на них повинностями и "жалованьем" чрезвычайно своеобразна и заслуживала бы внимания исследователя... Если лошадь пала, на ямщика навалят ее работу: он будет грести летом или таскать лодки лямкой... Если работник захворал или умер, – семья тоже вымирает медленной смертью, на которую полуголодные соседи глядят с испуганным состраданием, а камни и леса – с величавым стихийным равнодушием...
В общем, большинство этих забытых жизнью "государевых ямщиков" производят впечатление медленного вымирания. Они болезненны, бледны, печальны и хмуры, как эти берега. Свою родную реку они зовут "проклятою" или "гиблою щелью" и уверяют с полным убеждением, будто "начальники" (устанавливающие "добровольное соглашение") не верят в бога, отчего земля ни одного из них после смерти не принимает в свои недра. "Что губернаторы, что исправники, что заседатели, – все одно... Положат его в домовину, он так скрозь землю и пойдет, и пойдет... в самые, видно, тартарары".
И с этими-то несчастными людьми мы, хитростью нашего лукавого врага, были поставлены в положение взаимной борьбы... И теперь еще я не могу вспомнить без некоторого замирания сердца о тоске этого долгого пути и этих бесконечных споров с людьми, порой так глубоко несчастными и имевшими полное основание подозревать с нашей стороны посягательство на их даровой труд... Да, это была настоящая пытка...
II. МИКЕША
На одной из станций произошла серьезная остановка. Ямщики уперлись и, не видя с нашей стороны решительных действий, продержали нас целые сутки. К счастью, ранним утром я услышал колокольцы: кто-то проезжал на почтовых в Якутск. Пока перепрягали лошадей, я вынул свою дорожную чернильницу и бумагу и при свете камелька стал писать письмо в город, изображая наше положение. Это таинственное в глазах станочников и совершенно необычное действие произвело сильное впечатление. Ямщики входили, смотрели на меня с глубочайшим вниманием, уходили опять, и, наконец, когда письмо было готово и я собрался его заклеивать, вошел, видимо, встревоженный, староста, поклонился мне и сказал:
– Зачем писать? Не надо, пожалуйста. Повезем... Брось бумагу...
И, действительно, около полудня нам подали трех верховых лошадей. На четвертой впереди ехал хозяин-ямщик и еще сзади – вприпрыжку бежал пеший, молодой парень лет двадцати трех, придерживаясь по временам за мое стремя. Дорога на этот раз отошла от берега и пролегала тайгой; уже пожелтевшей, но еще не совсем потерявшей листву... Порой из-за верхушек деревьев мелькали вдали береговые горы и ущелья, освещенные косыми лучами осеннего солнца. Лошади бежали бойко, и, когда я нарочно сдерживал свою, чтобы не затруднять бегущего, – хозяин-ямщик оборачивался и покрикивал:
– Не отставай! Не отставай!
А пеший глубоко вдыхал воздух и прибавлял шагу.
– Ничего, ничего! Ударь!.. – говорил он и, все так же держась за стремя, продолжал бежать рядом...
Это было странное существо с очень смуглым лицом и глубокими вдумчивыми глазами. Пока я писал свое письмо, он, войдя в избу, стоял рядом, не отрывая глаз от клочка бумаги, по которой бегало мое перо, выводя непонятные для него знаки. Когда этот процесс вызвал на станке суматоху и ямщики стали входить и выходить из избы с явными признаками беспокойства, – он так же внимательно следил за ними, переводя взгляд с бумаги на лица своих земляков и обратно, как бы изучая таинственную связь, установившуюся между этим листком и их настроением. По временам на лице его мелькало что-то похожее на злорадную улыбку. Когда же наконец станок уступил, – он крякнул и вздохнул так сильно, как будто это он сам только что свалил с себя тяжелую работу. В его глазах виднелось выражение восхищения, почти восторга, как будто он присутствовал при волшебном опыте, проделанном с замечательной чистотой и результаты которого он отчасти предвидел или угадывал. Когда впоследствии ямщики подняли обычные споры из-за очереди и разверстки, – он слушал этот галдеж равнодушно и отчасти насмешливо.
При этом как-то неожиданно вышло, что разверстка запуталась. Общество находило, что везти нас было выгоднее обычных очередей. Мы не пользовались продовольствием очередного станочника и, сколько могли, платили на чай везшим нас ямщикам. Таким образом "равнение" нарушалось, очередь становилась слишком легкой, и другим казалось обидно. Очередной ямщик горячился и спорил, находя, что это уже его "фарт", но кто-то вдруг предложил исход:
– Прибавить ему Микешу, – сказал он.
– И верно, – согласились остальные.
– Куда мне его? – протестовал хозяин.
– Ничего, – побежит пешим. Назад, однако, с четверкой трудно тебе... Помогет будто...
– И верно. А ты, значит, ему за четь... Оно и выйдет вровень...
– Много...
– Чего много?.. Надо тоже и ему как-ни-набудь... хоша бы и Микеше...
Микеша слушал эти разговоры с таким равнодушием, как будто речь шла совсем не о нем. Из разговоров я понял, что его считают несколько "порченым". Хозяйство после смерти отца и матери он порешил, живет бобылем-захребетником, не хочет жениться, два раза уходил в бега, пробираясь на прииски, и употребляется обществом на случайные междуочередные работы или, как теперь, в качестве некоторого привеска, для "равнения"...
Теперь этот живой привесок общинных весов бежал рядом с нами, держась по большей части у моего стремени, так как я ехал последним. Когда мы въехали в лес, Микеша остановил меня и, вынув из-под куста небольшой узелок и ружье, привязал узелок к луке седла, а ружье вскинул себе на плечо... Мне показалось, что он делает это с какой-то осторожностью, поглядывая вперед. Узел, очевидно, он занес сюда, пока снаряжали лошадей.
Вскоре впереди, между перелесками, послышался звон колокольцев, и, растянувшись длинным караваном с переметными сумами в седлах, мимо нас пробежала встречная почта. Передовой ямщик наш проводил ее разочарованным взглядом – очевидно, он надеялся приехать на станцию раньше и заодно на обратном пути захватить часть почты на свою четверку. К одной выгодной очереди он, таким образом, присоединил бы и другую, выгодную уже для всего станка. Микеша посмотрел на его разочарованную фигуру и свистнул.
– Гляди, умные наши станочники, – сказал он с насмешкой. – Не спорились бы вчера, как раз бы поспели... Четыре лошади не гоняли бы зря...
Очевидно, неудача станочников его не касалась и будила в нем лишь некоторую ироническую наблюдательность...
– Ну-ну! Сам умнай! – со злостью ответил ему ямщик. – Обчество учить станешь... – И он хлестнул опять свою лошадь, выбираясь на дорогу...
После этого мы поехали легкой рысцой, и Микеша вздохнул свободно. Верст уже десять он пробежал, не отставая от рыси лошадей, но, видимо, это скороходное искусство, созданное привычкой с детства, не давалось ему даром. Лицо его слегка побледнело, на лбу были крупные капли пота.
Теперь он не торопясь шагал рядом, все так же держась за мое с гремя, и закидал меня вопросами. На мои расспросы о жизни ямщиков он отвечал неохотно, как будто этот предмет внушал ему отвращение. Вместо этого он сам спрашивал, откуда мы, куда едем, большой ли город Петербург, правда ли, что там по пяти домов ставят один на другой, и есть ли конец земле, и можно ли видеть царя, и как к нему дойти. При этом смуглое лицо его оставалось неподвижным, но в глазах сверкало жадное любопытство.
Эта кипучая жадность, горевшая во взгляде молодого станочника, произвела на меня странно возбуждающее действие, и я неожиданно для себя разговорился. Казалось, горы, нас окружавшие, раздвинулись, я заглянул далеко за них и почти бессознательно старался дать заглянуть туда и этому наивному станочнику. Товарищи уехали вперед, покрикивания передового ямщика смолкли, кругом нас тихо стоял лесок, весь желтый, приготовившийся к зиме, а из-за его вершин выглядывали верхушки скал, на которых угасали последние лучи дня.
Через некоторое время дорога вышла из лесу и направилась через опушку к реке. На другой стороне, казалось, совсем близко, стояли стеной скалы, изломанные, причудливые, мертвые, с трещинами, выступами, ущельями... А под ними, убегая вдаль, струилась темная река.
Зрелище было полно такой глубокой и такой красивой печали, что я невольно остановил лошадь. Микеша тоже остановился и с удивлением посмотрел на меня.
– Что стал? – спросил он.
– Хорошо очень, Микеша, – ответил я с невольным восхищением, не отрывая глаз от освещенного косыми лучами горного берега.
– Хорошо? – переспросил он все так же удивленно и прибавил с глубоким убеждением на наивно-изломанном наречии средней Лены: – Нет! Белом свете хорошо. За горами хорошо... А мы тут... зачем живем? Пеструю столбу караулим... Пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу...
Впереди из-за куста выглядывал полосатый казенный столб, полинялый и наклонившийся. Его-то, очевидно, и разумел Микеша под "пестрой столбой". В голосе его слышалось столько глубокой грусти, что мне стало вдруг не по себе, как будто я был виноват в чем-то. Зачем я только что с таким увлечением рассказывал ему о далекой стране, куда мы едем? Пройдет месяца два или три, и я буду там, в этом широком белом свете, а этот странный молодой станочник с глубокими черными глазами все равно останется здесь, у своей "пестрой столбы", среди этих красивых, но мертвых и бесплодных камней, над пустынной рекой.








