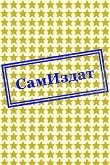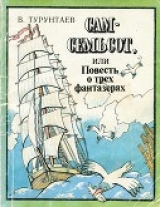
Текст книги "Сам-семьсот, или Повесть о трех фантазерах"
Автор книги: Владимир Турунтаев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Глава ПЯТНАДЦАТАЯ
в которой Андрей Константинович знакомится с искателем кладов
В директорский кабинет вошел незнакомый человек. Не слишком молодой, но и не старый. Темные, опущенные книзу усы, очки в толстой черной оправе и низко надвинутая на глаза темно-серая шляпа придавали ему хмуроватый и даже сердитый вид.
– Я – Прометеев, – представился он Андрею Константиновичу. – Направлен к вам главным агрономом.
Андрей Константинович с интересом оглядел вошедшего.
– Весьма сожалею, – сказал он, – но главный агроном у нас есть.
– Что значит – есть? – удивился Прометеев. – Вот направление. С печатью и подписью.
– Произошло какое-то недоразумение, – слегка покраснел Андрей Константинович.
Покраснел он потому, что сказал неправду. На самом деле не было никакого недоразумения. О прибытии Прометеева он узнал заблаговременно. «К вам скоро приедет один ученый, кандидат сельскохозяйственных наук, – сообщили по телефону из области и уточнили: – Сам попросился».
«Не иначе какой-то чудак!» – подумал об этом ученом Андрей Константинович и решил во что бы то ни стало от него избавиться.
Нет, Андрей Константинович ничего не имел против науки. Но ему показалось весьма странным и даже подозрительным, что ученый человек ни с того ни с сего сорвался с насиженного места и поехал работать в отдаленный совхоз главным агрономом. Такого не бывает. Все ученые, сколько знал Андрей Константинович, работают в городе. Или поблизости от города. В том числе и кандидаты сельскохозяйственных наук.
И тут как раз под руку подвернулся Евгений Николаевич.
Откровенно говоря, Евгений Николаевич тоже не находка. Мальчишка. Совсем еще мало опыта. Но малоопытного все-таки можно научить. А учить ученого – дело совершенно безнадежное. К тому же ученые – известные спорщики.
– Что же мне – обратно возвращаться? – спросил Прометеев.
Андрей Константинович развел руками:
– Рад бы, как говорится. Но все, что могу предложить, – это место управляющего отделением. Вы же не согласитесь!
Он был уверен, что Прометеев с негодованием отвергнет такое предложение и уйдет, громко хлопнув дверью. Потому что работа управляющего совхозным отделением к науке совсем уж никакого отношения не имеет. Главная забота управляющего – следить, чтобы все люди на отделении были заняты делом. Чтобы коровы вовремя доились и полевые работы велись согласно утвержденному плану. Тут надо без устали крутиться – с темна и до темна. Все видеть, везде поспевать.
– Я согласен, – коротко обронил Прометеев, приглаживая встопорщившиеся было усы.
Андрей Константинович от неожиданности даже поперхнулся:
– Э… Что?!
– Согласен, говорю, работать управляющим, – громче и отчетливей повторил Прометеев и, сняв очки, стал их протирать.
– Извините, – пошел на попятную Андрей Константинович. – Вы, должно быть, не совсем представляете…

– Прекрасно представляю, – перебил его Прометеев. – После института мне пришлось два года быть управляющим в отстающем совхозе. Уж потом, когда дела пошли на поправку, нашли мне замену и перевели главным агрономом.
– Но Клюквина!.. – Андрей Константинович зажал голову ладонями, сокрушенно помотал ею. – Деревенька без всяких перспектив. Школы и ясель нет, клуб разваливается. Люди оттуда переселяются на центральную усадьбу…
– Можно вот этот листок взять? – и не дожидаясь согласия, Прометеев подхватил с директорского стола чистый лист.
Присев к столу бочком, он написал корявой клинописью: «Прошу принять на работу управляющим Клюквинского отделения». И подписался: «Кандидат сельскохозяйственных наук Б. Прометеев».
Андрей Константинович не знал, что и делать. Очень уж не хотелось ему принимать на работу Прометеева. Чтобы выиграть время и придумать предлог для отказа, Андрей Константинович трижды прочитал заявление. Вздохнув, медленно стал выводить резолюцию: «В отдел кадров…»
– Работать там, в Клюквиной, некому, – продолжал он между тем стращать Прометеева. – А требования к управляющему предъявляем строгие: в лепешку расшибись, но чтоб вовремя было посеяно, вовремя убрано. Никаких скидок. Иначе…
– Иначе нельзя, – согласно кивнул Прометеев. «Оформить на работу», – скрепя сердце дописал Андрей Константинович. Осталось поставить внизу закорючку.
– И все-таки советовал бы вам подумать, – крепко прижимая пальцами заявление к настольному стеклу, он выжидательно смотрел на Прометеева. – А может, подождем до завтра? Утро вечера мудренее: отдохните с дороги, а завтра часиков в восемь…
(Завтра в семь утра Андрей Константинович уже будет мчаться в «уазике» на областное совещание и вернется в совхоз только на третьи сутки. Долго придется ждать Прометееву.)
– Некогда отдыхать, – поднялся Прометеев. – Весна не ждет, – и выхватил из-под руки Андрея Константиновича заявление.
– Стойте, я же еще не подписал! – крикнул тот вдогонку.
Прометеев от двери показал ему листок. Под резолюцией стояла директорская подпись-закорючка. Андрей Константинович не верил глазам: ведь он и не собирался подписывать свою резолюцию. Неужели машинально черкнул?
– Ладно, оформляйтесь, – устало махнул он рукой. – Но только признайтесь откровенно: зачем вам все это понадобилось?
– Что – «это»? – не понял Прометеев.
– Зачем вы приехали в совхоз?
– Искать клад, зачем же еще! – и Прометеев исчез за дверью.
Глава ШЕСТНАДЦАТАЯ
в которой Прометеев приступает к поискам клада
В Клюквиной он объявился через час. Оставил в конторе отделения чемодан и ушел прямиком через лес к полям.
Клюквина – деревенька лесная. Лес подходит к ней со всех сторон. Начинается он сразу за огородами. И все поля, сенокосы и пастбища – тоже в лесу. Если зайти слишком далеко, то, не зная дороги, можно и заблудиться. Или того хуже – угодить в болото. Бывали такие случаи.
Прометеев долго не возвращался. Уже вечерняя дойка на ферме началась, а его все нет. Кончилась дойка, разошлись доярки по домам, а Прометеева все нет и нет.
Уже сумерки надвинулись, когда он вышел из лесу. И сразу – на ферму. Жители Клюквиной, кто еще не спал, видели, как он вошел в первый коровник, как немного погодя тенью переметнулся во второй. А потом наступила непроглядная ночь.
Никто не видел, как Прометеев вышел из последнего, пятого коровника и направился к конторе, находившейся в другом конце деревни. Только по суматошному, заливистому собачьему лаю можно было догадаться, что по деревне идет чужой человек.
Нашарив на стене выключатель, Прометеев включил свет, достал из чемодана электронный микрокалькулятор и занялся расчетами. Множил, делил, складывал, вычитал. А потом глянул на часы и вспомнил, что сегодня еще не обедал. Достал из чемодана пачку апельсиновых вафель. Поужинав всухомятку, Прометеев постелил на скамейке пальто, разулся и тотчас же уснул сном праведника.
Утром чуть свет в контору заглянул тракторист Иван Алексеич Махнев, Ромкин отец. Надо было ему позвонить в МТМ насчет нового масляного насоса для трактора. Отворив дверь, он увидел спящего на скамейке управляющего. Кирзовые сапоги стояли как на часах – пятки вместе, носки врозь.
Пока Иван Алексеич дозванивался до МТМ, управляющий открыл глаза, рывком поднялся и сунул ноги в сапоги.
– Ты чего это по лесу столько времени шастал? – спросил у него Иван Алексеич.
– Клад искал, – протирая очки, улыбнулся Прометеев.
– Ну, положим, – принял шутку Иван Алексеич. – А в коровнике ночью чего делал?
– Тоже клад искал, – Прометеев надел очки и в свою очередь спросил: – Не подскажете, у кого тут можно снять комнату?
– Пошли, – кивком показал Иван Алексеич на дверь. – Сперва позавтракаем, а потом что-нибудь придумаем.
Придумывать ничего не понадобилось, потому что старший сын Ивана Алексеича в прошлом году ушел служить в армию и его с Ромкой комната все равно наполовину пустовала.
Вот так и случилось, что Прометеев стал жить у Махневых.
Глава СЕМНАДЦАТАЯ
в которой Ромка не нахвалится Прометеевым
Он прибежал в школу как угорелый. Швырнув в парту портфель, шумно, ликующе возгласил:
– Ура, победа!
Слава покрутил пальцем у виска:
– Совсем уже?
Не обращая внимания на насмешливый тон приятеля, Ромка стал рассказывать о последних событиях, случившихся в доме Махневых: – Я тебе говорил, что у тлей крылышки выросли? Ну так вот. Вчера я показал перец Борису Васильичу, а он сразу: «У вас на веранде, я видел, помидорная рассада в ящиках растет. Отнеси туда же и свой перец». Я спрашиваю: «А зачем?» А он: «Неси, неси, не разговаривай!» Ну я и отнес. Потом гляжу – все тли перелетели на помидорную рассаду. Ух, я даже испугался. Говорю Борису Васильичу: «Теперь она, что же, на помидорах расплодится? И помидоров, говорю, у нас не будет». А Борис Васильич как рассмеется! «Это, говорит, ее последний перелет. Больше, говорит, она никуда летать не будет».
– Ну и что? Не съела еще помидоры? – спросил Слава.
– Съела?!. Как бы не так! – с торжеством выпалил Ромка, словно ждал такого вопроса. – Утром сегодня гляжу – висят мои букашки на помидорных ворсинках и не шевелятся!
– Может, опять оживут?
– Нет, теперь все!.. Хана им. А у мамы два года подряд астры гибнут… Забыл, как болезнь называется. Тоже все средства перепробовала. А Борис Васильич говорит: «Вы их посадите вместе с петуньями – не будут болеть». Здорово, правда?
– А про твои арбузы он что сказал?
– Удивился! Вот это, говорит, для меня новость, чтоб в нашем климате арбузы и дыни росли. Посоветовал все наблюдения обязательно записывать в дневник. Вот!
– Ну и подумаешь! – сказал Слава.
Глава ВОСЕМНАДЦАТАЯ
в которой станет ясно, что такое «сам-семьсот»
Прометеев с Иваном Алексеичем сидели за столом, приготовившись ужинать. В тарелках рдели соленые помидорчики, золотилась квашеная капуста, стояла запотевшая пузатая кринка с молоком. Из кухни доносился запах печеного теста.
– Поделился бы секретом, – шутливо подмигнул Прометееву Иван Алексеич. – Что за клад такой в наших коровниках запрятан. Очень любопытно было бы узнать.
Ромка навострил уши, услыхав про клад. Оказалось, что новый управляющий имел в виду самое обыкновенное молоко.
– Сколько вы надаиваете его в год от своих коров? – спросил он у Ромкиного отца и сам же ответил: – Семьсот тонн. А сколько стоят эти семьсот тонн, если взять по закупочной цене? Триста тысяч рублей, почти треть миллиона!
– И что с того? – не сразу понял Иван Алексеич.
– Да как это «что»? – удивился его непонятливости Прометеев. – Если наши коровы, – он так и сказал «наши», – если наши коровы станут давать молока в два раза больше, то еще триста тысяч как с неба свалятся. Это тебе не клад?
– Ишь ты! – усмехнулся Иван Алексеич, поддевая вилкой капусту. – И за сколько же лет мы достигнем таких удоев?
– Если хорошо поработать, то и года не пройдет, – с серьезным видом ответил Борис Васильич. – Чего тянуть-то?
– Ну ты и шустрый, однако! – хохотнул Иван Алексеич. – Года не пройдет… Не говори больше никому этого – засмеют!
– Ничего смешного не вижу! – рассердился Прометеев. – Коровы у нас на ферме породистые. Только худые больно.
– На одном силосе сидят – вот и худые! – обиделась за совхозных коров Ромкина мама Клавдия Семеновна. Она как раз ставила на стол румяные, пышущие жаром ватрушки. – Ты поешь-ка одну кислую капусту или соленые огурцы – погляжу на тебя!
Клавдия Семеновна работала на ферме дояркой и, конечно, больше других знала, отчего ее коровы дают мало молока.
Прометеев ее поддержал:
– Правильно, кормить коров надо, как полагается. Тогда и молока будет много. А силос – это не еда. Силос коровам – как нам огурчик к обеду. Кормить коров надо сеном.
– Ты нам его из города, что ль, привез? – пристыдила Прометеева Клавдия Семеновна. – Сколь вон они, наши механизаторы, его заготавливают – только-только телятам хватает. А коровушки сена и в глаза не видят!.. – махнула рукой и ушла.
– Сенокосов у нас мало, – стал оправдываться Иван Алексеич. – Да и погода: скосишь траву, а тут дождь, и сгнило сено…
– Для своей-то коровы где его берешь? – спросил Прометеев.
– А вон у меня половина огорода травами засеяна, – кивнул Иван Алексеич в сторону окна.
– И огород не так уж велик, – усмехнулся в усы Прометеев. – Я подсчитал: в Клюквиной на каждую совхозную корову приходится в двадцать раз больше земли, чем на каждую личную корову. Вот и выходит, что на ферме коровы должны кушать сена куда больше, чем твоя Ромашка. А почему-то не кушают.
– Так ты чего равняешь мой огород и совхозные поля! – загорячился Иван Алексеич. – На своем-то огороде я все успеваю – и полью, и подкормлю травушку вовремя. Не жду, когда перестоит да огрубеет, – скашиваю, пока в самом соку…
– В поле-то почему нельзя успевать? – с недоумением спросил Прометеев. – Ну не в двадцать, так хоть бы в три раза больше получать от совхозной земли, чем она сейчас дает!
– Ты что – в три раза! – изумился Иван Алексеич. – На совхозном поле? Да столько и не вырастет. В три раза! Чудак…
– Вырастет! – твердо сказал Прометеев. – Я подсчитал – еще больше вырастет, если только взяться за дело по-хозяйски.
– В три раза! – продолжал изумляться Иван Алексеич. – Да мы и тот урожай, который выращиваем, не успеваем убирать. То дожди, то техника подводит. И людей не хватает…
– Это потому, что чужим его считаете, урожай. Я который день захожу на машинный двор, а ты все ремонтируешь трактор.
– Восемь дней полагается на такой ремонт, а сегодня еще только пятый, – обиделся Иван Алексеич. – Послезавтра закончу. На день раньше срока. Я вообще всегда норму перевыполняю.
– И на своем огороде тоже? – язвительно спросил Прометеев.
Иван Алексеич посмотрел на него как на сумасшедшего:
– Какая может быть норма на своем-то огороде? Тут об одном только и думаешь – чтоб все сделать как лучше и скорее.
– Вот-вот! – закричал Прометеев. – Вот и подумаем, как лучше и быстрее все делать на совхозных полях! Представим, что совхозные поля – наш огород. И мы – хозяева…
– Ну давай! – согласился Иван Алексеич. – Представим…
И тут с ним случилось что-то непонятное. Он обеспокоенно заерзал на стуле, поглядел в окно и молвил:
– Боронить пора, а мы чего-то ждем!
– Пора, – согласился Прометеев. – Я утром объехал поля – кое-где земля уже поспела. Утром непременно надо боронить.
– Ах ты, горе какое! – сокрушенно хлопнул себя по коленям Иван Алексеич. – Трактор у меня не на ходу! Как же это я… – И засобирался: – Пока светло, хоть двигатель опробую. А остальное – завтра. Да ты не сомневайся, Васильич, – успокоил он Прометеева. – В девять утра как штык в поле буду…

Прометеев кивнул. Как ни в чем не бывало. Словно все так и должно быть. А когда Иван Алексеич, надевая на ходу спецовку, убежал на машинный двор, Прометеев подмигнул Ромке:
– Твой папка не верит, что наша земля может в три раза больше давать. Это еще что! А ты про урожай сам-семьсот не слыхал? Когда из одного зернышка вырастает семьсот зерен…
– Такого не бывает! – усомнился Ромка.
– Если верить преданиям, такие урожаи в древние времена получали армянские крестьяне. Без тракторов и комбайнов: мотыгой обрабатывали землю и руками разбрасывали семена!
– Это, наверное, сказка, – вздохнул Ромка.
– Может, и сказка, – не стал возражать Борис Васильевич. – Но один человек, живший в шестнадцатом веке, рассказал, какой хлеб он видел под Витебском, в Белоруссии. Этот хлеб, по его словам, был подобен лесу: всадник на коне въедет и скроется с головой – даже шапки не видно!..
– Обма-анываете! – Ромка так и разинул рот.
– Ну а великому Ломоносову ты поверил бы? – спросил Прометеев. – В одном очень серьезном журнале есть свидетельство…
Ломоносову Ромка, ясно, не мог не поверить. Тем более, что Борис Васильевич пересказал это свидетельство слово в слово:
– «В здешнем императорском саду, что у Летнего дворца, старший садовник Эклебен прошлого года…» – Двести с лишним лет тому назад, – уточнил Прометеев, – «…сеял пшеницу и рожь на пробу искусства своего в размножении разного севу. Сие тем ему удалось, что почти всякое зерно взошло многочисленными колосами, наподобие кустов. В одном из оных, из единого посеянного зерна, вышло 2375 зерен. В другом кусте начтено 47 колосов спелых да 12 неспелых, из коих один колос состоял из 62 зерен, а всех в целом кусту было 2523…»
– Вот это да! – воскликнул Ромка. – Нам бы столько вырастить! А почему только в старые времена получали так много зерен? Разве сейчас нельзя получить столько?
– Видишь ли, – сказал Прометеев, – чтобы столько получить, надо знать, как сеяли такой хлеб древние хлебопашцы. Кое-какие сведения до нас дошли. Но далеко не все. У древних хлебопашцев были свои секреты. Известно, например, что озимую рожь для такого богатырского урожая они сеяли не под зиму, как это делается обычно, а с весны. Да еще вместе с ячменем, смешивая семена и обрабатывая их особым образом. А вот как и чем обрабатывали – этого никто сейчас не знает…
– А если не обрабатывать семена – совсем ничего не вырастет? – спросил Ромка.
– Почему не вырастет? – улыбнулся Прометеев. – Какой-то урожай непременно будет. Осенью ячмень поспеет, а рожь уйдет под снег и на другой год тоже нальется зерном.
– А сколько будет? Сам-семьсот?
– Не думаю, – откровенно признался Прометеев. – Хотя кто знает. Да пусть не сам-семьсот, а сам-семьдесят. И обычный урожай – тоже неплохо. А что, Рома, может, проведем опыт?
Еще бы Ромка стал возражать!
Глава ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
в которой Слава доискивается истины
Андрей Константинович очень удивился, когда его сын вдруг заинтересовался урожайностью ржи.
– В прошлом году мы получили по совхозу двадцать один центнер с гектара, – сказал он. – В позапрошлом – поменьше…
– Двадцать один центнер – это сколько самов? – спросил Слава.
– Чего-чего? – еще больше удивился отец.
– Ну, так раньше говорили: урожай сам-семьсот, сам-шестьсот…
– Ах, вон что! – засмеялся отец. – Говорить-то говорили, но только не сам-семьсот и не сам-шестьсот. Таких урожаев никогда не бывало и быть не могло. Ты что-то путаешь.
– А сколько могло быть?
– Считай: если в прошлом году у нас было по двадцати одному центнеру с гектара, а семян на гектар идет три центнера…
– Сам-семь? – поразился Слава. – Так мало?
– Для наших мест – вполне приличный урожай, – сказал отец. – Хотя, конечно, это не предел.
– А Ромка говорит… Говорит, что новый их управляющий хочет посеять этой весной богатырскую рожь… Хочет получить сам-семьсот! А я ему: ерунда, говорю, на постном масле!
Андрей Константинович прихмурил брови:
– Новое дело… Управляющий? Еще и рожь собирается весной посеять? Пустой номер это – рожь отродясь под зиму сеяли. Потому и называется – озимая.
– Ну, Ромка так говорит, – замялся Слава. – Может, придумал.
Отец хмыкнул и, ничего не сказав, стал звонить по телефону.
– Евгений Николаич, – позвал он в трубку. – Что за рожь собирается сеять Прометеев? Какой-то, говорят, необыкновенный сверхурожайный сорт. Не слыхал?.. Не должны?.. Я тоже так думаю, что не должны. Но ты завтра ведь все равно поедешь в Клюквину – на всякий случай поинтересуйся…
– Фантазер ваш Прометеев, – сказала мама, когда отец повесил трубку. – Обещал завалить нас, животноводов, кормами.
– Еще какой фантазер, – согласился отец. – И надо ж было случиться, чтоб именно ко мне его нелегкая принесла! – немного помолчав, переспросил у Славы: – В журнале, говоришь, напечатано про такие урожаи?
– Так это Ромка, – пожал плечами Слава.
– Сам-семьсот!.. – хохотнул отец. – Это какими ж комбайнами такую прорву зерна убирать?
– Было бы что убирать, – шутливо заметила мама.
– А сыпать куда? – продолжал тем же тоном отец. – Ведь у нас складов не хватит.
– Было бы что сыпать! – сказала мама.
– Нет, ты только вникни: сам-семьсот! – закашлялся от смеха отец. – Да такого… кх… кх… просто… кх… кх… не может быть!.. Это как если бы мышь выросла со слона!.. кх… кх… кх!..
Глава ДВАДЦАТАЯ
в которой никто никому ничего не может доказать
Через день Ромка рассказал Славе, как они с Борисом Васильичем выбирали поле под рожь, как встретили главного агронома и как Евгений Николаевич, узнав, что задумал Борис Васильич, ужасно рассердился и запретил ему своевольничать.
– На этом поле, говорит, запланировано посеять один ячмень, – возмущался Ромка поступком главного агронома. – Борис Васильич ему: ячмень, говорит, и так будет посеян, только вместе с рожью. И рожь, говорит, нисколько не помешает, потому что за лето она высоко не поднимется. Она ведь только на другой год, после зимовки, начинает расти в высоту, а до этого только кустится. Зато она сорнякам никакого ходу не даст. Где рожь растет, там ведь сорняков не бывает. Знаешь, как ее называют? Санитаром полей! Борис Васильич для богатырской ржи специально подобрал самое сорное поле, чтобы заодно и очистить его. А Евгений Николаич говорит: как запланировано, так и надо сеять…
– Твой Борис Васильич все выдумал, – перебил Слава Ромку, – Таких урожаев, сам-семьсот, даже и быть не может! Это все равно, как если бы мышь выросла с корову!
– А вот и может быть! – непоколебимо стоял на своем Ромка.
– Почему же никто сейчас таких урожаев не получает?
– А потому, что секрет был потерян! – ответил Ромка.
– Ну так вот! Если вы со своим Борисом Васильичем секрета не знаете, то ничего путного у вас и не вырастет!
– Кое-что знаем, не беспокойся! – сказал Ромка. – Например, сеять богатырскую рожь надо с весны, а не осенью. И вместе с ячменем или пшеницей. Это самое главное. Ну, может, еще какой-нибудь маленький секретик осталось найти…
– Ладно, ищите, – разрешил Слава. – Когда вырастет твоя богатырская рожь – скажешь. Так и быть, погляжу.