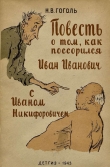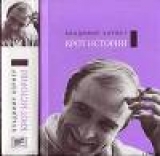
Текст книги "Человек плюс машина"
Автор книги: Владимир Кормер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
10
– Может быть, выслушаем все-таки теперь и Ивана Ивановича? – предложил Михаила Петрович.
Мы, признаться, с испугом посмотрели на Ивана Ивановича, сидевшего безучастно, с опущенной низко головой, с видом крайне переутомленным, если вовсе не больным.
Против ожидания Иван Иванович вдруг слабо ворохнулся, встал и на подгибающихся ногах побрел к трибуне.
– Иван Иванович, дорогой, да вы с места, с места! – с состраданием простер к нему руки Кирилл Павлович. – Вы что, хотите выступить? Может, не стоит, голубчик, а?! Михаила Петрович, зачем это?!
Но Иван Иванович с чьей-то помощью, совсем как Опанас Гельвециевич, уже одолел возвышение, где стоял стол президиума, и от усталости буквально лег на трибуну. Прошло несколько минут, прежде чем он отдышался и произнес первые слова:
– …Семиотическая специфика карточной игры… в ее имманентной сущности… связана с ее двойной природой…
Лица у присутствующих вытянулись. Опанас Гельвециевич уронил свою тяжелую клюку с монограммой. Лелик Сорокосидис и Зиновий Моисеевич Герц кинулись подымать клюку и, мешая друг другу, долго возились под столом президиума, таща клюку каждый в свою сторону.
– …С одной стороны, карточная игра есть игра, – возобновил после паузы Иван Иванович, – то есть представляет собой модель конфликтной ситуации. В этом смысле она выступает в своем единстве как аналог некоторых реальных конфликтных ситуаций. С другой стороны, карты используются не только при игре, но и при гадании.[5]5
См. по этому вопросу: Лотман Ю. М.Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Труды по знаковым системам. III. Тарту, 1975.
[Закрыть] Кирилл Павлович даже застонал.
– В этой их ипостаси активизируются иные функции, – продолжал Иван Иванович отрешенно, – …иные функции: прогнозирующая и программирующая… Далее… Как здесь уже говорилось, единое понятие «карточная игра» покрывает моделирование двух весьма различных типов конфликтных ситуаций – это так называемые коммерческие и азартные игры… Разница между ними заключается в степени информации, которая имеется у игрока, и, следовательно, в том, чем определяется выигрыш: расчетом или случаем… В коммерческих играх задача состоит в разгадывании стратегии противника, причем… (Пропуск в стенограмме, но это и не важно; помнится, речь шла о частностях различных стратегий.)…А азартные игры строятся так, что понтирующий вынужден принимать решения, фактически не имея никакой (или почти никакой) информации. Есть различные виды стратегии – «игра мирандолем», «пароли», «пароли пе», «руте», «кендельва» и проч., однако, поскольку каждая талия представляет собой относительно другой независимое событие… и это же можно сказать и о следовании карт при прометывании талии, поскольку…
– Иван Иванович! К чему все это?! – в отчаянии закричал Кирилл Павлович.
Иван Иванович изумился:
– К тому, что всякая знаковая система, в том числе и тот язык, на котором осуществляется наше общение с машиной, может исследоваться, как известно, в трех аспектах – с точки зрения семантики, с точки зрения синтаксиса и с точки зрения прагматики. Семантику составляет значение инвентаря знаков, образующих систему, синтаксис есть список правил, позволяющих из инвентаря знаков строить информативные структуры путем его линейного развертывания. Прагматический аспект – это изучение связи системы с реальностью… Этот аспект интересует нас в данном случае более всего…
– Нет, я ничего не понимаю! – всплеснул руками Кирилл Павлович. – Ну при чем здесь связь системы с реальностью? Какая связь, скажите?
– О целом ряде явлений, – вздохнул Иван Иванович, – мы можем судить исключительно или почти исключительно на основании того, как они описываются языком… Это относится, в частности, увы, и к феноменам, с которыми мы столкнулись в работе нашей машины…
– Так вы исследуете язык, на котором, как вы изволите выразиться, вы общаетесь с машиной, с помощью преферанса?! – язвительно поинтересовался Кирилл Павлович.
– Я ведь уже и об этом сказал, – подал голос Эль-К.
– Да, – тихо подтвердил Иван Иванович. – Виктор Викторович… прав… Понимаете и… за совокупностью высказываний, которые делает машина на своем языке, стоит некоторая модель мира…
– Это еще что такое?! – воскликнули все присутствовавшие разом.
– Иван Иванович, вы что, издеваетесь над нами?! – осведомился Кирилл Павлович. Какая-то мистика и чертовщина! Я, например, ничего не понимаю. А вы, товарищи, что-нибудь понимаете?! Иван Иванович… – сказал он, взяв себя в руки. – Я человек простой, я рассуждаю так. Вы в этой машине знаете все до последнего винтика. Вы знаете наизусть то, как она работает, как работает каждая ее схемка, каждый блочок. Вы же все прощупали, все отладили своими руками. Так неужели же вы не можете, проследить теперь на основании этого знания, как же работает целое? Это у меня в голове не укладывается! Наука всегда познает сложные явления путем их расчленения на возможно более простые части. Это же общий принцип!..
– Редукционистские представления… это у вас редукционистские представления, понимаете ли… – сказал Иван Иванович, правда, не совсем удачно (с Кириллом Павловичем так все же говорить не рекомендовалось). – От сложного к простому… А современная наука…
Произнесши «А современная наука», Иван Иванович еще более усугубил допущенную неловкость, и Кирилл Павлович на это обиделся:
– Вы что же, хотите сказать, что… мы не понимаем духа современной науки?! Что мы отстали?!
– Нет, я вовсе и не хотел сказать именно этого! – испугался Иван Иванович. – Это только так, к слову. Вы спросили…
– Я помню, о чем я просил, можете и не повторять!.. Но спрашиваю теперь, какое все это отношение имеет к наладке и введению в эксплуатацию системы автоматизации, ответственным за работу которой вы являетесь!
Тут вступил Эль-К с таким видом, с каким выручает студента, растерявшегося перед комиссией при защите диплома, его опытный руководитель:
– Иван Иванович хотел сказать, что до нынешнего века наука – физика, химия, механика – добивалась большинства успехов, следуя завету «Мир устроен просто», а ложность представлялась свидетельством полузнания или знаком заблуждения. Сегодня к былому девизу науки требуется дополнение: «Мир в некоторых частях устроен не просто, а сложно…»[6]6
См.: Искусственный интеллект (беседа акад. В. М. Глушкова с обозревателем «ЛГ» В. Моевым) // Литературная газета, 1976, 1 янв.
[Закрыть] Сведение в целях познания сложного к сумме его простых частей требует и своего обращения, поиска правильного пути, обратного к сложному. Задача, стоящая перед многими отраслями современной науки и, быть может, прежде всего перед теми, которые занимаются изучением тех или иных проявлений жизни, – ну, например, перед молекулярной биологией, но также, конечно, и перед кибернетикой, – заключается в том, чтобы, отправляясь от редукционистских исследований, двигаться к более высоким уровням организации.[7]7
См.:Энгельгардт. К новым рубежам в познании основ явлений науки // Наука и жизнь. 1976. № 2.
[Закрыть] При этом сложноорганизованные системы обладают свойством, не выводимым из свойств элементов, эти самые системы образующих, на уровне таких систем возникает новое качество…
– Ближе к делу! Ближе к делу, Виктор Викторович! И вообще… Кто выступает, он или вы?!
– Иван Иванович хотел сказать, – и бровью не повел в ответ Эль-К, – что изучение такого рода систем должно вестись на… э-э… феноменологическом уровне…
– ?!
– Существуют два методологических принципа познания: онтологический и феноменологический,[8]8
См. там же.
[Закрыть] – снисходительно пояснил Эль-К. – Следуя онтологическому принципу, изучают непосредственно изнутри, так сказать, механизм функционирования той или иной системы, механизм взаимодействия отдельных ее элементов, подсистем, прохождение информации по различным каналам… и тому подобное… Феноменологический же подход предполагает прежде всего изучение внешних проявлений работы системы. Система при этом остается для нас «черным ящиком». Однако и здесь мы можем получить достаточно интересные результаты, задавая системе определенные стимулы и измеряя соответствующие ее реакции… Или, например, можно исследовать систему в режиме «сенсорного голодания». Не буду, впрочем, перегружать вас информацией… Оба этих принципа, разумеется, должны дополнять друг друга также, как в изучении нашего мышления нейрофизиология дополняет психологию. На уровне сверхсложного системного анализа феноменологический подход необходим еще и потому, что всякое вторжение внутрь таких систем, всякое, так сказать, хирургическое вмешательство неизбежно приводит к функциональным расстройствам механизма. По крайней мере вызывает различные побочные эффекты, которые лишь затемняют подлинную картину. В анатомическом театре вы можете препарировать труп до мельчайших деталей. Но это будет уже именно труп, а не человек. Поэтому-то «общение» с такого рода системами и должно совершаться на «вербальном» уровне. В режиме «диалога», как модно теперь выражаться, мы можем судить о том, что происходит внутри системы, лишь поняв ее язык, уяснив себе некоторым образом, как она представляет себе себя, как она реагирует на своего собеседника, ну… более широко – на окружающий мир… Это, конечно, метафора, метафора…
– Окружающий мир, себя, нас, – (таким мы Кирилла Павловича никогда прежде не видели), – связи с реальностью!.. Это не метафора! Это… это субъективный или… объективный идеализм, товарищи!
– Понимаете, – это прошептал уже Иван Иванович, – она действительно обладает определенной, наивной картиной мира!
– Господи помилуй!.. – схватился за сердце Кирилл Павлович.
Эль-К недовольно покрутил головой, показывая, что мог бы, конечно, сказать гораздо больше и гораздо лучше Ивана Ивановича, но Иван Иванович мешает ему.
– Картина мира у нее, по вашим словам, наивная, – не выдержал теперь и Михаила Петрович (который тоже злился на то, что Иван Иванович себя так глупо ведет, «подставляется» сам, говорит не то, что нужно). – А в преферанс она у вас играет так, как будто всю жизнь свою только этим и занималась!
– Преферанс или там какие-то другие игры нужны для того, чтобы задать некую более или менее стандартную ситуацию общения, – опять вмешался Эль-К властно и раздраженно. – Вы же знаете, что в общении с нашей машиной в «диалоге» с нею постоянно возникают многочисленные нестандартные, неконтролируемые ситуации… Ну, например, когда Иван Иванович… м-м… по каким-либо причинам… отсутствует… Вот поэтому-то и необходимо построить некоторую стандартную, то есть ограниченную, легко воспроизводимую и вместе с тем достаточно гибкую ситуацию, соответствующую возможностям машины… Конечно, можно было бы придумать и что-нибудь поумнее…
– Вот именно!
Иван Иванович во время этой короткой перепалки вел себя уже совсем по-дурацки; не переставая бормотать себе под нос, он подошел к черной грифельной доске, стоявшей позади и слева от трибуны, начал чертить в уголке мелом что-то такое, что нам разглядеть было нельзя, потом стер чертеж ладонью, вернулся на трибуну и, вытирая руки грязным носовым платком, сказал:
– Видите ли, для того чтобы какое-то, самое простое высказывание было понято должным образом, необходимо определенное фоновое знание говорящих… Например, чтобы фраза «закрой окно» имела смысл, нужно: 1) чтобы окно было открыто; 2) чтобы были отношения, когда можно к другому так обратиться; 3) чтобы были руки и ноги… и так далее, так называемый принцип пресуппозиции… Мне хотелось бы здесь особенно подчеркнуть, что… если при логическом анализе высказываний основной критерий – это критерий истинности, то при анализе живой речи на первый план выступает коммуникативная значимость высказываний. Иными словами, на первый план выступает критерий искренности, а критерий истинности становится нерелевантным…
Кирилла Павловича при этих словах прямо-таки подбросило.
– Довольно! Прекратите! – застучал он по столу уже не карандашом, а кулаком. – Я лишаю вас слова!.. Я не намерен! Я объявляю… – Но тут сработал рефлекс человека, много лет пропредседательствовавшего на различных совещаниях, и Кирилл Павлович, пожевав губами, неожиданно закончил: – Объявляю перерыв, товарищи…
В коридоре мне пришлось сдерживать Михаилу Петровича, который рвался сказать Эль-К «все, что о нем думает». А Эль-К, надменно задрав подбородок, стоял в одиночестве поодаль (характерно, что никто к нему не подошел: все были не то чтобы возмущены, но смущены его сегодняшним поведением; и даже Лелик коварно убежал прочь, будто бы за нуждой); Эль-К наблюдал нашу борьбу и, кажется, догадывался, в чем тут дело.
Наконец Михаила Петрович, рассвирепев, отодвинул меня в сторону и, набычившись, шагнул к Эль-К.
– Так как же это прикажешь понимать?! – зарычал он. – Предлагаешь этого… на место Ивана?! Зачем?! Может, он тебе какую неоценимую услугу оказал?! Ты что, не знаешь, что это за человек?! Он что, по-твоему, способен на что-нибудь кроме своей филателии?.. Да и по отношению к Ивану… нехорошо, нехорошо! Вы что, поссорились с ним, что ли?..
– Да разве вы не видите, что он не в себе?! – прошептал Эль-К, показывая глазами на отворенную дверь зала, где, по-прежнему вперив взор в пол, сидел Иван Иванович.
– То есть как не в себе?! Я, по правде сказать, мало что понял, я не специалист…
– Вот именно… Извините меня…
– Но разве ты говорил не о том же самом?
– О том, не о том… Да вы посмотрите на него и поймете, о том или не о том!
– Ты считаешь, что он болен?
– А разве этого не видно? Тут и специалистом не надо быть…
– А ты говорил об этом с Кириллом Павловичем?
– Я пробовал, но он иногда, знаете ли, бывает… нечувствителен… к определенного рода вещам. Вернее, предпочитает быть нечувствительным…
Но к Кириллу Павловичу уже вернулось все его самообладание, а вместе с ним и житейская мудрость (или нечувствительность, как выразился Эль-К). В перерыве он отказался и слушать нас, а после перерыва решение его гласило: административных функций в отделе Системы, конечно, не разделять, а оставить все как есть; Ивана Ивановича обязать поднять в отделе дисциплину персонала, наладить занятия по повышению квалификации, полнее использовать резервы и равномернее загружать кадры, активнее опираться на помощь среднего руководящего звена (это имелся в виду Сорокосидис), представить развернутый письменный отчет не позднее 1 октября сего года. Было, однако, принято и предложение Лелика насчет того, чтобы не допускать посторонних в помещение вычислительного центра, для чего у дверей ВЦ организовать дополнительный пост охраны. На карточные игры был наложен безусловный запрет, но одновременно назначена была и специальная комиссия для изучения вопроса (в комиссии этой волею судеб оказался и я сам…).
11
В качестве члена вышеупомянутой комиссии 17 сентября я принял участие в одной из «контрольных игр» с машиной. Играли втроем: Лелик Сорокосидис, машина и я. Ивана
Ивановича не было. Я пришел в ВЦ около пяти, и ребята сказали мне, что его уже с час как нет.
Прошедшее две недели назад обсуждение вообще плохо подействовало на Ивана Ивановича, с ним что-то случилось, он как-то сразу сдал, хотя и до того – я ведь говорил – выглядел далеко не блестяще; но тут от него уже совсем осталась лишь одна тень; «Ни то ни се, ни житель света, ни призрак мертвый», – как, краем уха я слышал, острил Эль-К. Хуже всего было, однако, на мой взгляд, то, что Иван Иванович при всей своей призрачности находился еще все время в состоянии сильнейшего, но, видимо, совершенно нецеленаправленного возбуждения. Это бросалось в глаза не только мне. Марья Григорьевна, с которой мы несколько раз за это время, правда мельком, переговорили, тоже тревожилась, что с Иваном Ивановичем что-то происходит, но толком ничего не могла сказать, потому что он, по ее словам, по-прежнему ее избегал; ребята с машины также беспокоились: «Странно, очень странно ведет себя Иван Иванович. Придет, побродит по залу, посидит задумчиво в уголке, пошепчет что-то про себя, да и уйдет среди бела дня. Куда, зачем – не отвечает. Никогда такого за ним не водилось…»
Итак, в тот день мы сидели, если можно так выразиться, втроем. Сначала было несколько человек зрителей из обслуживающего персонала, но часам к семи все разошлись. Дежурный инженер с программисткой влюбленно куковали за дальним столом, изредка выжидательно поглядывали на нас с Леликом: когда же мы наконец уйдем. Еще один дежурный спал на диване за стойками; сколько я видел его, он всегда спал, как шофер; его мощный храп перекрывал порою шум кондиционеров. Да, у отворенных дверей ВЦ в коридоре дремала еще бабка в гимнастерке ВОХРа…
Что можно сказать о сыгранной нами партии? Машина играла ровно, но без особой, я бы сказал, охоты, вяловато… Сыграли шестерную. Мы вистуем. На восьмерной села без одной, то есть шесть в гору и куча вистов. Потом сыграла две шестерных, семерную, восьмерную… Потом была неудачная распасовка: ее шесть взяток… Опять три хилые шестерные. Потом села на вистах без одной, единицу в гору, но хоть два виста… Короче, в принципе нулевая пуля – рубль девяносто шесть копеек выигрыша (расчет, конечно, символический, на что ей деньги).
А я продулся в пух и прах. Преферансист я не ахти какой, играю средне, но тут мне еще и не везло ужасно, и прикупы не шли – как куплю, так и сяду; или попадет не такой расклад, а то и такой, что при верной игре сажусь… Например, был мизер. Ловленый мизер, но им надо было угадать снос. У меня же две масти чистые, в бубнах десять, валет, в черве туз, семь. Я снес туза червей и валета бубнового. При их ходе в черву я положил семерку. Им пофартило, угадали, пошли в бубну, всучили коллектив, пять взяток. Затем опять несколько неудачных распасовок. Посадили меня и на восьмерной втемную, не сыграл у меня марьяж… В итоге – пятнадцать рублей проигрыша (хорошо только, что расчет символический, а то досталось бы мне от супруги!).
А вот Лелик – я с ним играл впервые, – вся его натура дельца и финансиста чудовищно выперла наружу, как на картине! Хотя игра и была условная, символическая, его обуял дикий азарт, играл он смело, напористо, жадно. Блефовал отчаянно. Как говорят в народе, типичный жлобский преферанс. Вистов нет, а вистует, хода нет, а все равно вистует. А уж везло ему – просто необычайно! Торгуется на трех взятках, и обязательно купит, рискованные мизеры берет… Например, нет масти и в банке валет, чужой ход, а ему приходит чудесная прокладочка в имеющуюся масть… Когда я впоследствии рассказывал о своих впечатлениях от этой игры, некоторые товарищи задавали вопрос: а не думаю ли я, что Лелик мухлевал? Нет, не думаю. Я, во всяком случае, ничего такого не заметил. Правда, он, а не я вводил данные в машину, но процедура ввода была предельно автоматизирована – по сути, достаточно было вложить карту в специальное визуально считывающее устройство и щелкнуть тумблером; считываемая карта тут же демонстрировалась на контрольном экране, на другом постоянно фиксировалась роспись пульки. Конечно, Лелик мог попутно (и незаметно для меня) вносить какие-то коррективы, нажимая еще какие-нибудь клавиши или кнопочки, но не думаю; я, повторяю, ничего подозрительного не заметил! Да и не верю я, чтобы он так хорошо знал машину… Да и она сама, помимо того, была, как мне объяснял кто-то, снабжена программой, блокирующей подобные шулерские махинации (AM – антимахинатор). Так что нет, чего не было, того не было, просто талантливый игрок, что вполне соответствовало тому, что я о нем знал, ъ
В 19 часов 38 минут игра была окончена (указываю время точно, по электронным часам на пульте, я должен был вести протокол). Я сел писать черновик этого самого протокола. Лелик удалился к себе в каморку. Склад, где хранились запасные детали и различная техническая документация, помещался прежде довольно-таки неудобно – в главном корпусе, далеко; уже летом Иван Иванович нашел возможность освободить часть машинного зала, найдя нескольким стойкам другие места; освободившееся пространство отгородили легкой переборкой и перевели склад сюда; здесь же, внутри склада, и устроили «кабинет» для Сорокосидиса – поставили ему стол и сейф, чтобы он мог без помех заниматься своей сверхсложной и ответственной бухгалтерией (бюджет наш был здорово подорван, и мы возлагали, как я уже говорил, большие надежды на хоздоговорные заказы, которые вот-вот должны были посыпаться на нас со всех сторон).
Около восьми, быть может, в самом начале девятого, в зале возникла та самая царь-девица, ленинградская конструкторша с толстою косой. От быстрого, должно быть, бега по этажам и коридорам она раскраснелась, коса ее малость подрастрепалась.
– Что вы тут натворили?! – кинула она мне прямо с порога. – Почему машина встала? Что вы здесь делаете?
– Что за ерунда?! – осадил я ее. – Мы только что окончили контрольную партию. Я являюсь членом комиссии! Игра была закончена в девятнадцать тридцать восемь, машина работала нормально. А что такое? Почему вы решили…
Выяснилось, что девица была в лабораторном корпусе, возилась с расположенным там модулем управления коммутатором. Все шло хорошо, как вдруг от главного процессора (то есть от нас, из ВЦ) стали поступать какие-то бессмысленные команды, потом пошли пачки хаотических импульсов, а затем процессор и вовсе отключился, хотя канал связи был исправен, что легко можно проверить.
Следом за нею я поспешил к пульту, тупо смотрел, как она затравленно стучит клавишами, и, чувствуя, что я и вправду виноват (кто его знает, может быть, и вправду это мы тут что-то напортили), даже давал советы, вероятно, идиотские, потому что она несколько раз дико косилась на меня.
Наконец она гневно махнула рукой, оттолкнувшись ножкой, развернулась на 180 и отъехала от пульта метра на три (кресло было вертящееся и на колесиках).
– Нет, это Иван Иванович, – сказала она, занявшись своей косой.
Я оглянулся: дежурного инженера с программисткой не было видно, скорей всего, они скрылись, пока я писал протокол. Из-за стоек по-прежнему доносился мощный храп.
– Ивана Ивановича здесь нет. Его давно нет. Когда мы пришли, его уже не было, – осмелился указать ей я. – Здесь были только что двое… Но они куда-то подевались…
– Я знаю, что его нет, – сказала она, – но все равно это он…
Я сообразил, что под этим подразумевается:
– Простите… а вы… что же… верите в это?
Она рассмеялась (девица, право, была симпатичная):
– А что тут верить или не верить! Я, слава богу, здесь не первый год! Меня вон папа с мамой уже прокляли! – («А жених?» – хотел спросить я, но удержался.) – Нет, это Иван Иванович что-то опять отчудил…
– Пока был здесь? – все-таки решил уточнить я.
– Да нет же! – начала сердиться она. – Когда был ужетам!..Да, кстати… – нахмурилась она. – А вы не в курсе дела, где он сейчас?
Я подумал, что вопрос несет двойную нагрузку (то есть что она интересуется прежде всего, не у Марьи Григорьевны ли сейчас Иван Иванович), и отвечал осторожно:
– Не знаю, а… что?
– Да ничего! – Она, должно быть, догадалась, о чем я подумал, нахмурилась еще больше и, сделав пируэт, снова развернулась вместе с креслом к машине лицом. – Я звонила ему еще раньше, но то ли его нет дома, то ли у него испорчен телефон… Надо, кстати, записать в журнал время. Вот черт, не посмотрела точно, когда это началось! А вы не заметили, когда я пришла? Сейчас восемь сорок две, – взглянула она на табло. – Сколько я здесь, минут пятнадцать, двадцать?.. Ладно, вы можете потом рассказывать вашим дамам все что угодно. – Теперь от злости она проделала вместе с креслом фигуру прямь-таки высшего пилотажа («иммельман» или что-то вроде этого). – Можете рассказывать, но я… я страшно беспокоюсь за него, вы понимаете?! Я боюсь, что он сломался… не выдержал напряжения… Все это свалилось на него так неожиданно. Он оказался неподготовленным, понимаете? То есть я имею в виду – физически не подготовлен. Если бы он был помоложе!..
– А к чему не подготовлен-то?!
– Кконтакту, – сказала она как нечто само собой разумеющееся и сделала при этом такое движение, будто хотела пнуть мерзкую машину.
– Как вы себе представляете… этот… контакт? – поинтересовался я.
– А что тут себе представлять, – пожала она плечами. – Любой механизм привыкает кХозяину. Вон вы пишете своей перьевой авторучкой, – углядела она, – а я возьму ее, так и будет она бумагу корябать, да и вы сразу спохватитесь: «Осторожнее, не испортите перышка!» Верно? Вот так вот. А тут же ведь сложнейшая машина, электронный мозг, десятки тысяч обратных связей, запоминающие устройства, программы самообучения, самонастройки! Да еще работали с нею все время в диалоговом режиме… вот она и привыкла… Считает его за хозяина…
– Да, но ведь и сам Иван Иванович к ней…привыктоже не меньше.
– Естественно. А я что, по-вашему, к ней не привыкла?! Какого черта я здесь сижу четвертый год?! А?! Или вот Петухов, – она показала большим пальцем через плечо, за стойки, откуда по-прежнему катились волны густого храпа. – Вы что думаете, почему он все время спит? А потому, что он дома спать не может! Ничего ему не мешает, жена с дочкой в соседней комнате, дочка спокойная, не орет…
А вот у него бессонница! Не может заснуть, и все тут! А сюда придет, задрыхнет так, что тут все хоть гори синим пламенем, его не разбудишь!.. Ну, с Иваном Ивановичем, конечно, дело посложнее… эффект потоньше, не спорю. Мы с Петуховым к нему, конечно, только первое приближение, упрощенные модели… Но он уникум, вундеркинд… Жаль только, что так поздно это заметил…
– Скажите, а вы не замечали, что он с нею… иногда… считает… ну, как бы… в параллель?!
– Да? – вскинула она брови. – Мне тоже иногда казалось… но я…
– Вы имеете в виду также и эти его способности… ну, к… быстрому счету?..
– А вы тоже обратили на это внимание? – опять вскинула она брови. – Мне-то давно уже это мерещилось, я даже спросила как-то раз у него самого…
– Ну и что?!
– А ничего. С ним же в последнее время вообще нельзя разговаривать. Пробормотал что-то и отвернулся.
Столь интересный разговор наш в этот момент, к сожалению, был прерван – в зал вошел Лелик с портфелем и в кожаной шляпке, которую он носил даже летом, в самую жару. При известии, что машина встала, он изобразил волнение, но тут же сказал, что должен, к величайшему своему сожалению, идти, его ждут (при этом Лелик подмигнул мне и похлопал себя по нагрудному карману с кляссером), и, подписав пустой бланк протокола, скоренько смотался.
Мы с царь-девицей (только тут я узнал, что зовут ее Нина) попробовали еще раз позвонить Ивану Ивановичу, но безуспешно. Улучив момент, когда Нина пошла в дальний конец зала к своему столу за щеткой для волос, я набрал номер Марьи Григорьевны, там тоже никто не снял трубку.
За окнами было уже черно – сентябрь, девять часов вечера. Мертвенный люминесцентный огонь кое-где горевших светильников не разгонял наползшего в зал и сгустившегося между стойками мрака. Машина стояла немая, лишь изредка по рядам неоновых лампочек на пульте пробегала будто бы судорога, и опять все замирало; все, кроме пляшущих цифр на табло электронных часов. Эта пляска вселяла в душу какое-то немыслимое беспокойство. В голову лезли разные нелепые черные мысли: а уж не стряслось ли чего с нашим Иваном Ивановичем? Мало ли – вышел на шоссе, угодил под грузовик, или с сердцем что, или… Разговор наш с Ниной пресекся, мы сидели и только время от времени строили друг другу ободряющие гримасы: ничего, мол, все обойдется…