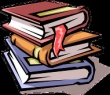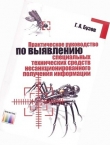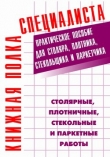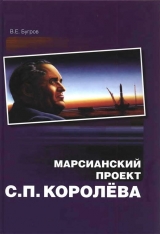
Текст книги "Марсианский проект С. П. Королёва"
Автор книги: Владимир Бугров
Жанры:
Астрономия и Космос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
На Совете главных конструкторов, собравшемся, чтобы рассмотреть результаты наших испытаний и принять решение о возможности осуществления такого варианта облета, после небольшой полемики главный конструктор скафандров Г. И. Северин объявил, что не подпишет заключение на применение скафандра в таких условиях. Во-первых, Бугров залез, но не уверен, что залезут другие, и, во-вторых, после каждого полета у него на затылке гермошлема оставались вмятины глубиной 1,5 см. И напомнил собравшимся случай с парашютистом Долговым, который, выполняя прыжок с высоты 20 км, погиб при спуске, повредив гермошлем непосредственно перед прыжком. Я, как исполнитель операции, был с ним согласен. Мне поручили подтвердить возможность перехода – я подтвердил, но сделал это любой ценой. И вмятины действительно были. Я не стал выступать. Промолчали и Анохин с Аксеновым.
Мишин, поддерживавший эту схему, не получив от нас подтверждения ее надежности, должен был прислушаться к мнению Северина. Ни у кого не возникало мысли заподозрить Северина в перестраховке – он был человеком далеко не робкого десятка (в прошлом чемпион страны по горнолыжному спорту). Мишин, видимо, уже приняв решение, скорее всего для порядка, спросил и мое мнение. Я сказал, что мы ставили перед собой задачу определить стабильную последовательность простых движений, которые мог бы надежно выполнить любой космонавт, и которая гарантирует вход в СА. К сожалению, сделать этого не удалось. На этом совещание закончилось, и на советской программе облета Луны фактически была поставлена точка. Именно так она и завершилась на самом деле.
После закрытия проекта облета Луны на Л1, автономные полеты кораблей «Союз» не компенсировали досады от лунных успехов американцев. Полный провал бредовой идеи 1964 года заменить марсианскую экспедицию лунной и во что бы то ни стало обогнать США стал очевидным.
Высшее руководство обеими руками ухватилось за идею запуска долговременных орбитальных станций (ДОС). Они не решали новых технических или научных задач, но могли отвлечь общественное мнение и руководство страны от ощущения провала.
Космонавтов в ЦПК переориентировали на эту программу. Новых наборов до 1972 года не было. Реальные полеты на орбитальные станции начались в 1975 году и продолжаются почти 30 лет. 23 мая 2006 года отряд космонавтов РКК «Энергия» отметил свой 40-летний юбилей ( рис. 5.5.2 ). О конкретных экспериментах, которые выполняли космонавты нашего отряда в этих полетах, рассказано немало. Вписано много славных страниц в историю космонавтики, но ностальгия по первым задачам отряда иногда высказывается весьма определенно. Ветеран отряда Георгий Гречко в № 4 журнала «Российский космос» за 2006 год пишет: «Мой опыт работы на одномодульных станциях „Салют-4“, „Салют-6“ и „Салют-7“ показал, что их кпд составляет всего несколько процентов – как у паровоза <…> КПД „Мира“ составлял около 1 %, то есть даже меньше, чем у „Салютов“. <…> Еще в 1978 году, сразу после окончания своего рекордного полета на „Салюте-6“, я доложил генеральному конструктору В. П. Глушко, и в отчете написал, и в Америке, куда нас приглашали, говорил, что постоянно действующие пилотируемые орбитальные станции – это тупиковый путь в космонавтике <…> А что делать теперь? Мы вписали в историю космонавтики тупиковое ответвление – многомодульные постоянно действующие орбитальные станции. Настало время вернуться на магистральное направление, которое наметили еще в 60-е годы прошлого века Королев и фон Браун, – пилотируемый полет и высадка на Марс».
Если бы проект марсианской экспедиции, уже реализуемый Королевым, Тихонравовым, Мишиным, не был торпедирован соперниками и соратниками Королева, у гражданских и военных космонавтов была бы настоящая работа на околоземных и межпланетных трассах на все времена. Наши конструкторы 45 лет назад ясно представляли себе эту красивую перспективу и практически воплощали ее в жизнь. После них уже 30 лет об этом, к сожалению, только мечтают и говорят.
5.6. Особенности подготовки лунного комплекса Л3 на Байконуре
Весной 1968 года военные и гражданские врачи продолжали обсуждать мое здоровье. Независимый академик признал его безукоризненным, но этого было мало. Мишин написал письмо заместителю министра здравоохранения А. И. Бурназяну с просьбой ускорить решение вопроса. Но время шло. В июле он встретил меня на лестнице и на ходу спросил: «Как у тебя дела? Зайди к Хомякову». М. С. Хомяков – ведущий конструктор первого спутника и многих наших изделий, занимал должность заместителя руководителя предприятия по координации, ему административно подчинялись ведущие конструкторы по всем изделиям. Поздоровавшись, Хомяков сказал: «Василий Павлович просил меня с тобой поговорить. Пока летать особо не на чем, может быть, согласишься возглавить работы по Л3 в качестве ведущего конструктора?» От таких предложений не отказываются. Я понимал, что если доведу машину до летных испытаний, то главный конструктор не откажет мне слетать на ней. Ошибся в одном – машину закрыли.
Подготовку к полету на Луну в отряде космонавтов пришлось временно отложить. Нужно было организовать на полигоне подготовку к летным испытаниям первого лунного комплекса Л3. Все его составные части были соединены между собой кабелями-удлинителями для проведения комплексных электрических испытаний разобранного головного блока. Все было готово к началу испытаний, не хватало только подписи ведущего конструктора. Я был наделен соответствующими полномочиями и вылетел на Байконур, который впоследствии стал местом моей постоянной работы до 1974 года.
У трапа самолета меня встретил Юрий Лыгин – руководитель филиала нашего завода на полигоне. Проехали на площадку к монтажно-испытательному корпусу космических объектов (МИК КО) и поднялись в кабинет Лыгина. Он раскрыл передо мной технологический паспорт изделия с подготовленным заключением о передаче разобранного комплекса Л3 на электрические испытания и показал, где я должен расписаться за главного конструктора (в кармане у меня была доверенность от Мишина). Расписаться, не задавая вопросов, что называется «не глядя», мне показалось неправильным, а какие можно было задать вопросы, если еще вчера я был в отряде космонавтов? Я робко спросил: «А можно посмотреть изделие?» Лыгин спохватился, кому-то позвонил, мне принесли халат, и мы спустились в зал.
По дороге к нам присоединились сотрудники, образовав свиту человек в 15. Лунный орбитальный корабль, к которому мы подошли, стоял, собранный в стапеле. Никого не было. Я не знал, что мне делать дальше. Передо мной опять ненавязчиво положили открытый технологический паспорт. Нужно сказать, что ведущие конструкторы по изделиям при Королеве пользовались очень большим авторитетом. Не зря многие из них впоследствии возглавляли предприятия, которым Сергей Павлович передавал разработанные изделия, и добивались больших самостоятельных успехов. Правда, в последние годы их авторитет заметно упал. В некоторых подразделениях их считали «погонялами», интересующимися только сроками и слабо разбирающимися в технике. У меня в этот момент был шанс еще больше укрепить это мнение. Пытаясь оттянуть время, я тихо спросил, можно ли подняться на стапель. За спиной прошептали: «Ведущий „хотят“ осмотреть изделие». Мне дали тапочки и я в гордом одиночестве, переходя с площадки на площадку, отмечал про себя знакомые обводы, родившиеся четыре года назад у меня на кульмане. Вот отсек двигателей ориентации комплекса, бытовой отсек, спускаемый аппарат, пиронож, который должен перед отделением БО и стартом к Земле, перерубить кабельный жгут толщиной с руку между СА и БО. Вот остронаправленная антенна (ОНА), через которую осуществляется связь с Землей при возвращении корабля, вот кабели, идущие к антенне… Стоп!
Но почему кабели к антенне идут через пиронож? Ведь если кабели отрубить – связи с кораблем на обратной дороге не будет, и он может быть потерян. Спускаясь вниз, я лихорадочно соображал, что мне делать – ведь за то, что корабль собран в соответствии с документацией главного конструктора, расписались человек десять из тех, что стояли внизу и ждали моей формальной подписи. Может, я чего-то не понял? Очень не хотелось при всех задавать глупые вопросы. Спустившись, я попросил показать чертеж прокладки кабелей к остронаправленной антенне. Его тут же принесли. Чертеж как чертеж – в нем кабели к антенне идут мимо пироножа. Я наклонился к Лыгину и тихо спросил: «А почему кабели к ОНА на изделии заведены в пиронож? На чертеже они проложены мимо». Лыгин, глядя на чертеж, держал паузу. На стапель подниматься и смотреть на кабели не стал, и так же тихо ответил: «Мы сейчас все исправим». Я сказал: «Ну, хорошо», – повернулся и пошел знакомиться с кабинетом главного конструктора.
Что сказал Лыгин после моего ухода подписавшимся в паспорте, не знаю, но на следующий день все здоровались со мной первыми с расстояния пяти метров. Этот эпизод значительно упростил взаимоотношения с коллективом при проведении серьезных мероприятий по изменению существовавшего на полигоне порядка.
Увиденные мной воплощенные в металл конструкции кораблей и другие элементы лунного комплекса, которые я легко рисовал в тетради и чертил на кульмане, привели в трепет своей масштабностью и технической мощью. Стало ясно, что мы перешли на другой уровень разработки – от орбитальных космических кораблей к межпланетным ракетно-космическим комплексам.
С самого начала работы в новом качестве пришлось столкнуться с большими трудностями. Автоматические аппараты и корабли «Восток», «Восход» прибывали ранее на Байконур в более-менее собранном и испытанном виде. Подготовка их к запуску проводилась совместно с военными по четко отлаженной Королевым схеме и занимала две-три недели, но для Л3 эта схема оказалась непригодной из-за его масштаба и сложности.
Наше изделие поступало на Байконур в виде многочисленных составных частей, которые должны были на месте собираться и испытываться в соответствии с требованиями конструкторской документации, то есть, по чертежам, схемам и заводской технологии. Но военные по ним не работали, их участие в заводском процессе предусмотрено соответствующими постановлениями только в качестве представителей заказчика, а не исполнителей заводских операций. Ответственность за качество изготовления изделия должен нести головной завод. Привычные ранее практические методы работы на полигоне потребовали серьезной корректировки.
В первую очередь, пришлось обратить внимание на процедуры изменения конструкторской документации. Ранее при подготовке изделий для устранения возникающих замечаний и выполнения новых работ выпускались технические задания. В них подробно описывались все процедуры, которые необходимо было осуществить для устранения замечания. Эти словесные описания фактически являлись корректировкой конструкторской документации (чертежей, схем и т. д.). При этом не перечислялась конкретно документация, в которую нужно было внести соответствующие изменения. Такой порядок был обусловлен тем, что военные по чертежам не работали, они действовали по инструкциям, и перечень работ, составленный в ТЗ и подписанный всеми участники подготовки, фактически являлся такой инструкцией. Утверждал ТЗ технический руководитель, то есть главный конструктор или заместитель технического руководителя по испытаниям в ранге заместителя главного конструктора. После завершения всех работ участники разъезжались, захватив с собой копии накопившихся за время подготовки десятков технических заданий, и уже у себя в подразделениях по своему усмотрению проводили необходимые корректировки, выпуская извещения на изменение чертежей или схем. Ведущий конструктор по изделию, подписывавший через полгода извещения на корректировку конкретного чертежа или схемы, видел ссылку на техническое задание, но однозначную привязку извещения к ТЗ установить порой было трудно. В этом закладывалась определенная порочная свобода выбора при проведении изменений, которая в дальнейшем превратилась в большую проблему.
Цикл подготовки наших изделий значительно удлинился. Здесь мы впервые столкнулись и с проблемой корректировки конструкторской документации. Приезжавшему к нам новому специалисту давалось задание подготовить решение по возникшему замечанию. Придя в архив, он должен был пролистать не только чертежи конкретного узла, с которым ему надлежало разобраться, но еще сотню накопившихся технических заданий, утвержденных руководителем испытаний, где он должен был разглядеть пункты, относящиеся к его чертежу. Да еще понять, реализованы они в чертеже, или еще нет. Это была сложная задача.
Попутно возникал другой серьезный вопрос – о правомерности утверждения руководителем испытаний технических заданий, которые фактически корректировали чужую конструкторскую документацию. Раньше, считая работы на полигоне по подготовке изделия к запуску очень ответственным этапом, Королев приезжал сюда вместе с ним. Под его непосредственным руководством и контролем шел весь процесс, выпускались все технические задания, поскольку считалось, что изделие сразу будет передано военным.
В нашем же случае аналогичный режим работы главного конструктора исключался из-за длительного процесса подготовки изделия. Главный конструктор не мог целый год «сидеть» на полигоне. Он наделял полномочиями заместителя технического руководителя своего зама по испытаниям – в нашем случае Е. В. Шабарова. Но тот тоже не мог в течение года находиться на полигоне – ему был подчинен огромный комплекс, требовавший руководства, и он передоверял полномочия начальнику отдела испытаний, тот – начальнику сектора, а тот – начальнику группы. И в один прекрасный момент мы обнаруживали, что полномочиями технического руководителя, то есть главного конструктора, фактически наделен старший инженер из отдела испытаний, который определяет, кому и какую документацию нужно откорректировать и утверждать в ТЗ изменения на эту документацию. Естественно, что при возникновении сложных вопросов такой заместитель технического руководителя мог руководствоваться не только интересами своего отдела, но и своей группы.
Становилось понятно, что прежний порядок работы к новым изделиям неприменим. Но и поменять его было не просто, поскольку прежде он приводил к большим успехам, устраивал военных и главное – наших испытателей.
Нужно отметить, что к началу работ с комплексом Л3 на полигоне сложился определенный культ испытателей. Он был основан на традиции, которая повелась еще со времен Л. А. Воскресенского и была продолжена Е. В. Шабаровым, Б. А. Дорофеевым и А. И. Осташевым. Нелегкий труд испытателей – бессонные ночи в пультовых, поиски «бобов», плюсов и минусов и, в конце концов, установление дефекта и его причины снискали им заслуженный авторитет. Этому способствовало и то, что лицо, замещающее главного конструктора в его отсутствие с правом подписи технических и других документов, было руководителем испытательного куста.
По мере усложнения готовящихся изделий стали возникать противоречия. В отсутствие главного конструктора на технической позиции (ТП) результаты испытаний докладывал в Москву его заместитель по испытаниям. Естественно он не был заинтересован докладывать о промашках стоявших за его спиной коллективов. С усложнением техники эти ошибки стали все чаще списывать на приборы и конструкцию, что вызывало нарекания конструкторов и разработчиков.
Листая бортжурнал с отметками о ходе электрических испытаний, можно было обнаружить и такие записи: «Не горит транспарант 10» – «Провести частную программу. Для чего отключить разъемы…». – «Частная программа проведена. Не горят еще десять транспарантов…». – «Провести еще частную программу. Для чего отключить еще несколько десятков разъемов». И так целую неделю могли продолжаться поиски дефекта, при этом половина машины могла оказаться разобранной. Хорошо если возникал дефект в каком-то не имеющем большого отношения к делу приборе, который срочно самолетом отправляли в Москву. Но все чаще после недели манипуляций с разъемами и завершения работ по частным программам, где-то в углу бортжурнала появлялась скромная запись «Откорректирована Ин-2». То есть транспарант 10 и не должен был гореть!
Такой протокол испытаний означал, что испытатели, расходуя в течение недели ресурс бортовых систем, выявляли ошибки в своей документации. Надо отметить, что проектно-конструкторская документация в тот период была довольно низкого уровня. Выход из положения – изготовить для испытателей электрически действующий макет, на котором можно было бы корректировать их инструкции. В дальнейшем такие изделия – комплексные стенды – стали поступать, и они становились неотъемлемой частью процесса отработки не только изделий, но и эксплуатационной документации.
Когда возникавшие дефекты попадали в поле зрения высоких комиссий, а на роль их «автора» было несколько претендентов, борьба за «честь мундира» становилась ожесточенной. В июле 1969 года, перед вторым пуском Н1-Л3, я находился в Москве и «выколачивал» из разработчиков заключения о допуске их систем к ЛКИ. Позвонил по ВЧ Лыгин, и каким то придушенным голосом телеграфно сообщил: «В приборном отсеке ЛОКа падает давление – похоже, что он худой. Шабаров запретил выходить на связь, составлена справка, что так и должно быть (из-за изменения температуры в помещении). Он дал указание вывести головной блок на заправочную станцию. Идет заправка». По-нашему, это называлось «приступить к необратимым операциям» – заправке изделия, после которой работы на изделии были ограничены. Шабаров спешил – он отвечал за готовность головного блока к стыковке с ракетой.
Я доложил Мишину о сложившейся ситуации. Реакция была быстрой и решительной: «Пусть сидят на заправочной станции, никуда не выезжают и ищут негерметичность, а не найдут, заставлю слить, вернуться в МИК и разобрать машину. Вылетай первым самолетом и докладывай». Это было очень крутое решение. До старта оставалась неделя, и на полигон уже прибывали члены госкомиссии. Если не найдем течь, а скорее всего лежа на заправке не найдем, или не сможем устранить, нужно будет возвращаться в МИК и у всех на глазах разбирать машину и переносить пуск на месяц. Мишин был сильно возбужден и без особой надежды на успех я начал: «Василий Павлович, мы ничего лежа на заправке не найдем. Как лезть с течеискателем в полуметровом зазоре между обтекателем и кораблем? Мы там больше наломаем, чем устраним. Нужно заканчивать заправку, ехать на старт, ставить машину и готовить к пуску. Вертикально цепляясь ногтями за внутренние шпангоуты обтекателя еще что-то можно попытаться сделать. А нет, так все равно сливать и переносить на месяц. Неделей больше, неделей меньше». Мишин уже через секунду готов был что-то ответить, но я успел с конкретной просьбой: «Вот только у нас на 13-й площадке (площадка обслуживания орбитального корабля) нет 380-ти вольт, от которых работает гелиевый течеискатель. Если бы вы позвонили Бармину…» Мишин тут же взял трубку: «Владимир Павлович, здравствуй. Слушай, выручай, мы тут вляпались как следует – нам нужно на 13-ю площадку 380 вольт – без этого никуда не полетим. Я тебя прошу…»
Негерметичность нашли быстро. Единственная мелкая деталь – кому устранять. В полуметровом зазоре между кораблем и обтекателем примерно на 40 метров вниз просматривалась зона свободного падения, и посылать на такое задание молодого монтажника было некорректно. Возражали техники по безопасности, ОТК, заказчик. Начались обсуждения. Я записал в бортжурнале: «Работу выполнять ведущему конструктору Бугрову В. Е. и начальнику сборочного производства Кожухову В. И. под личную ответственность без контроля ОТК и Заказчика». Формулировка всех устроила. Прибыли из Москвы вызванные мной маститые альпинисты из нашего отдела – Федоров и Пенчук с альпинистским снаряжением. Провели инструктаж. Запустив гелий в приборный отсек и пройдя течеискателем по периметру его верхнего шпангоута, мы вышли на струйку гелия и по ней спустились по обечайке до разъема ЩГ-95. Он и был негерметичен.
В тот самый момент, когда мы вылезли из-под обтекателя с этим известием на свою площадку, появились испытатели, которые прозванивали машину с пятки, и заявили, что у них нет цепи в этом же разъеме. Это обстоятельство повлекло серию версий. Вся госкомиссия, у которой образовалось свободное время, с интересом следила за нашей эквилибристикой. На одном из заседаний потом при большом стечении участников Б. Е. Черток изложил основную версию случившегося – разъем был поврежден при монтаже на заводе, в результате чего во время испытаний образовалась вольтова дуга. Это и привело к нарушению электрической цепи и герметичности.
После таких явных обвинений в адрес завода Лыгиным заинтересовалась «ЧК». Из Москвы срочно были вызваны «для дачи показаний» директор ЗЭМа В. М. Ключарев, начальник ОТК завода Ф. И. Беляев и главный технолог В. Е. Гальперин. Под председательством Э. И. Корженевского была образована аварийная комиссия, я был его заместителем. Мы должны были перед вскрытием разъема рассмотреть возможные варианты его повреждения и определить конструктивные решения для восстановления электрических цепей и герметичности приборного отсека, вскрыть разъем, изготовить и проверить материальную часть для ремонта, произвести ремонт и необходимые проверки.
Дело в том, что ответная часть разъема была установлена изнутри приборного отсека, и это требовало аккуратных решений и действий. Сам разъем имел 7 штырьков диаметром по 3 мм, которые заварены в стеклянную перегородку, обеспечивавшую герметичность. По версии с вольтовой дугой, при чрезмерном нагреве перегородка имела право потерять герметичность, а вот куда делась цепь, предстояло выяснить. Когда мы с Кожуховым отсоединили разъем, мне на ладонь упал полностью перегоревший трехмиллиметровый штырек.
В 22 часа узким составом собралось техническое руководство: министр С. А. Афанасьев, новый заместитель начальника нашего главка (бывший начальник полигона) А. С. Кириллов, В. П. Мишин, Е. В. Шабаров, Э. И. Корженевский и я. Когда после рассмотрения текущих вопросов разговор возвращался к ситуации с негерметичностью, Корженевский, дремавший с опушенной на грудь головой, поднимал ее и просил Шабарова дать указание подготовить справку а том, какие токи проходили через разъем ШГ-95 за весь период испытаний. Шабаров отвечал уклончиво, говорил, что не считает это нужным, так как токи слишком малы. Так повторилось четыре раза. Министр удивленно поворачивал голову от одного к другому, пытаясь понять подоплеку препирательства. В конце концов, Шабров вспылил: «Эдуард Иванович, любому сельскому электромонтеру ясно, что при наличии автоматов защиты и при малых токах невозможно сжечь такой разъем».
Оставалось изготовить детали, доработать и проверить изделие. В 7 утра мы стояли с Лыгиным на старте, ожидая бригаду с деталями, и любовались красавицей ракетой. Ни до, ни после, я не видел ничего красивее, чем Н1 на старте. Сзади остановилась «Волга», вышел министр, поздоровался, спросил, как дела. Лыгин ответил, что детали изготавливаются, проводятся испытания… «Поехали, посмотрим» – сказал министр, повернулся и пошел к машине. Открывшаяся в мастерской картина впечатляла. Все станки ревели, кругом была чистота, напротив входа за столом сидел начальник техотдела Николай Ашихменов. Перед ним лежала цветная схема спроектированного узла и блестели изготовленные детали.
Министру, как мне показалось, не понравилась идея обвинить в случившемся завод. Но кроме версии Чертока о вольтовой дуге, ничем не доказанной, но озвученной на большом совещании, других не было, и министр попросил Корженевского представить официальное заключение комиссии и приложить списки для наказания и поощрения.
Истина была установлена с большим трудом. Руководители нашего завода Ключарев, Беляев и Гальперин несколько суток внимательно изучали все записи в бортовых журналах, частные программы, технические задания и однозначно установили следующее. Нарушение целостности разъема ШГ-95, с последующей потерей герметичности приборного отсека и нарушением электрической цепи в указанном разъеме, произошло (не помню какого числа, но еще при проведении электрических испытаний) в три часа ночи при выполнении частной программы двумя испытателями из подразделений Шабарова и офицером из отдела электрических испытаний Первого управления. В результате произведенной стыковки и расстыковки разъемов на головном обтекателе, находившихся под напряжением, произошло формирование разряда, которым и был выведен из строя разъем ШГ-95.
Когда мы с Корженевским принесли министру заключение комиссии он, прочитав его, усмехнулся и сказал: «Так… значит сельский электромонтер…» – и, подписывая список, где все участники эпопеи премировались месячным окладом, спросил: «А где второй? Не забудьте мне его дать». Мы пообещали…
Мишин, прочитав заключение комиссии, задумался о чем-то другом. Затем тихо, но твердо произнес: «Да, надо что-то делать? Садитесь с Хомяковым… Думайте». Что делать и о чем думать, он не сказал, и я не спрашивал, видимо, у него был разговор с Хомяковым.
Эти неопределенные мысли главного конструктора я истолковал как одобрение программы действий, которая у меня сформировалась за год работы ведущим конструктором на самом бойком месте. Комплексная оценка процесса создания изделия, с успехом применявшегося ранее, привела к простому выводу, что он должен быть изменен, и что организация работ при сборке и испытаниях комплекса Л3 на технической позиции НИИП-5 МО должна соответствовать установленному в головной организации порядку. Исходя из этого, я представил Мишину очень короткий и, на первый взгляд, незначительный приказ. Он предписывал: «Все изменения конструкторской документации при подготовке изделия Н0000-0 (головной блок Л3) на технической позиции проводить в соответствии с установленным на предприятии порядком: извещениями и карточками разрешения». После моего комментария о дальнейших действиях и их последствиях Мишин подписал приказ.
В обеспечение приказа Лыгин начал создавать сборочное производство, технологическую службу, КИС для проведения пневмогидравлических и электрических испытаний, испытаний в барокамере. Руководители комплексов своими распоряжениями определили постоянно действующие полномочные представительства. Получили поручения в обеспечение работ и другие службы предприятия.
Схема стала простой и ясной. При возникновении замечания оно записывалось в технологический паспорт. Определялся конструкторский документ, подлежащий корректировке. Подписанное и утвержденное полномочными представителями извещение направлялось в Москву, где получало по второму кругу во второй графе подписи основных разработчиков и направлялось обратно к нам в архив под индексом И2Б. Если разработчики на предприятии были не согласны с извещением, они могли остановить нас и дать свое решение, но таких случаев практически не было.
Управление всеми работами осуществляли трое: ведущий конструктор, руководитель испытаний и руководитель филиала завода. Персонально это Бугров, Филин и Лыгин ( рис. 5.6.1 ). В случае отсутствия нас кто-то замещал. Единоначалия не было, и не было случаев, чтобы мы не решили сообща какой-нибудь вопрос. При возникновении существенных замечаний всегда старались разобраться в них до конца, и сами принимали все необходимые решения по их устранению. Исходили при этом из того, что нам на месте виднее, а также стараясь максимально разгрузить руководителей в Москве от наших проблем. После проведенных работ мы сообщали на фирму, что произошло и что нами сделано для устранения замечания, заканчивая обычно доклад словами: «Просим подтвердить правильность нашего решения». Постоянство этой формулировки часто становилось поводом для шуток.
Однако внедряемый порядок не все участники подготовки воспринимали с удовлетворением. На первых порах недовольны были испытатели. Недовольство возникало и среди некоторых офицеров испытательного управления. Дело в том, что полигону для выполнения работ по Н1-Л3 было выделена большое количество личного состава (на совещаниях озвучивалась цифра в 15 тыс. человек). Предполагалось в подчинении у молодых офицеров создать мощные отделы пневмогидравлических и электрических испытаний. Введенный порядок остановил организацию этих отделов, не характерные для военных работы были переданы заводу. Это, естественно, вызывало недовольство военных.
Неудовлетворенность армейских представителей методами наземной экспериментальной отработки наших изделий после второй аварии ракеты Н1 была выражена в письме главнокомандующего ракетными войсками маршала Н. И. Крылова на имя министра общего машиностроения С. А. Афанасьева. Был принят ряд конкретных мер по повышению надежности изделия. Среди прочих появилось и письмо заместителя министра Г. А. Тюлина на имя В. П. Мишина с предложением отменить введенный порядок подготовки головного блока. Письмо это вызвало определенную реакцию у военных, и Мишин вынужден был написать резолюцию: «Лыгину, Филину, Бугрову. К исполнению не принимать». Другие военные из представительства заказчика поддерживали наши нововведения.
Принятый нами порядок оказался устойчивым, не требовал никаких изменений и просуществовал до закрытия программы в 1974 году. Мы втроем стали друзьями на долгие годы, ездили в горы кататься на лыжах, выезжали на Куандарью, где великолепные условия для подводной охоты. За эти годы у нас сформировался дружный творческий коллектив ( рис. 5.6.2 ). За шесть лет для многих наших сотрудников работа по Л3 стала высшей ракетно-космической школой, а «двойка» на Байконуре – вторым домом. Умели не только трудиться, но и отдыхать. Летом играли по вечерам в футбол, а зимой – в хоккей на освещенной площадке, которую построил между гостиницами Лыгин. После возвращения с рыбалок, не прекращавшихся и зимой, гостиницы наполнялись запахом жареной рыбы и лука, а по коридорам деловито перемещались люди с графинами.
5.7. Как создавать межпланетные комплексы?
3 июля 1969 года отремонтированный герметичный приборный отсек ЛОКа сгорел в 2500 тоннах жидкого кислорода и керосина после взрыва едва поднявшейся над стартом ракеты Н1 № 5Л. Личный состав всех площадок, находившихся в районе старта, был эвакуирован в зону, расположенную на удалении в 20 км. Боевой расчет, участвующий в запуске, располагался в подземном бункере. Лыгин, Кожухов и я отвечали за эвакуацию всей команды из МИКа КО. Оставшись там, мы наблюдали старт и последующие события из торцевых окон с расстояния в 3 км. Скорее всего, мы были немногими, если не единственными свидетелями этого зрелища, видевшими его своими глазами с близкого расстояния.