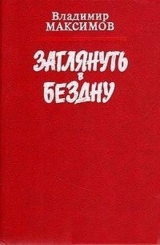
Текст книги "Заглянуть в бездну"
Автор книги: Владимир Максимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
5.
Из воспоминаний Г. К. Гинса: [5]5
Управляющий делами Совета министров в Правительстве.
[Закрыть]
«Из Тобольска Иртыш так широк, что не похож сам на себя. У самой реки, на низком берегу – главная часть города, позади крутая возвышенность, а на ней белеют стены кремля и блестят маковки церквей. Там находится большая часть официальных учреждений и сад с памятником Ермаку. Всюду глубокая старина и патриархальность. В церкви, что на берегу, посреди татарского базара, интересная историческая надпись о том, как храм этот сооружали в самом нечестивом месте и как татары хотели помешать этому, но „победило православие“.
В кремль ведет высокая и крутая каменная лестница. Подымаемся. Перед нами богомольная старушка, а навстречу спускается пьяный офицер. Он берет старушку за подбородок и говорит ей: „Иди, иди, старушенция, выпей“. Пьяных офицеров было, вообще, много. А между тем, о красных никто дурно не отзывается. Расстреляли двух: одного за организацию противосоветского отряда, другого, еврея-„буржуя“, за защиту своей собственности. В городе поддерживался порядок, пьяных не было. Когда уходили, увезли меха, городскую кассу и пожарный обоз, но никого не грабили.
В музее мы нашли комплект советских газет за период пребывания большевиков в Тобольске. Видно было, что газеты шаблонны и заготовлены заранее. В них разъяснялись задачи советской власти, приводились биографии выдающихся советских вождей, в частности, командующих, давались указания о необходимости уважать кооперацию, подымать производительность крестьянского хозяйства и т. д. Все было рассчитано на завоевание симпатий населения. Мотивы новые, незнакомые, не похожие на прежних большевиков.
Среди героев революции и красной армии особенно восхвалялся командующий красной дивизией, „товарищ“ Мрачковский. Судя по газете, этот рабочий обладал необычными способностями и железной волей. Одного взгляда на пленного белогвардейца было ему достаточно, чтобы определить, подлежит ли белогвардеец расстрелу или может быть принят на службу. Дисциплина у него строгая. В его дивизии каждый знает, что за малейшую провинность будет отвечать. Мы раньше не раз встречали фамилию Мрачковского в военных сводках. Возможно, что эта характеристика не отличалась преувеличением».
(От автора: Возможно. Но только ровно через шестнадцать лет «этот рабочий», который «обладал необычайными способностями и железной волей», будет ползать в ногах у начальника иностранного отдела ОГПУ Абрама Слуцкого, слезно вымаливая у него пощады, но так и не вымолит. Впрочем, спустя год тот же Слуцкий, вызванный в кабинет своего ближайшего дружка и собутыльника Фриновского, примет из его рук цианистый калий, а через месяц-другой и сам Михаил Фриновский отправится следом за ним. «Все-таки есть Бог! – воскликнет перед казнью их общий пахан Генрих Ягода, – есть!» Хоть перед смертью, но догадался-таки, сукин сын!)
«Другой советский „генерал“, Блюхер – тоже из рабочих. О нем мы много раз слыхали в пути. Крестьяне рассказывали, что всегда при трудных обстоятельствах красные говорили о Блюхере „он выручит“, „он нас не выдаст“. И, действительно, выручал».
(Снова от автора: Только когда пришел его собственный час, самого себя он выручить так и не смог: его не сохранили даже для того, чтобы расстрелять, забили насмерть на допросах. Увы!)
«Наиболее интересным в газетах было, однако, интервью преосвященного Иринарха. О нем говорил весь город, который, кстати сказать, представлялся вымершим: так мало было в нем народа после эвакуации всех правительственных учреждений.
С архиреем говорили об отношениях советской власти к церкви и об его впечатлениях о большевиках. Он отзывался о них хорошо. Сказал, что удивлен порядком и доброю нравственностью, что он считает Омск Вавилоном и что колчаковцы вели себя много хуже, чем красные. Преосвященный, в свою очередь, посетил совдеп. Ему показали издания классиков для народа, и он пришел в восторг. Далее выяснилось, что все церковное имущество останется неприкосновенным, но только церковь не может рассчитывать на содержание от казны. Архирей был доволен.
Теперь он встретил Адмирала с иконою и речью на тему: „Дух добра побеждает дух зла“».
(Еще раз от автора: Воистину так, владыка! По этой причине ты и сгинешь ровно через десять лет, ограбленный до нитки поклонниками «порядка и доброй нравственности» где-то на безымянном станке под Туруханском, и окоченевший труп твой без покаяния и молитвы бросят в ближайший сугроб на съедение прожорливым в эту пору песцам! Так-то.)
«Адмирал заходил в покои епископа. У крыльца его выхода ждала небольшая группа любопытных, преимущественно женщин и детей. Никакого воодушевления в городе не было».
6.
Тобольск запомнился Удальцову не историческими местами и даже не губернаторским домом, где до отъезда в Екатеринбург содержалась императорская семья, а мимолетной встречей, случившейся с ним около одной из городских церквей. Растерянно потоптавшись перед ее наглухо закрытыми дверями, он вдруг боковым зрением выделил в затененной части ограды сидящего на лавочке рядом с церковной сторожкой сухонького старичка в аккуратных лапотках и легкой поддевочке, устремленного в его сторону из-под затертого до лоска картуза темным, в густой бороде лицом. Старичок, будто ждал кого-то, всматривался в захожего гостя с вопросительным любопытством.
Удальцов повернул к нему, но тот, по мере его приближения, становился все отрешенней и равнодушнее, глядя куда-то поверх и через него.
– Здорово, отец, – опустился рядом с ним Удальцов, – не прогонишь?
– Сиди, коли сел, – бесстрастно ответил тот, продолжая слепо глядеть перед собой, – места хватит.
– Сторожуешь здесь, что ли?
– А чего тут сторожить, авось не убежит никуда.
– Утварь растащат.
– Не до утвари теперича людям, свое бы не потерять, а то и голову.
– Глядишь, пронесет.
– Нынче не пронесет, господин хороший, час земле пришел.
– Какой же?
– Урочный. Созрела земля наша грешная для большого мора и глада и для больших кровей.
– И что же будет, по-твоему?
– А будет, как в Писании сказано: новая земля и новое небо, все новое, а какое, один Бог знает. Знающие люди сказывают, кажинные тыщу лет эдак случается.
– Может, ты и прав, отец, только людей жалко.
– А чего их жалеть, люди что – Божья слизь, одну смоет, другая народится, чего жалеть, коли сами себя не жалеют, поглядишь на иного, а из него псиный волос прет, быдто из лесного зверя, а из ноздрей дым идет, хучь бери и запирай в замочную клеть.
– Я, отец, про невинных говорю.
– А иде ты их видал невинных-то, господин хороший?
– А Император, семья его в чем виноваты?
– Царь-то наш, господин, самый виноватый и есть. Упреждал его Григорий Ефимыч: не ходи на немца, нечего тебе с им делить, оба-два сгинете не за полушку, не послушал Божьего человека, по своему слабому разумению порешил, а Рассея таперича расхлебывай.
– Это Гришка-то Распутин Божий человек?
Только тут старичок резко повернулся к нему, с острой неприязнью проникнув его выцветшими, но не по возрасту зоркими глазами:
– Для тебя он, господин хороший, может, и Гришка, а для нас грешных – Григорий Ефимыч, святая душа, Царствие ему Небесное, за простой народ радетель перед царем и Господом.
– Видно, отец, мало ты о нем знаешь.
– А! – брезгливо отмахнулся тот. – Байки мне станешь сказывать о пьянках его да гулянках, об етом тебе тут всякий встречный-поперечный понарассказывает, ето усе шелуха, короста человеческая, от твари грех, а душа сама по себе живет, токо бы с Богом, а не супротив, а Григория Ефимыча душа с Богом жила, вот и дано ему было свыше, сподобился, святыми прозрениями озарен был.
– А с царем сладить не мог?
– Видал я этого царя, вот как тебя видал, нешто ему царем быть, нешто по плечам его такое-то царство, земля отцовская огнем горит, а он дрова пилит, царское ли это дело в эдакую пору?
– Что ж, по-твоему, ему делать было, отец?
– Не моего ума ето дело, но уж коли хочешь знать, то по моему убогому соображению, самому бы себя отдать катам на растерзание принародно, кровь бы его тогда по всей земле возопила, покойники и те услыхали, поднялся бы народ, ой как поднялся!
– Так ведь ты сам говоришь: срок земле пришел, может, и ему о том знамение было?
– Знамение знамением, а токмо в Писании сказано: Царствие Божие силой берется, Бог нам искуплением своим волю даровал выбирать себе судьбину, а не уповать на одне Его милости.
Старичок умолк, снова замкнувшись в своем выжидающем оцепенении. Удальцов, в свою очередь, задумался над только что сказанным, стараясь перебороть в себе соблазн продолжить этот опустошающий его душу разговор, но, когда в конце концов не выдержал искуса и вновь оборотился к собеседнику, того уже и след простыл, будто приснился, пригрезился наяву, не оставив после себя ни следа, ни отзвука.
«Вот так история, – смущенно озадачился он, – может, и впрямь пригрезилось: стареешь, Аркадий Никандрыч, стареешь!»
Вернувшись на судно, он подался было к себе, но, проходя мимо раскрытой двери кают-компании, услышал оттуда глуховатый голос Устрялова.
– Аркадий Никандрыч, не заглянете ли, у меня для вас имеется кое-что весьма занимательное!
Тот сидел за общим столом, обложенный со всех сторон целыми ворохами газет, брошюр и листовок самого разнообразного формата и величины.
– Вот полюбуйтесь-ка, Аркадий Никандрыч, – Устрялов протянул ему навстречу серый прямоугольник оберточной бумаги, – замечательный в своем роде документик, если хотите.
Это оказалась листовка из тех, что тысячами растекались тогда по самым глухим уголкам взбаламученной Сибири. Аляповатый набор, презрев какие-либо знаки препинания или правила синтаксиса, причудливо расплывался перед глазами. В тексте высокопарно сообщалось, что на Дальнем Востоке уже выступил Великий князь Михаил Александрович, что он назначил Ленина с Троцким своими министрами, что Семенов к нему присоединился и что осталось только общими силами добить Адмирала. Подписано все это было с исчерпывающей лапидарностью: Щетинкин.
– Бред какой-то, – досадливо поморщился Удальцов, – зачем только вы все это собираете, Николай Васильевич?
– Ох, не скажите, Аркадий Никандрыч, не так-то этот Щетинкин глуп. Сам он из мужиков, на германской пробился в офицерство, поэтому психологию свого брата-мужика знает превосходно. Он предлагает массе комбинацию, которая устроит всех. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Ведь главный вопрос для крестьянина сегодня один: за кем идти, чтобы не прогадать, а тут им в двух словах полная программа и думать больше не о чем. Вы не находите, Аркадий Никандрыч?
– Не так уж он глуп наш мужик, Николай Васильевич, вы человек сугубо городской, а я вырос в Сибири, среди крестьянства, на такой мякине его не проведешь, он у нас битый, стреляный воробей, мужик-то наш.
– Вы полагаете? – в вялых губах Устрялова утвердилась скептическая усмешка. – Мужик наш, Аркадий Никандрыч, по-моему, не столько умен, сколько хитер, на эту его хитрость Щетинкин и рассчитывает.
– Не просчитался бы.
– Не просчитается, Аркадий Никандрыч, уверяю вас, мужицкое царство нашему пахарю столетиями снилось, теперь он случая своего не упустит, с этой стихией Лейбе Троцкому вместе со всем его еврейским кагалом едва ли удастся справиться, перемелет она их, захлестнет и накроет с головой и навсегда, не по силам они себе задачу взяли, одними словами тут не обойдешься, а кроме слов, у них за душой ничего нет.
– А у Щетинкина?
– Щетинкины, Аркадий Никандрыч, знают, чего хотят, эта порода живуча, как дикая растительность, он-то сам, может, и сломает голову на своей партизанщине, но именно этот тип человека в конце концов одержит верх в нынешней драке, и ему принадлежит будущее. Крикуны и фанатики перегрызут друг друга в междоусобной драке, а щетинкины выждут своего часа и заполнят после них вакуум. Подлинные щетинкины даже не участвуют сейчас ни в чем, сидят себе по своим избам, покуривают да посматривают, им спешить некуда, чутье у них звериное, знают – время их впереди.
– В таком случае, что же вы предлагаете, Николай Васильич, у вас есть рецепт?
Скептическая усмешечка соскользнула с устряловских губ, он напрягся и отвердел:
– Драться до конца, перемолоть в этой драке как можно больше большевистской накипи, а после поражения идти на союз со щетинкиными, только с ними можно сделать Россию еще более могущественной, чем она была, другого пути у нас, истинных русских людей, нет.
(Скольких ты еще, Устрялов Николай Васильевич, соблазнишь этой романтической блажью, обрекши их на собственную Голгофу по всем девяти кругам гулаговского ада, пока, через пятнадцать лет, сам не сгинешь в той же беспощадной мясорубке, щетинкины, придя к власти, окажутся не большими патриотами России, чем Лейба Троцкий или Бела Кун!)
Удальцову вдруг почудилось, что в отечном и как бы сонном лице его собеседника проступили острые черты недавнего старичка, встреченного им у церкви: тот же зоркий взгляд, та же отчужденность от окружающего, та же упрямая уверенность в своей правоте. Но усилием воли он мгновенно стряхнул с себя возникшее наваждение:
– Чем со щетинкиными, – выговорил он, поворачивая к выходу, – лучше пулю в лоб.
И вышел.
7.
По возвращении в Омск худшее подтвердилось: 20 октября распространилось известие о взятии Петрограда, но уже на другой день оно было опровергнуто: кровопролитные бои под Царским Селом и Гатчиной завершились победой красных. Юденич отступал по всему фронту. Деникин же продолжал откатываться от Орла.
В кабинете Адмирала шли беспрерывные заседания. Правительство и общественность разделились на две непримиримые группировки: одна стояла за немедленную эвакуацию, другая – за оборону города до последнего. Каждая из сторон приводила неопровержимые, по ее мнению, доводы, но они наталкивались на столь же убедительные возражения. И все требовали от верховного правителя решающего слова.
Адмирал бесстрастно выслушивал спорящих, что-то чертил в блокноте перед собой, невидяще смотрел впереди себя в глубь кабинета и лишь после того, как пыл оппонентов, иссякнув, сошел на нет, заговорил, словно бы размышляя вслух:
– Если генерал Сахаров считает возможным защищаться, я не вправе ему мешать, победителей, как у нас говорят, не судят, мы должны ему дать шанс и полную карт-бланш, тем более, что эвакуация так или иначе равна поражению, почему не сделать последнюю попытку? Но я не возражаю против эвакуации желающих членов правительства и населения, в случае неудачи это облегчит отступление войскам. Лично я покину Омск только с войсками. Вы свободны, господа.
Отпустив присутствующих вялым кивком головы, он, как это уже повелось между ними в последние дни, предложил Удальцову остаться.
– По всему вижу, полковник, – проговорил Адмирал, когда за последним посетителем закрылась дверь, – что вы тоже считаете защиту Омска бессмысленной, но поймите меня: если я сам бессилен что-то предпринять, я обязан предоставить такую возможность любому, кто хочет сопротивляться!
– Ваше высокопревосходительство, ваши решения для меня – закон, я не могу и считаю даже немыслимым для себя обсуждать их. Считаю своим долгом следовать за вами, куда бы вы меня ни позвали.
Адмирал облегченно поднялся:
– Не знаю, как с кем, – темные глаза его празднично ожили, – а с начальником конвоя мне повезло. До завтра, полковник…
Заворачивая к себе, Удальцов зазвал за собой ординарца:
– Садись, Филя, – устало опустился он за стол против Егорычева, – есть у меня к тебе разговор, без чинов, как говорится, по-свойски. Человек ты молодой, но бывалый, вон сколько тебе пришлось пережить со мной вместе, скажи мне, положа руку на сердце, выдюжим мы или нет?
У того от неожиданности и напряжения даже испарина на лбу выступила:
– Наше дело маленькое, солдатское, вышевысокбродь Аркадий Никандрыч, начальству виднее.
– Да не прибедняйся ты, Филя, – подосадовал Удальцов, – знаю ведь я тебя, как себя знаю, у тебя на все свое суждение есть, мало, что ли, мы с тобой вместе хлеба-соли съели, чтоб друг от друга таиться?
Тот смущенно засопел, заерзал на краешке стула, заскучал глазами по сторонам:
– По правде говоря, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, не потянем боле, выдохся народ.
– А что говорят?
– Говорят, замиряться нужно, опять же комиссары в листках ихних землю сулят, а чего еще мужику надобно?
– Обманут ведь, Филя.
– Омманут, не омманут, а мужик верит, гадают, бабушка, мол, надвое сказала, а, глядишь, говорят, не омманут.
– Ну, а сам ты как думаешь?
– Мне и думать нечего, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, куда вы, туда и я, у меня с вами одне путя.
– А как посоветуешь?
– По мне, так часу ждать нельзя, уходить нужно, без задержки уходить, спасать Верховного и самим спасаться.
– И золото народное им оставить?
– А што золото, от народа уйдет, к народу и придет, не одним золотом жизнь красна.
– Куда уходить-то?
– А хоть к монголам или китайцам, не погибать же ни за что, ни про что, а там видно будет.
Удальцов встал:
– Ладно, Филя, иди, спасибо за правду.
Егорычев, поднявшись, потоптался было около стула в заметном смятении, словно собираясь добавить что-то к сказанному, но, видно, раздумал и тихонько, чуть не на цыпочках вышел из комнаты.
Лишь теперь, после разговора с ординарцем, Удальцов по-настоящему представил себе всю серьезность создавшегося положения. И первая забота, которая овладела им сразу вслед за этим, была связана с одним-единственным именем: Елена! Через полчаса он уже был в порту и звонил у двери Катушевых.
Ему открыл сам хозяин, еще более одышливый, чем обычно, и заметно опустившийся:
– Аркадий Никандрыч, голубчик, вас словно Бог к нам послал, – он пропустил гостя мимо себя, пахнув на него табачным запахом, – что делать, ума не приложу. – Катушев шел следом за ним, подсвечивая ему путь керосиновым ночником. – Дамы мои в совершеннейшей панике, хотят, жаждут бежать. Но куда и на чем, вот вопрос? На станции даже товарные поезда с боем берут, может быть, хоть вы что-нибудь посоветуете.
Слабо освещенная гостиная, в которой очутился Удальцов, походила на забитую до отказа камеру хранения, откуда навстречу ему устремились две пары вдруг загоревшихся надеждой женских глаз.
– Аркадий Никандрович, милый, – первой сорвалась с места Лена, – если бы вы знали, как я вас ждала.
И она, уже не стесняясь родителей, приникла к нему, голова ее оказалась на уровне его груди, и он, в восхищенном изнеможении склонившись над ней, бережно коснулся губами ее прически:
– Успокойтесь, Элен, прошу вас, все будет хорошо, я вам обещаю, вот увидите, все будет хорошо…
Потом в той же забитой кладью гостиной они сидели за наспех собранным чаем, за которым гость поспешил успокоить хозяев, поклявшись, чего бы это ему ни стоило, устроить им место в ближайшем спецэшелоне, с каким они доберутся хотя бы до Красноярска.
– Оттуда, – облегченно закончил он, – вам будет уже легче двигаться дальше, туда еще не докатилась общая паника.
– А вы? – она внезапно вскинула на него полные слез глаза.
– Элен, дорогая, я офицер, мой долг оставаться с Верховным до самого конца, но если судьбе суждено меня миловать, я найду вас, где бы вы ни были.
В том кошмарном бедламе, в каком им выпало существовать в те дни, это выглядело официальным предложением.
Лена сама пошла провожать его, и на крыльце, доверчиво прижимаясь к нему, она, как заведенная, повторяла одно и то же:
– Вы, правда, меня не забудете, Аркадий Никандрыч?.. Вы, правда, не забудете?.. Правда?
В ответ Удальцов молча, обмирая от нежности, гладил ее по голове: теперь он знал, что ему делать.
8.
Собрались у Брадзиловского. Двадцатишестилетний красавец, только что произведенный в генералы за блестящую операцию по выводу своей дивизии из окружения, первым с воодушевлением ухватился за идею Удальцова:
– Надо смотреть правде в глаза, господа, это не классическая война, где случай может повернуть фортуну на сто восемьдесят градусов, это гражданская бойня, в которой, к сожалению, все против нас: и фронт, и тыл. Необходимо спасти хотя бы что есть. С атаманщиной у нас не может быть ничего общего, и у Семенова нам делать нечего. Остается единственный выход: отступать к восточным границам и там, в Монголии или Китае, попытаться воссоздать боеспособную силу.
Апоплексическое лицо генерала Зенкевича страдальчески передернулось:
– Господа, господа, зачем же смотреть на вещи так пессимистически, вы забываете, что за нашей спиной стоят союзники, у которых по отношению к нам есть известные обязательства, они помогут нам пробиться на Дальний Восток!
Но тут взвился с места обычно помалкивающий поручик Мельник, зять погибшего в Екатеринбурге вместе с Императором доктора Боткина:
– О каких союзниках вы говорите, генерал? Если английский король отказался дать убежище своему двоюродному брату, то неужто вы полагаете, что ваш английский коллега генерал Нокс рискнет хоть чем-нибудь ради нас с вами? Или, может быть, вы надеетесь на другого вашего коллегу из бывших чешских костоломов – генерала Гайду, но единственное, в чем он поможет кому-нибудь, так это накинуть петлю вам же на шею, а о третьем вашем коллеге генерале Жанен мне даже говорить тошно, его давно по всем Божеским и человеческим законам надо было бы вздернуть на первой же русской осине, как Иуду. Что же касается свободолюбивых американцев, то они давно братаются с красными во Владивостоке. Не следует самообманываться, господа!
(Знать бы, знать бы тогда поручику Мельнику, что пройдет без малого пятьдесят лет и будущий сын его, Константин Мельник сделается начальником контрразведки в той самой стране, одному из генералов которой он намеревался подобрать в России вполне заслуженную этим генералом осину!)
– Молодо-зелено, господа, – вмешался в перепалку генерал Редько, только что прибывший в Омск с Тобольского фронта, где бросил свою Северную группу войск на волю случая и судьбы, да и оставалось ли там что-нибудь от этой группы, один Бог знал, – на зиму глядя в непролазную тайгу двигаться безумство; пока есть возможность, нам от Московской дороги ни на шаг нельзя отходить, только в ней спасение.
– Под железнодорожным конвоем союзников, – бросил кто-то безликий из притемненного угла комнаты. – До самых чекистских заслонов.
Видно, решив, что в один вечер договориться о чем-либо будет трудно, Зенкевич решил разрядить атмосферу, примирительно заключив:
– Сколько бы мы здесь ни спорили, господа, за спиной у Верховного мы не вправе делать какие-либо заключения, только он может разрешить наш спор. Поэтому необходимо, чтобы кто-то из нас взял на себя ответственность в подходящий момент доложить Адмиралу суть нашего сегодняшнего разговора Предупреждаю заранее, господа, я отказываюсь.
Воцарилось красноречивое молчание, догадывались, что подобного рода объяснение с Верховным правителем могло окончиться для смельчака более чем печально.
После паузы, которой, казалось, не будет конца, поднялся Удальцов.
– Разрешите мне, господа?
На том и разошлись.








