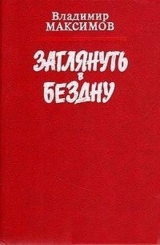
Текст книги "Заглянуть в бездну"
Автор книги: Владимир Максимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
3.
Из Инокентьевской уходили затемно. И хотя на станционных складах брошенного красными интендантства людей удалось наспех, но сносно обмундировать, начатый путь оказался не легче предыдущего.
Вчерашний мороз сменился слепящей метелью, на протяжении вытянутой руки уже исчезало всякое представление о пространстве. Шли по наитию, следом за проводником, давно потерявшим какие либо ориентиры. В этом движении было что-то сомнамбулическое, настолько оно выглядело бессмысленным и хаотическим. Люди инстинктивно жались друг к другу, но это их вынужденное сплочение не объединяло идущих, а лишь спекалось в них безнадежным ожесточением: сколько можно терпеть, и когда все это кончится? И ради чего?
Поэтому, когда после двух часов марша сквозь метельное крошево перед ними вдруг обозначилась смутная россыпь огней, это выглядело миражом, галлюцинацией больного воображения: никакого жилья на многие версты вокруг никем не предвиделось. Но едва до их сознания дошло, что армия просто сбилась с дороги и впереди снова все тот же, ставший уже их наваждением и проклятием Иркутск, по изломанным рядам прошелестело решительное облегчение: надо брать! Брать, чтобы, одним последним рывком смяв на своем пути любое сопротивление, очутиться наконец в спасительном тепле, под защитой домашнего крова.
Думалось, еще мгновение, и вся эта, окрыленная внезапной надеждой людская масса, не ожидая приказа, ринется сквозь снежную замять навстречу светящимся впереди огням, и уже никакая сила окажется не в состоянии остановить ее, но в этот самый момент, когда неизбежное должно было бы вот-вот произойти, от головного конца колонны, наподобие волны морского отлива, покатилась над головами охлаждающая пыл команда:
– Поворачива-а-ай!.. Продолжать на юго-восток!
Дальше не шли, а вьюжная темень несла их без руля и ветрил, вверяя идущих воле судьбы и случая. Прощай, Иркутск!
Еще в Инокентьевской Удальцов отказался от предложенной ему в штабе лошади и шел вместе с Егорычевым в солдатском строю, целиком отдавшись общему потоку. После разговора с Войцеховским он лишь утвердился в убеждении, что дело проиграно. И проиграно окончательно. Никаким, даже сверхчеловеческим военным искусством невозможно было теперь ни предотвратить, ни остановить инерцию поразившего страну тотального распада, развала, разрушения. Земля, в крови и крике, словно бы сбрасывала с себя отжившую кожу, выпирая из-под коросты и омертвелой шелухи новым обличьем и другой статью. Можно было кричать, изводиться от бессильного гнева, выгорать в ненависти, пролить еще много и много крови, но изменить естественного развития событий это уже не могло: происходила неподъемная для нормального человека смена эпох. Поэтому он решил выходить из игры, не ожидая, пока колесница русского лихолетья подомнет его под себя, обратив в пыль или пепел своей очередной смуты.
С отступающей армией ему было только до Мысовска, оттуда пути их сразу же расходились: отступавшим войскам предстоял затяжной марш на восток, а Удальцову с Егорычевым – дорога на юг, вдоль по Иркуту до самой монгольской границы и дальше – в Китай.
«Может и прав Войцеховский, не лукавил попусту, светского приличия ради, – думал Удальцов, сгибаясь под секущим ветром, – перебесится русский мужик, войдет в разум, тогда и начать все заново».
Мутный рассвет застал каппелевцев уже верстах в пятнадцати от Иркутска в небольшой деревушке, откуда, едва обсохнув и накормив лошадей, двинулись дальше – к желанному Байкалу.
Марш на Лиственничное длился весь день и всю следующую ночь. Лишь к утру, в начале вторых суток пути, лес раздвинулся, обнажив впереди дымчатую гладь незамерзающего устья Ангары, а следом за этим – курящиеся трубы заснеженных крыш раскидистого села на берегу.
Вдали за рекой, над зубчатой линией скалистых гор, всплывало багровое, в дымном мареве солнце, окрашивая белую пустыню отдаленного озера в чуть розоватые оттенки. Там, на другом берегу этого озера, людей ожидало если не окончательное спасение, то, во всяком случае, первый на их крестном пути долгий отдых, но туда еще надо было пробиться, а хватит ли у них для этого сил, никто не знал, слишком уж много испытали они позади.
Хозяин дома, куда сноровистый Егорычев устроил на постой своего командира, оказался долговязый мужик из бывших канониров, помнивший Адмирала еще по русско-японской кампании.
Принимая гостя, с любопытством пошарил по нему с головы до ног, обмяк жестким лицом:
– Эх-ма, ваше благородие, вот оно как дело-то оборачивается, жила-была Рассея-матушка, во все концы корабельным носом упиралась, поглядеть – сдвинь ее попробуй с места, живот надорвешь, а как пришлось за себя постоять, так и потекла по всем пазам, собирай ее теперя ложками, – но, видно, проникшись наконец состоянием гостя, спохватился. – Ладно, чего уж там, располагайтесь, ваше благородие, – и уже куда-то, в глубину дома: – Мать, где ты там, мечи-ка на стол что есть, по такому случаю спозаранку пополднюем, – и снова к Удальцову, добродушно подмигивая: – А к вечеру и баньку истопим, так-то, ваше благородие!
Подхваченный волной блаженного тепла и жадного насыщения, Удальцов плыл в полусонном тумане, едва различая вокруг себя лица и голоса, а когда, после черного провала в памяти, очнулся, хозяин, в валяных опорках на босу ногу и полушубке, накинутом прямо на исподнее, стоял над ним, беззлобно посмеиваясь:
– Ишь, как тебя уходило, ваше благородие, прямо снопом свалился, будто подкошенный, даже будить жалко, да только банька застынет, еще жалчее, попаримся всласть, дурь из костей выгоним, а там закусим и сызнова на боковую.
Потом, в банном пару, изламываясь долговязым телом под хлестом собственного веника, он отечески втолковывал вконец разомлевшему Удальцову:
– Мне ординарец твой баял, ваше благородие, будто вы с им к монголам наладились, так мой тебе совет: одолеешь Байкал, дальше не ходи, зимой вам туда никак не добраться, тут в эту пору и местные-то далеко не ходят, а вы с непривычки и вовсе сгинете, – он вдруг шепотно понизил голос, словно кто-то мог его здесь услышать. – Слышь, ваше благородие, имеется у меня на той стороне, в сельце так дворов на двадцать, друг-приятель, Иваном Малявиным кличут, зверем-рыбой промышляет, у него зимовья чуть ли не по всему Иркуту заложены, я вас к нему налажу, скажешь – от Силантьича, сразу примет, он вас до весны где хошь скроет, перезимуете, а как подсохнет, можно и к монголам, по суху недалёко, а в Мысовск не советую, мало чего там в Мысовске этом деется, может, уже красные шуруют али близко к тому.
Пар клубился под закопченным потолком, темной бездной льнула к окошку ночь, пахло дымом, застарелой смолой и прелым мочалом. Хотелось лежать вот так, не двигаясь, сладостно избывая из себя, казалось, въевшуюся в самое нутро стужу и не думать ни о чем, забыть обо всем на свете, тем более о завтрашнем или вчерашнем дне.
«Не ловушка ли это? – лениво шевельнулось в нем, но тут же отлегло. – Впрочем, едва ли, какая ему корысть, одна морока?»
Тот сверху снисходительно хохотнул:
– Ординарец у тебя орел, ваше благородие, он в Инокентьевской добра нахапал, на три зимовки хватит, а то и больше, одних пим по две пары на брата да амуниции разной мешок, как только унес. Насчет провианту – Иван от себя подкинет, промышлять можно навостриться, не такая уж мудреная наука, были бы руки-ноги да ружьишко какое-никакое, а уды ставить слепой справится.
– Байкал большой, не заблудиться бы.
– Дорога тут, ваше благородие, проще простого, – он опять перешел на полушепот. – Как Мысовск покажется, отваливай от своих и бери сразу по правую руку, там ходу вам останется версты две, не больше, берег один, не заблудишься, в любую избу стучи, моим званием всяк откроет, а уж Малявин Иван там первейший человек, не боись, ваше благородие, однова живем…
После бани, распаренные и умиротворенные, они сидели в чистой горнице под озаренными робкой лампадкой образами за холодной бражкой с пельменями, и хозяин изливал перед гостем наболевшую за эти годы душу:
– Четверо их было у меня, ваше благородие, один к одному, без одного изъяну народились, молодцами выросли, за ими хозяйство у меня, как за каменной стеной стояло, а нынче где они – сыны мои, ищи ветра в поле, трое с белыми ушли, один к красным подался, однех со старухой оставили да и сгинули невесть в какой стороне, вот и скажи ты мне, ваше благородие, за что, за какие грехи на нас такая напасть?
Проникаясь его болью, Удальцов вместе с ним изводился той же мукой и тем же недоумением: за что, почему, за какую непростительную вину огромная страна со всем сущим и содержащимся в ней ввергнута теперь в столь непосильное для нее испытание? Изводился, но не находил ответа. Целый мир, в котором он вырос и с которым были связаны все его представления о добре и зле, рассыпался, рушился у него на глазах, отлагая трещины своего распада даже в таких вот, рубленных из вековых кедров и казавшихся еще вчера несокрушимыми деревенских избах. И опять, снова и снова, подступал горьким комком к горлу все тот же вопрос: за что?
С этим он засыпал, проваливаясь в ночное забытье, с этим и поднялся, чтобы под напутствия хозяев присоединиться к армейской колонне, темной лентой потянувшейся на байкальский лед.
Но путь к желанному сельцу оказался не таким коротким, каким он виделся из Лиственничного. Байкал трещал из конца в конец, артиллерийской канонадой отдаваясь в морозном воздухе. Казалось, некий огромный зверь, пробуждаясь, пытается сбросить с себя ледяной панцирь и высвободиться. Вконец обезножившие на льду лошади храпели и прядали ушами, дергали по сторонам, чувствуя под собой беспокойную бездну. Кованные обычными, без шипов, подковами, они скользили по ледяному зеркалу, спотыкались на каждом шагу, зачастую падали, не выдержав напряжения. И только люди, будто скроенные из бесчувственного материала, продолжали двигаться, пригибая голову против обжигающего ветра и не оборачиваясь.
Верхом, на санях, пешим ходом они тянулись следом за проводниками, наводили из досок и бревен временные мосты над полыньями и трещинами, подбирали падающих и сторонились павших. В этом исступленном порыве пробиться к другому берегу между ними впервые стерлась, сошла на-нет разница в чинах и званиях, навсегда уравняв их перед лицом смертельной опасности. На любом месте, от выпряжки обессилевших лошадей до наведения переправ, генерал не уступал в сноровке младшему офицеру или солдату.
Скудное февральское солнце словно бы нехотя перекатывалось над завьюженным пространством, но не грело, не светило, не радовало. И лишь медленно матереющий впереди силуэт горной гряды на том берегу пробуждал надежду и сообщал людям силы, чтоб продолжать путь.
Наконец, на самом исходе дня впереди явственно определились признаки близкого жилья: с той стороны потянуло дровяным дымом, а вскоре в метельных сумерках проклюнулись первые огоньки: Мысовск!
Наказав ординарцу задержаться и ждать его возвращения, Удальцов поспешил в голову колонны, туда, где сквозь густеющий туман маячил над головами штабной значок.
За эти дни Войцеховский заметно сдал, лицо осунулось, плечи ссутулились, подернутый болезненным туманцем взгляд уткнулся в Удальцова с виноватой беспомощностью:
– Вот, полковник, и я занемог, – он сидел в розвальнях, зябко кутаясь в просторный тулуп, – глядишь, вот-вот за покойным Владимиром Оскарычем последую. Что у вас?
Удальцову было теперь не до условных соболезнований, вместо этого он одним духом, почти по-уставному выложил:
– Позвольте проститься, Ваше высокопревосходительство, следую вашему совету, хочу свернуть мимо Мысовска, сократить дорогу.
Тот мгновенно оживился, из-под жаркого туманца в глазах блеснула одобрительная заинтересованность:
– Не смею удерживать, полковник, Бог вам в помощь, – и все же напоследок не удержался от красного словца. – Только помните, полковник, Россия в нас еще верит.
Но, поворачиваясь к ожидавшему его ординарцу, Удальцов больше не слышал Главнокомандующего, а спустя час, путники уже стучались в первые попавшиеся ворота обещанного им Силантьичем сельца.
4.
Малявин оказался мужиком, на слово и подъем медлительным, с лицом мальчика-перестарка и лопатистого вида руками. Привет от Силантьича принял молча, лишь головой тяжелой кивнул, гостей выслушал так, будто все это ему было не впервой, а укладывая их после скорого ужина по лавкам, только и сказал себе бабьим голоском:
– Утро вечера мудренее.
Но разбудил чуть свет, уже одетый для долгой дороги.
– Попотчуйтесь, господа хорошие, чем Бог послал да и наладимся по морозцу, – подумал, подумал, как бы прикидывая, добавить ли словцо-другое, решил, видно, расщедриться. – Тут до моей заимки рукой подать, верст сорок, даст Бог, перезимуете помаленьку.
Сборы были недолгими, а завтрак и того короче. Хозяйка, полная противоположность мужу, подвижная и моложавая еще бабенка в темном платке, повязанном по самые брови, потчуя гостей на скорую руку, словоохотливо рассыпалась перед ними:
– Ешьте, ешьте, касатики, хучь наспех, зато от пуза, а на дорожку-то я вам разного наложила: и мясца, и рыбки, и шанежек напекла, девятерым хватит, все одно, люди бают, красные придут, добро наше прахом развеется, до смерти замордуют, хучь в тайгу уходи да ить и там углядят, – и вдруг тревожно стрельнула поочередно по тому и другому быстрым глазом. – Там у нас на займище-то девка наша младшая, Дарья, управляется, дак вы, молодцы, не больно-то раззадоривайтесь, она у нас така, што, осерди только, своего не пожалует, не токмо чужого, а ежели с ей по-хорошему, клад девка, у ей вы, как у Бога за пазухой отзимуете… Ну, Христос с вами!
Уже во дворе, вставая на лыжи, Малявин снова, будто нехотя, отговорился в сторону спутников:
– Лыжным ходом хаживали хоть? Дело нехитрое, вставай крепче да и двигай ногами туда-сюда, в мой след. Ну, с Богом!
И заскользил в распахнутые ворота в синеющий рассвет впереди. Уходил он вроде бы неспешно, с некоторой даже ленцой, ухитряясь при этом тянуть за собой еще и санки с кладью, а успевать за ним с непривычки оказалось непросто: широкие, походившие более на доски с загнутыми торцами лыжи непослушно размазывали лыжню в разные стороны, зарывались на спусках в снег и гирями обвисали на ногах при подъемах, словно и думать забыли о своих незадачливых спутниках.
Но, как водится, лиха беда начало. Постепенно нога свыкалась с лыжным креплением, чутко ощущая снежный покров под собой, дыхание выравнивалось, тело наливалось упругостью и теплотой: видно, опыт предыдущего пути не прошел для них попусту… И вскоре они уже уверенно держались в хвосте у Малявина, почти не уступая ему в сноровистой легкости хода.
Вековой кедрач в снежных шлемах с ледяными подвесками нависал над их головами и сквозь редкие его просветы под ноги им стекало чадное солнце студеного утра. Стояла такая тишь, что не верилось, будто где-то совсем рядом, может быть, всего в дне пути отсюда, в громе и грохоте испепеляется растерзанная междоусобная войной земля. Господи, неужели этот кошмар теперь позади и не гонится больше по пятам за ними!
Уже вызвездило, когда малявинский силуэт впереди вдруг замер и оттуда, из глубины густеющих сумерек, дотянулось до них тоненькое:
– Притопали…
И, словно отозвавшись на его слово, в хвойной темноте, чуть поодаль от них, перед ними обнажился слегка сплюснутый с боков, тускло освещенный изнутри прямоугольник двери, и оттуда потянуло обжитым жильем, сухим деревом, печным духом, а из проема скользнула навстречу им ломкая, на излете тень:
– Папаня, вы?
Потом, в неверном озарении светильной плошки, тень обернулась подбористой девахой в россыпи веснушек на скуластом лице и с выбивавшейся из-под платка темно-рыжей куделью. Собирая на стол и возясь у печки, она временами с любопытством постреливала в сторону гостей быстрым – в мать! – глазом, но, однако, – и это уже в отца! – настороженно помалкивала.
По всему видно было, что зимовье это рубилось умелой рукой и надолго, если не на века: из матерых, в добрых два обхвата лиственниц, с полом из неотесанного кедрача, широкими нарами по торцовым стенам и приземистой с лежанкой печью в углу справа от двери.
«В такой крепости, – одобрительно осмотрелся Удальцов,– до второго пришествия зимовать можно».
Задувая огонь и укладываясь, Малявин скупо просветил гостей насчет их будущей жизни:
– Завтрева лапнику наломаете, мягче перины будет, остатнему девка научит, она у нас на всякое дело быстрая,– помолчал, недобро добавил: – На руку особливо.
Пожалуй, впервые за последние годы Удальцов проснулся без угнетающих дум о предстоящем дне. Некуда было спешить, не о чем хлопотать и нечего опасаться. Он словно возвращался в свое естественное состояние после изнурительной и затяжной болезни. Сейчас его даже думать не тянуло о будущем, настолько отдаленным и призрачным оно ему представлялось. Хотелось лежать вот так, неподвижно глядя в прокопченный потолок, с блаженным ощущением вытекающей из всех пор и мускулов усталости. Утоли, Господи, моя печали!
Свет ослепительного утра струился вовнутрь сквозь раструб единственного окошка на лицевой стене зимовейки. В занявшейся новым теплом печи потрескивали горячие сучья. Пахло сухим корьем, паленой овчиной, горелой шелухой картофеля.
«До весны-то срок еще долгий, – мысленно одернул себя он, – не заметишь, как обабишься».
У печного зёва, на корточках, спиной к нему сидела вчерашняя деваха, сноровисто заталкивая в огонь обледенелые с мороза плахи. Торчавшие из-под платка темно-рыжие кудельки покачивались в такт ее движениям у нее над вспотевшими висками, словно огненные спиральки от печного пламени.
И тут же, боковым зрением, Удальцов перехватил жадно устремленный в ее же сторону взгляд своего ординарца, от которого исходил такой заряд тоскливого восхищения, что она, видно, и сама это почувствовала, обернулась, насмешливо озарившись всеми своими веснушками сразу:
– Очухались, мужики? – она вытянулась перед ними невысокой, но ладной фигурой. – Пора и честь знать, картошка стынет!
Февраль на дворе доживал необычно тихим и солнечным, без долгих метелей и хиуса. Белая стынь вокруг держалась еще крепко, вся в метельных наметах, застругах, снеговых гармошках, блистала на взгорьях ледяными залысинами, но что-то под ее промерзшей толщей уже сдвинулось, треснуло, вбирая в себя сонное пока пробуждение стосковавшейся по теплу земли: все чаще осыпались с хвойных подкрылков снежные шапки, все говорливее становились лунки в протоках, все томительнее тянулись закатные вечера.
Днем Удальцов старался пореже показываться в зимовье или около, лишь бы не смущать ординарца своим присутствием: тот усыхал, заострялся на глазах, обгорал, наверное, первым в своей жизни молодым обожанием. Филя тенью повсюду следовал за Дарьей, на лету, по мимолетному взгляду, слабой улыбке, малому движению угадывал ее в нем надобность, чтобы тут же, не мешкая, угодить ей, а по ночам тяжело ворочался у себя на нарах, протяжно вздыхал и даже слегка постанывал.
Время от времени наведывался Малявин, зорко посматривал по сторонам, видно, догадываясь о чем-то, насмешливо хмыкал, многозначительно покачивал лобастой головой и, после недолгих хлопот по хозяйству, не говоря ни слова, отправлялся восвояси.
Удальцов днями кружил по распадкам, борам и протокам, в долгих раздумьях подводил итоги минувшему и строил планы на будущее. Теперь, когда окончательно определился необратимый уже, по его мнению, исход того дела, которому он отдал последние годы своей жизни, его вдруг стали кровно волновать вещи, которые еще вчера представлялись ему если и важными, но не первостепенными: дом, семья, место под солнцем, хлеб насущный, о каком раньше у него даже не было времени думать.
Снова и снова прокручивал он про себя свою последнюю встречу с Элен в Красноярске. Что с ней, где она, смогла ли добраться до Владивостока? В памяти Удальцова всплывало ее, совсем еще детское, лицо и почти отчаянная мольба, долгим эхом звучавшая в нем на всем его последующем пути: «Вы, правда, меня не забудете, Аркадий Никандрыч?» Сердце его при этом обморочно падало от сострадания и любви.
«Вот уж воистину сильнее смерти, – пытался посмеиваться он над собой, – перед ней все равны: и я, и Адмирал, и Егорычев!»
Но смех соленым комком застревал у него в горле. Чем дольше он оставался наедине с собой, тем острее и неотступнее преследовала его память о ней. Он найдет ее, найдет даже на краю света. Она должна, она обязана выбраться из этого ада живой и невредимой не только ради себя, но и ради него, вернее, ради них обоих!
Удальцов заранее знал, что найти Элен будет не просто, как непросто встретиться в океане двум каплям дождя, пролитым над противоположными берегами, но он верил в свою звезду, к тому же, в мире существовали люди, много людей, которые были должны, обязаны были ему в этом помочь. И в первую очередь – Нокс. Ведь поклялся же тот тогда, после тобольской передряги, протянуть ему руку помощи, когда бы он этой руки не попросил. Словом английского офицера поклялся!
Дни тем временем складывались в недели, а те в свою очередь принимались отсчитывать месяцы. Исподволь источался снег, наливались хрупкой синевой озерца и протоки, сиротел, наливался корявой чернью окружающий лес, а вскоре на луговых прогалинах выбросил первые стрелки свежий травяной покров. Весна отряхивала землю от праха и тлена зимнего забытья.
Той порой, как-то под вечер, когда зажгли светильную плошку, дверь зимовейки с коротким треском распахнулась, и через порог вовнутрь сплошным потоком хлынула людская лава – смешение малахаев, бород, дубленой овчины и сапог:
– Нишкни на месте!
Но лава тут же лохматым полукольцом растеклась по зимовью, уступая дорогу человеку с изможденным, но еще очень молодым лицом, на котором малярийно поблескивали тревожно-беспокойные глаза. Он был в офицерской папахе и шинели с притороченным к ней меховым воротником:
– Кто хозяин? – не выговорил, а скорее прокашлял он и мгновенно тревожным взглядом выделил из всех Удальцова. – Ты?
Тот выступил впред:
– Что вы хотите?
Беспокойные глаза вдруг с пристальным вниманием остановились на Удальцове, гость некоторое время с видимым недоумением вглядывался в него, затем повелительно повернулся к сопровождающим:
– Всем выйти! – и к Дарье с Егорычевым: – И вам тоже, – после того, как дверь за людьми закрылась, он, отступив, устало прислонился к ней спиной. – Кто вы?
Запираться было бессмысленно: его могли прикончить на месте, если не выбить из него признание:
– Я полковник Удальцов, бывший начальник конвоя Адмирала, – в нем почему-то, от слова к слову, нарастала уверенность в том, что с этим, рано состарившимся мальчиком ему удастся договориться. – Что вам здесь нужно и с кем имею честь?
– Корнет Савин, честь имею, полковник, – на его изможденном лице обозначилось нечто вроде улыбки. – Честно говоря, я и сам не знаю, что мне нужно, собрал вот с бору по сосенке разный сброд и кружу с ним по здешним лесам без всякого толку, одним словом, вольница, – прикрыл бессильно глаза, откинулся папахой к притолоке. – У всех теперь свои знамена: у кого красные, у кого белые, у кого зеленые, один я без знамени, просто так кровь лью: и тех, и других, и третьих, – истончившиеся губы его передернулись в нескрываемой муке. – Предлагал ведь я себя Адмиралу, полковник, еще в Японии предлагал, нет, не поверил, не взял, пустяками отговорился, а ведь могли бы мы еще тогда, – последние слова он почти выкрикнул, – могли бы, была сила!
– Нет, не могли бы, корнет, никто не мог бы.
– Почему же, – исходил в своей муке тот, – почему же, полковник?
– Это не бунт, корнет, это обвал, а от обвала, как известно, может спасти только чудо, но чуда, к сожалению, не случилось.
– Что ж, – тот снова заострился и отвердел, – тогда пусть каждый платит за свое сам, лучше уж погибнуть с моим сбродом, чем сдаться на милость победителя, да еще такого победителя! – он, хотя явно и без особой надежды, поискал в собеседнике. – Может, вместе, полковник, а? Я за свое атаманство не держусь, готов подчиняться, скажите только слово, полковник. Хлопнем на прощанье дверью на всю Сибирь?
– Нет, корнет, у меня другие планы.
Уже полуобернувшись к нему и взявшись за дверную скобу, Савин вдруг спросил его:
– А знаете, как Адмирал закончил? – но не стал ждать ответа. – Хорошо закончил, полковник, нам бы так, да, видно, порода не та, но Анну Васильевну не тронули пока, держат еще, да, – взяв на себя скобу, прощально блеснул в сторону собеседника. – Ладно, живите по своим планам, полковник, Бог вам судья!
И вышел, тихо прикрыв за собой дверь.
Наутро, оставшись наедине с ординарцем, Удальцов решительно поделился с ним:
– Пора уходить, Филя, засиделись мы тут.
Но по тому, как мгновенно тот отшатнулся от него в виноватой растерянности, он понял, что уходить ему отныне придется одному.
А Егорычев уже спешил, захлебывался жалкими оправданиями:
– Извиняйте, Христа ради, ваше благородие, куда я дальше пойду, от добра добра не ищут, мы уж и сговорились с Дарьей, Малявин опять же не против, мужиков ныне с руками рвут, работников совсем не осталось, все кто по фронтам, кто в сырой земле отсыпается, почну крестьянствовать, своим домом обзаведусь, детишки пойдут, чего ж мне еще искать по свету, да и отыщу ли?
– Замордуют ведь, Филя! – попробовал образумить его Удальцов. – Не простят адмиральскую службу!
– А чего с меня взять, Ваше благородие, Аркадий Никандрыч? Солдат он солдат и есть, солдата куда пошлют, туда и идет, не по своей воле живет солдат, кому неведомо?
Спрашивал он и при этом виновато облучал Удальцова преданными по-собачьи глазами.
– Тебе видней, Филя, у тебя своя жизнь, у меня – своя, – безвольно покорялся Удальцов его исступленному напору. – Не мне тебя неволить. – Тот порывисто потянулся было губами к его руке, но он не разделил порыва, убрал ее за спину. – Ладно, Филя, собраться только помоги…
Удальцов ушел, едва засинела ночь за окошком. Ушел не прощаясь, жалко было будить их.








