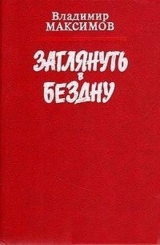
Текст книги "Заглянуть в бездну"
Автор книги: Владимир Максимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
11.
В ярко освещенной зимним солнцем комнате перед ним собралось четверо. Разглядывая их по одному, он не находил в них ничего такого, что отличало бы хотя бы одного из них от простых смертных единой чертой или повадкой. Встреть такого случайно на улице, пройдешь мимо, даже не заметив. Но вот теперь именно им – этим четверым, предстояло вести допрос и решать его судьбу.
Да и сам допрос менее всего походил на допрос. Это было скорее нечто среднее между праздным разговором и школьным экзаменом, где стороны заранее знают, о чем пойдет речь. Он старательно пересказывал им свою биографию (будто они ее сами не знали!), политические взгляды (словно взгляды эти оставались для них секретом!), историю его деятельности на посту Верховного Правителя (деятельность эта была им известна лучше, чем ему самому!), а следователи благодушно попивали себе чаёк (впрочем, подследственного тоже не обносили!) да посматривали на него с неослабевающим любопытством.
Собственно, из всех четверых и старался-то только один, некто Алексинский, этакий въедливый господин с обличьем испитого сельского учителя. Он явно дорвался до своего звездного часа и старался вовсю, но, особенно не поддержанный остальными, тоже вскоре заразился общей вялостью и сник, уступая очередной вопрос кому-либо из коллег.
Они словно бы играли с ним в какую-то еще непонятную ему игру. Постепенно у него стало складываться впечатление, что у них самих нет уверенности в своем праве вести такой допрос, что судьба его решается не ими и что все происходит по инерции, в ожидании некоего подлинного хозяина положения, который и должен будет решить участь арестованного.
Поэтому, машинально отвечая на вопросы, он стал теперь мысленно конструировать для себя прошлое каждого из следователей, и это отвлекало его от томительных мыслей о завтрашнем дне.
Кем бы мог, например, быть Председатель Попов в своей прошлой жизни? По внешнему облику, по манере двигаться и немногословности в нем чувствовался полуинтеллигентный мастеровой из кадровых подпольщиков, а вот в его заместителе со странной фамилией Денике проглядывался скорее тип хлопотливого, но не слишком удачливого земца с большими, хотя и едва ли осуществимыми амбициями.
Особенно Адмирала заинтересовал четвертый член комиссии – Лукьянчиков, более других походивший на судейского, но за все дни допроса так и не проронивший ни единого слова, даже поглядывавший на него временами с некоторым сочувствием.
«Что он, кто он, – терялся Адмирал в догадках. – На чиновника не похож, на „светлую личность“ из обиженных тоже, слишком интеллигентен для этого, тогда кто же он все-таки?»
Его занятиям физиономистикой положило конец появление на очередном заседании быстрого в движениях, грачиного облика человека в щегольской солдатской гимнастерке, перепоясанной наборным кавказским ремешком. С этого дня Адмиралом занялись всерьез, хотя сам новоприбывший в разговоре участия не принимал, сидел себе, поигрывая своим ремешком, искоса поглядывая на подследственного.
Но в нескрываемом нетерпении, с каким тот выслушивал вопросы и ответы, в той почти неуловимой непоседливости, с которой он обсиживал свое место, и в самом этом его нервном поигрывании ремешком сквозила уверенная повадка человека, облеченного настоящей, а не одной лишь видимой властью. Машина допроса сразу же закрутилась, избегая длиннот и каких-либо околичностей. Речь теперь шла только о фактах и месте этих фактов в общей цепи доказательств.
К тому же, Адмирал сразу отметил, что с появлением этого непоседливого грача чаем его стали обносить, но всякий раз, когда стаканы проплывали мимо него, рука Лукьянчикова, будто невзначай, пододвигала ему свой. В таких случаях Адмирал благодарно кивал, но тот мгновенно отворачивался от него.
«Господи, – удивлялся он, – есть ведь и среди таких вот нормальные люди!» А про грача сразу подумал «Мелок, ты, брат, мелок, а в большую власть войдешь, еще мельче станешь!»
И чувствуя, что развязка скользяще устремилась к концу, стал с большей охотой возвращаться к себе в почти нетопленную камеру, чем сидеть в этой ярко освещенной январским солнцем и жаркой комнате за уже ничего не означавшими в его судьбе разговорами с чужими для него людьми. Там, в тюрьме, у него все еще оставалась возможность встречаться с Анной на прогулках и разговаривать, разговаривать, разговаривать с ней.
Когда перед очередным допросом его после завтрака вывели на прогулку (о, если бы ему знать тогда, что эта его прогулка с ней будет в их жизни последней!), он, взяв по обыкновению ее руки в свои, вдруг почти с детским восторгом просиял в лицо ей:
– А что, Анна Васильевна, неплохо мы с вами жили в Японии!..
Это было последнее, что она услышала от него на земле.
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА
21 января 1920 г.
Председатель:Вы присутствуете перед Следственной Комиссией в составе ее Председателя Попова, заместителя председателя В. П. Денике, членов комиссии: Г. Г. Лукьянчикова и Алексеевского для допроса по поводу Вашего задержания. Вы адмирал Колчак?
Адмирал:Да, я адмирал Колчак.
Председатель:Мы предупреждаем Вас, что Вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому Чрезвычайно-Следственной Комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов. Вам сколько лет?
Адмирал:Я родился в 1873 году, мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде на Обуховском заводе. Я женат формально законным браком, имею одного сына в возрасте 9 лет.
Председатель:Вы являлись Верховным Правителем?
Адмирал:Я был Верховным Правителем в Омске Российского Правительства – его называли Всероссийским, но я лично этого термина не употреблял. Моя жена Софья Федоровна раньше была в Севастополе, а теперь находится во Франции. Переписку с ней я вел через посольство. При ней находится мой сын Ростислав.
Председатель:Здесь добровольно арестовалась г-жа Тимирева. Какое она имеет отношение к Вам?
Адмирал:Она моя давнишняя знакомая, она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам – больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней и затем, когда я должен был уехать, по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда до того времени, когда я был задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною.
Председатель:Скажите, адмирал, она не является Вашей гражданской женой, мы не имеем право зафиксировать этого?
Адмирал:Нет.
Н. А. Алексеевский:Скажите нам фамилию Вашей жены.
Адмирал:Софья Федоровна Омирова. Я женился в 1904 году, здесь, в Иркутске, в марте месяце. Моя жена уроженка Каменец-Подольской губернии. Отец ее был судебным деятелем или членом Каменец-Подольского Суда, он умер давно, я его не видал и не знал. Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном институте, затем он был на уральском Златоустовском заводе, после того он был приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда он ушел в отставку, в чине генерал-майора, он оставался на этом заводе в качестве инженера или горного техника, там я и родился. Мать моя Ольга Ильинична, урожденная Посхова. Отец ее происходит из дворян Херсонской губернии. Мать моя уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи. Оба мои родители умерли. Состояния они не имели никакого. Мой отец был служащий офицер. После Севастопольской войны он был в плену у французов и при возвращении из плена – женился, а затем он служил в артиллерии […] в Горном институте. Вся семья моего отца содержалась исключительно только на его заработки. Я православный, до времени поступления в школу я получил семейное воспитание под руководством отца и матери. У меня есть одна сестра Екатерина, была еще одна сестра Любовь, но она умерла в детстве. Сестра моя Екатерина замужем, фамилия ее Крыжановская. Она осталась в России, где она находится в настоящее время – я не знаю. Жила она в Петрограде, но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как я уехал из России.
Свое образование я начал в 6-й Петроградской Классической Гимназии, где я пробыл до 3-го класса, затем в 1888 [86?] году я поступил в Морской Корпус 12-ти лет и окончил свое воспитание в Морском Корпусе в 1894 году. В Морской Корпус я перевелся по собственному желанию и по желанию отца. Я был фельдфебелем, шел я все время первым или вторым в своем выпуске, меняясь со своим товарищем, с которым поступил в Корпус, из Корпуса вышел вторым и получил премию адмирала Рикорда. Мне тогда было 19 лет. В Корпусе был установлен целый ряд премий для 5 и 6 первых выходящих, и они получались по старшинству. По окончании Корпуса я начал свою службу. По выходе из Корпуса в 1894 году я поступил в Петроградский 7-й флотский экипаж, пробыл там я несколько месяцев до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу заграницу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь во Владивостоке я ушел на другой крейсер «Крейсер» в качестве вахтенного начальника в конце 1896 года. На нем я плавал в водах Тихого Океана до 1898 года, когда этот крейсер вернулся в Кронштадт. Это было первое мое большое плавание. В 1898 году я был произведен в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным начальником. Во время моего первого плавания главная задача была чисто строевая, на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами, я готовился к Южно-Полярной экспедиции, но занимался этим в свободное время, писал списки, изучал южно-полярные страны, у меня была мечта найти Южно-Полярный Полюс, но я так и не попал в плавание на Южном Океане.
(…)
Председатель:Иначе говоря, мирились ли Вы с существованием монархии, являлись ли Вы сторонником ее сохранения, или Японская война и революция 1905–06 гг. внесли изменение в Ваши политические взгляды?
Адмирал:Моя точка зрения была точкой зрения служащего офицера, который этими вопросами не занимался. Я считаю, что при нашей присяге моя обязанность заключается в несении службы так, как эта присяга этого требовала. Я относился к Монархии как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменениях строя; я был занят тем, чем занимался. Как военный, я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял, и этим исчерпывалось все мое отношение. И сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы.
Н. А. Алексеевский:Среди военных, как среди всего русского общества, условия и политические события, связанные с династией и, в частности, с семьей бывшего императора, события последних лет перед Революцией повлияли в значительной степени на разрушение тех симпатий, которые существовали раньше. Военная среда в этом отношении не была чужда этой перемены. В частности, появление Распутина, его роль, насколько мне известно, повлияли на изменение отношений к династии и, в частности, к императору Николаю среди военных. Я имею сведения, что и в военно-морской среде существовали такие же настроения. Так вот, захватывали ли Вас эти настроения и в какой степени?
Адмирал: Насколько мы получали эти сведения и, в частности, о распутинской истории, они глубоко возмущали ту среду и меня, и тех, которые об этом деле осведомлялись и получали какие-нибудь известия. Я, например, помню такой случай. В 1912 году, когда я плавал на «Уссурийце», – верно это или нет, – прошел слух, что Распутин собирается из Петрограда прибыть на место стоянки императорской яхты в шхеры и для этого будет дан миноносец. Я помню, со стороны офицеров было такое отношение: что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняют, но я такую фигуру у себя на миноносце не повезу. Это было общее мнение командиров. Но дело в том, что мы в это время плавали, получали такие известия, но на самом деле и [этого] не было, и никого из нас не звали, и никакого Распутина не возили. Эта история глубоко возмущала нас, но непосредственно с ней мы не соприкасались, никто толком не знал, была масса слухов и разговоров.
В. П. Денике:Мы как будто бы остановились на том, как сложились Ваши воззрения к концу 1906 года. Что же в дальнейшем за этот период времени с 1906 г. по 1917 г. ко времени революции происходили ли изменения Ваших политических воззрений и принимали ли Вы какое-нибудь прямое или косвенное участие в политической жизни страны?
Адмирал:Нет. Я не принимал участия, я в это время был занят чисто технической работой, у меня не было времени, я соприкасался с ними, поскольку бывали разговоры.
Н. А. Алексеевский:Здесь уместен один вопрос, который касается вот чего: Вы сначала нам скажите, имели ли Вы личные отношения с бывшим Императором и с выдающимися членами и деятелями династии и, в частности, имели ли Вы хоть одно свидание с Распутиным.
Председатель:Я прибавлю, не изменились ли эти отношения до самой революции 1917 года.
Адмирал:Я никакого участия в политической работе не принимал. Я скажу прежде всего о Государе. Нужно сказать, что до войны – меня выдвинула война – я был слишком маленьким офицером, слишком маленьким человеком, чтобы иметь соприкосновение вообще с какими-нибудь высшими кругами, и потому я непосредственных сношений с ними не мог иметь по существу. Я не имел ни связей, ни знакомств, ни возможностей бывать в этой среде, среде придворной, среде правительственной. Соприкасался я с отдельными высшими правительственными лицами только тогда, когда я работал в Генеральном Штабе, когда я бывал в Думе, где мне приходилось встречаться с отдельными министрами, а кроме своего прямого начальства, я непосредственно не мог ни с кем сталкиваться. Государя я видел в Могилеве, в Ставке, перед этим я видел его, когда он приезжал на смотры во флот. При дворе я никогда не бывал. В 1912 году я видел Государя и царскую фамилию, когда царская фамилия стояла на рейде «Штандарт» – в шхерах. Туда были вызваны отряды заградителей для постановки пробных заграждений и отряд миноносцев для конвоирования этих заградителей. Я тогда командовал «Пограничным». Туда прибыл Эссен. Мой миноносец состоял в распоряжении Эссена. Характер постановки мин был такой, что заградители шли из строя и сбрасывали мины, но для того, чтобы видеть характер этой постановки, мой миноносец назначен был идти рядом с ними. Вот на мой миноносец прибыли Государь, свита его и адмирал Эссен. Мой миноносец шел рядом с одним из заградителей, «Амуром», который ставил мины. Это был случай, когда Государь был у меня на миноносце, но так как я был командиром, стоял на миноносце и управлял им, то не мог с ним разговаривать. Затем после окончания постановки мин я пришел на «Штандарт».
Председатель:Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли Вы монархистом или нет?
Адмирал:Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь. Тогда этого вопроса: «каковы в Вас политические [убеждения]», – никто не задавал. Я не могу сказать, что монархия – это единственная форма, которую я признаю, я считаю себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такого не существовало в природе. До революции 1917 года я считал себя монархистом. Итак, я был на завтраке на «Штандарте», затем я второй раз видел Императора в Ревеле, когда Государь прибыл на смотр, на крейсер «Россия». Я тогда стоял во фронте, он пришел, обошел фронт, поздоровался с командой и уехал. Никаких других по своему положению я не мог иметь связей. Императрицу я видел единственный раз, когда я был на «Штандарте» – во время завтрака. Из Великих Князей до 1917 года я встречался в Морской Академии с Кириллом Владимировичем, видел я также Великих Князей, когда были смотры.
Н. А. Алексеевский:С Распутиным Вы ни разу не видались?
Адмирал:Нет, ни разу не видал.
Н. А. Алексеевский:В числе вещей у Вас есть икона – золотой складень; там, как будто, есть надпись, что она Вам дана от Императрицы Александры Федоровны, от Распутина и какого-то епископа.
Адмирал:У меня есть благословение епископа Омского Сильвестра, которое я от него получил, это маленькая икона в голубом футляре. Эта икона принадлежит ему, он получил ее от каких-то почитателей с надписью, и так как у него другой не было, то он мне эту и подарил.
Н. А. Алексеевский:Мы бы хотели, чтоб Вы нам сказали, не касаясь всех событий, какие произошли после февральского переворота, изменились Ваши политические взгляды за это время и какими они представляются в настоящее время?
Председатель:Какова была Ваша общая политическая позиция во время революции?
Н. А. Алексеевский:Если угодно, мы зафиксируем в протоколе, что с высшими представителями прошлого режима личных отношений Вы не имели.
Председатель Чудновский :Мы бы хотели знать в самых общих чертах Ваши политические взгляды во время революции, о подробностях Вашего участия Вы нам расскажете на следующих допросах.
Адмирал:Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы, Протопопов и т.д., не в состоянии справиться с задачей ведения войны, и я вначале приветствовал самый факт выступления Государственной Думы как высшей правительственной власти. Лично у меня с Думой были связи, я знал много членов Гос. Думы, знал как честных политических деятелей, совершенно доверял им и приветствовал их выступление, так как я лично относился к существующей перед революцией власти отрицательно, считая, что из всего состава министров единственный человек, который работал, это был Морской Министр Григорович. Я приветствовал перемену правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не сомневался, которых знал и поэтому мог отнестись только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения Государя, ясно было, что уже монархия наша пала и возвращения назад не будет. Я об этом получил сообщение в Черном море, принял присягу вступившему тогда первому нашему Временному Правительству. Присягу эту я принял по совести, считая это правительство, как единственное правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, что я в конце концов [служу] не той или иной форме правительства, я служу родине своей, которую ставлю выше всего и считаю необходимым признать то правительство, которое объявило себя тогда во главе Российской власти. Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти. Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел, для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствую революцию, как возможность рассчитывать на то, что революция внесет энтузиазм – как это и было у меня в Черноморском флоте вначале – в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего, – и образа правления, и политических соображений. (…)
Из дневника Анны Васильевны:
«И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке – нам давали каждый день это свидание, – и он говорит:
– Я думаю, за что плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас – я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром».
Оттуда же:
«Киев, июль 1969 г.
Сегодня я рано вышла из дома. Утро было жаркое, сквозь белые облака просвечивало солнце. Ночью был дождь, влажно, люди шли с базара с охапками белых лилий в руках. Вот точно такое было утро, когда я приехала в Нагасаки по дороге в Токио. Я ехала одна и до поезда пошла бродить по городу. И все так же было: светло, сквозь облака просвечивало солнце, и навстречу шел продавец цветов с двумя корзинами на коромысле, полными таких же белых лилий. Незнакомая страна, неведомая жизнь, а все, что было, осталось за порогом, нет к нему возврата. И впереди только встреча, и сердце полно до краев.
Не могу отделаться от этого впечатления.
Приблизительно с месяц тому назад мне позвонил по телефону М.И. Тихомиров – писатель, который пробовал писать роман об А. В. Колчаке, и, узнав, что я еще жива, приехал ко мне для разговора.
Роман он написал скверный, сборный – и, собственно, о генерале Лукаче. Эпизодически и об Александре Васильевиче, меня наградил княжескими титулами и отвел крайне сомнительную роль, ничего общего со мной не имеющую, и имел дерзость мне его прислать. Перелистав, я читать не стала. Но тут он сообщил мне, что в архиве сохранились не отправленные мне письма А. В., частично напечатанные в журнале «Вопросы истории», № 8 за 1968 г., что писатель Алдан-Семенов имел их в руках и может мне передать в перепечатке из журнала.
Я просила его передать Алдан-Семенову, чтобы он доставил мне их. Письма 1917–18 годов. Тот привез их мне.
И вот больше чем через 50 лет я держу их в руках. Они на машинке, обезличенные, читанные и перечитанные чужими, – единственная документация его отношения ко мне. Единственное, что сохранилось из всех его писем, которые он мне писал с тех пор, как уехал в Севастополь, – а А. В. в эти два года писал мне часто. Даже в этом виде я слышу в них знакомые мне интонации. Это очень трудно – столько лет, столько горя, все войны и бури прошли надо мной, и вдруг опять почувствовать себя молодой, так безоглядно любимой и любящей. На все готовой. Будто на всю мою теперешнюю жизнь я смотрю в бинокль с обратной стороны и вижу свою печальную старость. Какая была жизнь, какие чувства.
Что из того, что полвека прошло, никогда я не могу примириться с тем, что произошло потом. О Господи, и это пережить, и сердце на куски не разорвалось.
И ему и мне трудно было – и черной тучей стояло это ужасное время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь, ничем не заменимая, ничем не замененная. Разве я не понимаю, что даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого: не такой это был человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции в то время, как люди, шедшие за ним, гибли за это и поэтому.
Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску: «Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось – только бы нам не расставаться».
И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили.
И все. И луна в окне, и черная решетка на полу от луны в эту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверное, спали в Гефсиманском caдy ученики. А наутро – тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в общую камеру. Я отозвала коменданта и спросила его:
– Скажите, он расстрелян? – И он не посмел сказать мне «нет»:
– Его увезли, даю Вам честное слово.
Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было узнать мне правду. Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего не понимал.
Полвека не могу принять —
Нельзя ничем помочь —
И всё уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
Но если я еще жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе».








