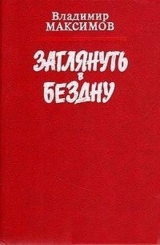
Текст книги "Заглянуть в бездну"
Автор книги: Владимир Максимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
7.
Владивосток встретил Адмирала ярмарочной пестротой политических страстей. Кадеты, меньшевики, эсеры, анархисты и областники, монархисты и республиканцы, крайние националисты и столь же крайние западники – все наперебой бросились выяснять взгляды и намерения гостя, с тем чтобы в случае родства душ заполучить его в свои ряды. Всем им явно требовался собственный вождь, который бы освятил своим славным именем их право на существование и вдохнул в бесплодные их души искру живой жизни.
Трудно даже было представить, откуда, из каких незримых щелей, из какого подполья, из какой житейской трясины выявились на свет Божий все эти отставные телеграфисты, не кончавшие курса студенты, аптекарские ученики и сами аптекари, сельские фельдшеры, бывшие курсистки, гимназические учителя, неудачливые присяжные поверенные и их помощники, провинциальные журналисты и портные, возжелавшие любой ценой сделаться министрами, товарищами таковых или, на худой конец, хотя бы директорами департаментов во всяком, даже самом эфемерном правительстве, лишь бы оно называлось правительством. И не существовало для них в природе общества преступления, лжи или святотатства, каких бы они не совершили ради столь заманчивой цели.
Наверное, в своей прошлой жизни все эти люди исправно служили или зарабатывали свой хлеб насущный каким-нибудь иным занятием: отстукивали телеграммы, отвешивали лекарства, ставили страждущим банки, крючкотворствовали в судах, пописывали заметки о городских происшествиях, обшивали средней руки чиновничество и офицерство, ходили в классы и бегали по урокам, а сливаясь воедино, и определяли лицо той среды, что в думских речах громко именовалось – «российской общественностью».
Жить бы и жить им так впредь и до скончания века, пробавляясь – между выпивкой, нехитрым флиртом и двумя «пульками» – разговорами о «сне золотом» и «небе в алмазах», если бы не февральская встряска, которая выбила их из привычной колеи, выбросив в самую гущу Великой Смуты, где за спиной у каждого из них вдруг загремел маршальский жезл, к несчастью, не находивший вокруг ровно никакого применения.
В их претенциозном убожестве было даже что-то забавное, до того по-детски беспорочной была их уверенность в своей предназначенности водить армии, возглавлять министерства, подписывать директивы, издавать приказы, учить, направлять, воспитывать.
Встречаясь с Адмиралом, большинство из них сразу же переходило на покровительственный фамильярный тон, будто они целую жизнь только и делали, что запросто, на короткой ноге общались с сильными мира сего или с их окружением. Когда же Адмирал, прискучив развязностью очередного гостя, вежливо прекращал разговор, на него изливалась такая лавина молчаливой ненависти, что легко было себе представить ее дальнейшие и уже неотвратимые последствия.
Из длинной вереницы встреч и знакомств он выделил свидание с Управляющим Восточно-китайской железной дороги генералом Хорватом, прибывшим во Владивосток из Харбина специально для переговоров с ним.
Они уже не раз встречались и до этого, одно время Адмирал даже числился членом правления дороги, но договориться до чего-нибудь путного так и не смогли, слишком разными оказались у них отношение к происходящему и взгляды на будущее.
Теперь старик решил, видно, поступиться чиновной гордостью, заключив, судя по всему, что в такое время худой мир лучше доброй ссоры.
В интерьере роскошного салон-вагона, в парадной форме и при всех регалиях генерал выглядел идеальной моделью для антимонархических плакатов, но голос у него был тихий, почти шепотный:
– Дражайший, батенька, Александр Васильевич, – сиял он в сторону гостя близорукими чуть на выкате глазами, любовно оглаживая метелки своей роскошной бороды «а ля Александр Третий», – куда же это нас несет теперь, сами посудите! Посмотреть только, что делается, голова кругом идет. Работать совершенно невозможно, никто не хочет дело делать – норовят учить, понукать, приказывать, а ведь ни опыта, ни положительных знаний – одна фанаберия, – наклонился доверительно к гостю, обдав его пряной смесью хорошего табака и крепких духов. – Александр Васильевич, Бога ради, просветите старика, что будет, неужели, – он так и произнес, по-стариковски с ударением на втором слоге «неужели», – нет выхода, всему конец?
– Но ведь пишут, что Деникин продвигается, и союзники, кажется, начинают понимать опасность положения, – Адмирал осторожно пытался выяснить, куда клонит собеседник. – Все может перемениться.
– Ах, Александр Васильевич, Александр Васильевич, – старик даже руками слегка всплеснул от досады, – знаю я Антона Ивановича, еще по академии знаю, хороший солдат, неплохой тактик, но не орел, нет – не орел, звезд с неба не хватает, а политик, так уж и вовсе никудышный, – Хорват грузно поднялся и в заметном волнении тяжело пустился по ковру. – С рельсов народ сошел, Александр Васильевич, ничем теперь не остановишь, пока сам не устанет, а что мы ему взамен предлагаем? Порядок? Зачем ему порядок, когда он впервые своей волей пожить может. Хоть один день, да мой, вот и вся философия. Не уберегла Россия Столыпина, приходится теперь платить. Слуга я его Императорскому величеству верный и вечный, но, возьму грех на душy, скажу: его вина! – машинально перекрестившись, он снова двинулся по кругу. – С Петром-то Аркадьевичем до такой смуты не дошло бы, да и в войну не влезли бы, чего нам с Вильгельмом делить было? Сербию с Черногорией, что ли? Вместе с ним мы были бы силой! – громоздкая фигура его внезапно подломилась, диван под ним надсадно застонал. – А на союзников не надейтесь, Александр Васильевич, предадут и продадут, как в народе говорят, с потрохами при первой возможности. Они ведь нас, по правде говоря, и за людей-то не считают, а Россию до сих пор числят как бы ничейной землей с временным населением. Так-то вот, дражайший Александр Васильевич.
– Где же, по вашему выход, Дмитрий Леонидыч? – осторожно спросил Адмирал, хотя ответ он мог предположить заранее. – Диктатура?
Близорукий взгляд Хорвата уперся в него с пристальной откровенностью:
– Только в этом и вижу спасение, Александр Васильевич, одна загвоздка – с кем? – он брезгливо покосился на окно, за которым гомонила станционная сутолока. – С этими не только Россией – полустанком управлять не договоришься, не люди – шлак, пыль паровозная. Мой вам совет, Александр Васильевич, пробивайтесь к Деникину, головы там есть, к ним бы еще сердце и дух, тогда, глядишь, и сладится дело. Сам я тоже не из бар, но, по совести говоря, не по плечу такое дело ни Корнилову, ни Алексееву, Царствие им Небесное, и уж, конечно, ни Антону Ивановичу, мужичья кровь сказывается, под ноги смотрят, а не вперед. Одним словом, коренник требуется, пристяжные найдутся. При авторитетном вожде и Деникин на месте.
– Мне ли такое дело поднять, Дмитрий Леонидыч, – у него жарко перебило дыхание, – подумать страшно.
– Кроме вас некому, Александр Васильевич, поверьте мне, некому…
На том они и расстались.
День шел на убыль. Сиреневое полотнище вечера наплывало из-за океанского окоема, окрашивая окружающее в сумеречные тона. Уличная толчея становилась все говорливее и пестрее, но в ярмарочной карусели города проглядывалась какая-то взбудораженная экзальтация, будто этому нервическому оживлению заранее поставлен определенный срок, с наступлением которого празднество грозило оборваться, и оттого публика спешила, торопилась, рвалась исчерпать до конца отпущенное ей время: час, да мой!
Город растекался перед адмиральской машиной, раскачивался вместе с нею – вверх, вниз и снова вверх! – на гигантских качелях своих холмов и впадин, шелестел над головой опадавшей листвой, звал, увлекал, заманивал множеством проездов и переулков. Раскидистый, гулкий, словно бы висящий у воды город.
Разговор с Хорватом разбередил Адмирала. Прежде он как-то не задумывался, где, как и с кем ему придется участвовать в отчаянной попытке восстановления законности и порядка в обескровленной мировой и гражданской войнами стране. Наверное он знал только одно, что не останется в стороне, что найдет свое место и что другого пути у него нет, но к какой-то особой роли себя не готовил. Политика всегда была чужда его интересам. Соприкасаясь с нею по роду своей деятельности, он, тем не менее, никогда не чувствовал к ней тяги, влечения, вкуса. Дипломатические и политические хитросплетения, руководя им помимо его воли, не затрагивали в нем его сущности, скользя поверх и мимо него. Пожалуй, только после первого российского шторма девятьсот пятого года он стал понемногу присматриваться и прислушиваться к событиям внутри страны, пытаясь разобраться в причинах и следствиях происходящего.
Теперь же, после встречи с Хорватом, перед ним в упор встал вопрос: в чем конкретно он видит свою личную роль в создавшейся в стране ситуации? Где, в каком качестве, он – кадровый моряк по профессии и ученый-географ по призванию – сможет найти себе применение в этом беспорядочном столкновении самых взаимоисключающих политических стихий? И как отнесутся стороны к его внезапному и никем не предвиденному вмешательству? И хотя диктатура и ему виделась сейчас единственной формой самосохранения России, себя он в роли диктатора не представлял, слишком хорошо зная свои слабости: крайнюю вспыльчивость со столь же крайней отходчивостью, крутым и зачастую беспричинным упрямством, а, к тому же, доверчивым (вовсе непростительный грех для вождя) расположением к первому встречному, обладай только этот встречный покладистостью характера. Все это, вместе взятое,исключало для него возможность одним личным авторитетом сплавить воедино и повести за собой разномастную вольницу, признававшую над собой лишь одну власть – собственную.
В нынешней России Адмирал мог назвать единственного человека, способного в определенных условиях справиться с этой задачей, – Великого князя Николая Николаевича, но, олицетворяя собою, несмотря на свою неприязнь к поверженному племяннику, рухнувшую под грузом собственной слабости монархию, он оттолкнет многих из тех, кто захочет пойти за кем угодно, кроме члена романовской династии. Да и где он теперь – Великий князь Николай Николаевич!
В этих долгих раздумьях Адмирал и доехал до гостиницы, где, едва шагнув к подъезду, почувствовал на своем запястье требовательную хватку чьей-то шершавой ладони: – Не спеши, генерал молодой, от судьбы куда уйдешь, везде догонит, дай на твое счастье погадаю, коли не по душе придется, денег не возьму, не надо, не беги от судьбы, касатик…
Старая цыганка – лицо, как печеное яблоко, в пестром обрамлении платка и лент – вглядывалась в него снизу вверх блеклой желтизны глазами, настойчиво притягивая к себе его руку.
И то ли от неожиданности, то ли остерегаясь резким движением причинить ей боль, он не оттолкнул ее, безвольно покорился исходящей от нее вязкой убежденности:
– Будет у тебя жизнь, касатик, короткая, зато богатая, только бойся пиковой дамы, встрянет она в горячую любовь твою, как разрыв-трава, как звезда полынная…
Отпустив вдруг его руку, она продолжала всматриваться в него, все так же – снизу вверх, но песочного цвета взгляд ее вдруг помертвел и отстранился от него, осязая его словно бы издалека:
– Ничего больше не скажу, касатик, иди себе с Богом, не надо мне от тебя никакого злата, другим заплатишь, много заплатишь…
И тут же исчезла, будто ее и не было тут, а только пригрезилась беспричинно.
Наверное, эта случайная ворожба у подъезда гостиницы улетучилась бы в нем так же внезапно, как и возникла, если бы в гостиничном коридоре, уже на подходе к его номеру, мимо него не прошелестело в стремительной спешке некое видение, пахнувшее на него дуновением уверенной в себе властности. Прошелестело и растаяло за поворотом ковровой дорожки, бегло скосив в его сторону рассеянный, татарского разреза глаз.
Он мог бы поклясться сейчас, что где-то в иное время уже встречал этот упрямый профиль, только где и когда? Нечто, правда, забрезжило, вместившись в короткий миг, – зима, Петербург, снег на решетках Летнего сада, чьи-то встречные сани, мелькнувшие мимо, – но скоро фантом исчез, растаял так же внезапно, как и появился.
«Вот ведь нечаянность, – с мгновенно оборвавшимся сердцем подумал он, – нагадают же!»
Ночью ему снилась большая вода, много-много большой воды, как это бывает далеко в открытом море, сквозь которую навстречу ему тек, скользил, струился силуэт женщины, удивительно напоминавшей случайно встреченную им в этот вечер в гостиничном коридоре. Но, всматриваясь в ее текучие очертания, он мог бы поклясться, что это была Анна.
И угадал: она встретила его пробуждение, сидя рядом с ним на краешке кровати и тихонько поглаживая ему запястье:
– Что вам такое снилось, Александр Васильевич, – от нее, уже одетой и ухоженно подтянутой, исходил легчайший аромат духов и немного – моря, – вы так блаженно улыбались?
– Вы. – Неужто?
– Честное слово, душа моя, честное слово, – окончательно отряхиваясь ото сна, он, наконец-то, разглядел ее. – Вы, кажется, успели совершить небольшую прогулку, душа моя?
Она вдруг напряженно подобралась, опустила глаза: – Я видалась с Сергеем Николаевичем.
– Да, – едва выдохнул он, – и что же?
– Все то же, дорогой Александр Васильевич, все то же, вы же прекрасно знаете.
– Вы сказали ему?
– Я только повторила ему, дорогой мой Александр Васильевич, то, что уже много раз было говорено.
– Значит, со мной?
– С кем же мне быть, Александр Васильевич, – прохладная ее ладонь легла на его запястье, – куда вы, туда и я. Глаза их встретились, и явь исчезла для них, перестала существовать, улетучилась в окружающем их пространстве. Отныне они остались вдвоем на земле, не испытывая более нужды ни в ком и ни в чем, кроме друг друга. Земля вместе со всем, что жило и творилось на ней, вращалась теперь только внутри и вокруг них и не было во вселенной силы, способной остановить это колдовское вращение.
8.
И потянулась за вагонным окном страна, всегда словно заново и заново узнаваемая им, но только теперь, не как обычно для него – с Запада на Восток, – а наоборот.
Поздняя осень окрашивала окрест желто-бурым налетом истлевающих трав и листвы вперемежку с черным кружевом отжившего сушняка. В подернутых голубой дымкой таежных прогалах открывался волнистый силуэт уходящих за горизонт сопок, и, если бы не тревожная заброшенность проплывающих мимо окон станций и полустанков, можно было увериться, что на этой земле все так же устойчиво и безмятежно, как в ее, совсем недавние, времена.
На больших остановках, хочешь – не хочешь, Адмиралу устраивались торжественные встречи, с обязательными в таких случаях хлебом-солью на блюде с расшитым полотенцем, высокопарными, хотя и неуклюжими речами отцов города и непременным, собранным с бору по сосенке, духовым оркестром. Однообразно повторяющийся этот ритуал не то чтобы угнетал Адмирала, но, в конце концов прискучив им, он тяготился его нудной обязательностью и вскоре приучил себя в таких случаях не видеть, не слышать, не со участвовать в предлагаемом действе, мысленно отстраняясь от окружающего.
Адмиралу не требовалось большого воображения, чтобы почувствовать во время этих уныло чередующихся обрядов, что они предназначались не ему лично и даже не авторитету, каким он был облечен, а чуду – да, да, чуду! – которого везде от него ждали и которое, как всем хотелось надеяться, он – и только один он! – мог для них сотворить. И чем торжественнее, чем пышнее, чем размашистее обставляли устроители эти встречи, тем определеннее представлялась ему вся грозная тяжесть, если не безнадежность, сложившегося положения. Покорно подчиняясь неизбежному, Адмирал заученно принимал хлеб-соль, отсутствующе выслушивал витиеватые речи, заглушаемые крикливой медью оркестра, пожимал чьи-то руки, кому-то кланялся, обменивался с кем-то троекратными поцелуями, оставаясь наедине с самим собой и с той участью, какую ему готовило его будущее. Случившееся теперь в России представлялось ему ненароком сдвинутой с места лавиной, что устремляется сейчас вовсе стороны, движимая лишь силой собственной тяжести, сметая все попадающееся ей на пути. В таких обстоятельствах обычно не имеет значения ни ум, ни опыт, ни уровень противоборствующих сторон: искусством маневрирования и точного расчета стихию можно смягчить или даже чуть придержать, но остановить, укротить, преодолеть ее было невозможно. Казалось, каким это сверхъестественным способом бывшие подпрапорщики, ученики аптекарей из черты оседлости, сельские ветеринары, недоучившиеся фельдшеры и недавние семинаристы выигрывают бои и сражения у вышколенных в академиях и на войне прославленных боевых генералов?
Ответ здесь напрашивался сам по себе: к счастью для новоиспеченных полководцев, они должны были обладать одним-единственным качеством – умением бежать впереди этой лавины, не оглядываясь, чтобы не быть раздавленным или поглощенным ею. И этим качеством большинство из них отличалось в полной мере. Теперь он двигался им навстречу, не теша себя иллюзиями о победе, а лишь с твердым намерением принять на себя всю безысходную тяжесть их торжествующего напора: пусть они хотя бы увидят в слепом своем упоении, как и с какой готовностью умеют умирать русские офицеры!
И лишь однажды, это случилось в Чите, на этом пути, в калейдоскопе мельтешившей вокруг него карнавальной вакханалии, перед ним внезапно, словно в один остановившийся миг, выделился из многоликой толпы знакомый, татарского разреза взгляд, походя опаливший его как-то вечером в коридоре владивостокской гостиницы.
«Господи, – мгновенно пронеслось в нем, – что это еще за наваждение, откуда она здесь?»
Вечером, за чаем, Адмирал не выдержал, поделился с Анной:
– Знаете, дорогая Анна Васильевна, как это ни странно, но у меня, по-моему, галлюцинации. Недавно я случайно столкнулся с одной женщиной во Владивостоке, в коридоре гостиницы, теперь вижу ее в толпе среди встречающих почти на каждой большой станции.
– Помилуйте, Александр Васильевич, милый, что за фантазии, вот уж воистину богатое воображение! – она с материнской снисходительностью лукаво озарилась навстречу ему. – Всё гораздо проще. В нашем составе едет много офицерских жен с семьями, направляются к мужьям в Омск и Екатеринбург, что же в этом сверхъестественного?
Ему стало неловко за себя, и он поспешил перевести разговор на другое, более привычное:
– А помните, Анна Васильевна, как мы с вами встретились в первый раз?
Он затевал эту, ставшую уже ритуальной для них, игру в минуты, когда хотел отвлечься от тяготивших его сомнений, но она всякий раз с заметным оживлением подхватывала тему, будто впервой:
– Еще бы мне не помнить, Александр Васильевич, не так уж давно это произошло, вы были тогда такой важный – Она озарилась еще снисходительнее, но теперь скорее к себе. – А вы помните, Александр Васильевич, как перед моим отъездом из Ревеля вы заказали мне по телеграфу ландыши? Целую корзину ландышей, мне было так жалко их оставлять, что я их все срезала и сложила в чемодан, а когда в Гельсингфорсе открыла его, то нашла свои ландыши уже мерзлыми, такой по дороге был холодище. – Она вдруг погасла, задумчиво покачала головой. – Что действительно странно, это случилось в последний вечер перед революцией.
– Вы думаете, Сергей Николаевич все еще сердится на меня? – бездумно спросил он, но тут же спохватился. – Извините, на нас, Анна Васильевна.
Она только пожала плечами:
– Не думаю. Сергей Николаевич всегда был слишком занят собой, он быстро поладил с большевиками, ездил куда-то по их поручениям, а теперь, по-моему, благополучно осядет где-нибудь за границей. Он легкий человек, этот мой бывший муж Сергей Николаевич, не нам с вами его судить, пусть живет, как ему удобнее, о нас с вами он, наверное, уже забыл.
Потом они долго молчали, стоя у окна и прижимаясь лбами к холодному стеклу. Там, в кромешной тьме, перед ними проносилась страна, на всем пространстве которой отныне не только для человека, но и для зверя не оставалось уже укромного места, где бы он мог передохнуть и отсидеться: в кровавом безвременьи этой страны каждая живая тварь должна была сегодня заплатить свою цену. В этом замкнутом кольце безысходности и продолжал кружиться их мысленный разговор:
– Ты знаешь, что нас с тобой ожидает?
– Знаю.
– Ты готова к этому?
– Я сама выбрала свою судьбу.
– Ты не пожалеешь об этом?
– Теперь уже поздно жалеть.
– Я верю в тебя.
– И я…
Едва поезд остановился в Омске, как Адмиралу доложили, что его хочет видеть депутация Директории Учредительного собрания во главе с Авксентьевым. «Вот, – с горечью подумал он, – начинается совдеп на колесах, только слушай».
Авксентьев оказался белокурым, довольно молодым еще человеком с острой бородкой и живыми, но уклончивыми глазами. Видно, давно освоившись с ролью политического вождя, он не без преувеличенной значительности коротко перезнакомил Адмирала со своими спутниками и первый же заговорил:
– Я буду краток, ваше превосходительство. Мы уполномочены выяснить ваши дальнейшие намерения и предложить вам пост военного министра в правительстве Директории Учредительного собрания.
Еще перед этим до Адмирала доходило, что тот, с самого своего появления в Уфе, поспешил окружить себя стаей адъютантов и приказал называть себя не иначе, как «ваше высокопревосходительство»: новоиспеченная власть, не успев еще опериться, сразу же вошла во вкус бюрократического церемониала. Голубые мечты вчерашних нигилистов и бомбометателей о «золотом веке» и «небе в алмазах» на поверку обернулись извечными вожделениями департаментских столоначальников.
«Стоило ради этого такой огород городить, – разглядывая гостей, горько иронизировал про себя Адмирал, – и лить столько крови?»
А вслух сказал:
– Мне нет нужды скрывать свои намерения. Я направляюсь к генералу Деникину, чтобы предложить ему себя в любом качестве, даже рядовым солдатом, сегодня у каждого порядочного человека один враг – большевизм. Разумеется, ваше предложение, господа, для меня большая честь, но вы не должны забывать, что я моряк и в сухопутных делах, в сущности, очень мало смыслю, ваш выбор может оказаться ошибочным.
– Адмирал, – высокий голос Авксентьева налился металлическим пафосом, – сегодня наша многострадальная родина не спрашивает у своих сыновей: «Кто вы?», сегодня она спрашивает у них: «Где вы?»
Сказал, торжественно вытянулся, но боковым зрением не забыл при этом отметить в сопровождающих произведенное впечатление. О, как они любили красивые слова, эти посредственные журналисты и никогда не практиковавшие адвокаты: в общем и никем не управляемом столпотворении им казалось что наконец-то наступил для них тот самый звездный час, когда, будучи едва произнесенной, любая их фраза уже вчеканивается временем в нерукотворные письмена истории.
«Боже мой, Боже мой, – продолжал вглядываться в них Адмирал, – от какой только породы живородящих тварей вы отпочковались!»
И, чтобы более не затягивать аудиенции, подытожил:
– Во всяком случае мне необходимо подумать, господа.
Отпустив гостей, он постучался в купе к Анне:
– Что вы обо всем этом думаете, дорогая?
– Александр Васильевич, милый, зачем вы меня об этом спрашиваете, я ваша тень.
Он порывисто опустился рядом с ней и упал лицом в подставленные ею ладони:
– Простите меня
В ответ она лишь коснулась губами его затылка.
Была тишина.








