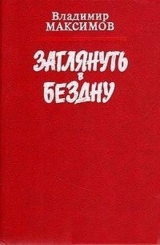
Текст книги "Заглянуть в бездну"
Автор книги: Владимир Максимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
5.
Дальше Удальцов уходил в одиночку. И в одиночку же коротал зябкие ночи в стороне от людных мест и обжитых берегов. В этом долгом пути он словно бы начал жить заново: все правила, ограничения, устоявшиеся привычки пришлось забыть, душа и тело его перерождались в совершенно иную сущность, которая не имела ничего общего с ним – в прежней жизни. Нечто звериное, почти первобытное прорастало в нем, властно диктуя ему первозданно новые для него навыки и повадки.
Он выучился высекать огонь, ставить силки, вязать на переправах утлые плоты ивняковой лозой, угадывать путь по солнцу, а в ненастье – по движению листвы, спать бодрствуя и бодрствовать во сне. Только теперь, в этой, казавшейся ему нескончаемой, дороге он по-настоящему почувствовал настороженную враждебность породившей его земли. Опасность, подвох, угроза таились на каждом шагу: поросшая веселой травой прогалина оборачивалась топкой трясиной, хрупкий подлесок – непроходимой чащей, ласковая речушка – винтовым омутом. Ровная тропа вдруг срывалась под прямым углом в отвесный обрыв, рослая лиственница, перечеркнув небо над ним, внезапно отрезала ему ход, замшелая ветвь под ногой неожиданно оживал шуршащей нечистью. И чем дальше он пробирался, тем настырнее и круче сопротивлялось ему пространство.
На пятнадцатый день пути он вышел к прибрежному тракту. И только тут природа слегка отступила, распахнув перед ним сквозь опушку соснового бора безбрежный обзор затянутых сплошным лесом предгорий с вкрапленными в них слюдяными блюдцами озерных разливов. Даже воздух здесь уже не забивал душным настоем таежной всячины, а растекался в легких с освежающей невесомостью. И через все это хвойное море, от самых ледниковых зубцов на горизонте, голубой, с прозеленью по краям лентой летела, неслась, извивалась навстречу ему раскатисто говорливая река. И Удальцов со вздохом облегчения догадался: Иркут, где-то в самом своем истоке!
По его расчетам до монгольской границы оставалось не более трех дней ходу. И хотя возможности его были на исходе, одно сознание близости спасительной цели придавало ему силы. Теперь-то он наверняка знал, уверен был, что дойдет, доберется до этой цели, не сгинет в дороге в числе многих, пополнив собой безымянный список российского лихолетья.
Устремляясь к желанной воде, Удальцов полной грудью вдыхал живительный запах соснового бора, охваченный упоительным ощущением возвращения к жизни и к самому себе. Резкое солнце, рассекая хвою разлапистых крон, слепяще било ему в глаза, сладостно кружило голову, и все в нем при этом пело от легкости и ликования.
И грезилось ему его августовское детство в их деревенской усадьбе. Он бежит босой по скошенному полю, колкая стерня под ним еще не высохла от росы, сквозь дубовую рощицу впереди поблескивает речка, а небо над головой такое чистое и высокое, что, кажется, припусти побыстрее, взлетишь, подхваченный первым же дуновением ветра.
И позади, захлебываясь в смехе, тянется за ним умоляющий голос отца:
– Аркашка-а-а!.. Бесено-о-ок!.. Останови-и-ись!.. Пожалей отца-а-а, совсе-е-ем пада-ю-ю!..
Почти в беспамятстве Удальцов приник к воде и пил, пил, втягивал, впитывал в себя ее, сводящее зубы и скулы студеное облегчение, но едва оторвавшись от нее, увидел рядом с собой в речном зеркале чье-то, в полный рост, отражение. Сердце в нем обморочно оборвалось и обомлело, затылок мгновенно одеревянел. Ожидая сзади выстрела или удара, он даже не нашел в себе силы обернуться, только со сдавленным хрипом спросил воду перед собой:
– Кто ты?
– Человек, не леший.
Голос за спиной звучал чуть насмешливо, но миролюбиво. Облегчаясь сердцем, Удальцов осторожно обернулся и, все еще снизу вверх, полюбопытствовал:
– Ты откуда тут?
– Я-то тутошний, ты вот откуда взялся?
Коренастый мужичонка в жиденькой бородке стоял перед ним, опершись на суковатую палку, и с озорным любопытством разглядывал его васильковым взглядом из-под белесых, будто выгоревших бровей.
– Напугал ты меня, брат, – Удальцов окончательно опамятовался и встал, – хоть бы голос подал.
– Лес шуму не любит, – беззлобно осклабился тот полнозубым ртом, – тише ходишь, целей будешь.
– Жилье близко?
– Э, мил-человек, тут жилья на сто верст кругом днем с огнем не сыщешь, я один тут кукую, на подножном корму.
– Не страшно одному-то?
– С людьми страшно, мил-человек, а себя чего же бояться!
– А зверье?
– Зверя не трогай, он тебя не тронет, я сам по себе, зверь сам по себе, живем – не грыземся.
– Где же ты тут обитаешь?
– А вон…
Проследив за приглашающим взмахом его руки, Удальцов вдруг разглядел почти слившийся с береговым кустарником сруб, с плоским, заросшим травой верхом, по самую оконную щель врытый в землю.
– Так и живешь?
– Так и живу, мил-человек, – спокойно утвердил мужичонка и вновь васильково засветился. – Заходи, гостем будешь, чайку попьем.
Не ожидая ответа, он двинулся вверх по береговому откосу, палкой раздвигая впереди себя цепкий кустарник. В пружинистой и бесшумной походке его чувствовалась укорененная привычка к долгой ходьбе и дорожной оглядчивости.
После солнечного ослепления дня темень внутри сруба показалась Удальцову почти чернильной. Немного пообвыкнув к этой темени, он различил наконец в ней громоздкую, из неотесанного камня печь, занимавшую здесь большую часть места, с набросанной на ней тряпичной рухлядью, и, в косой полоске света, падающего от оконной щели, пол из плотно пригнанных друг к другу жердей.
– Ты, брат, гляжу, как медведь в берлоге устроился.
– Не жалуюсь, – тот стоял снаружи, у него за спиной. – На мой век хватит.
– Тут и свековать думаешь?
– А куда мне податься – некуда!
– Мир большой.
– Кому как.
– Не по тебе, значит.
– Не по мне, – уверенно согласился тот. – Земля большая, а места на ней мало.
– А прикорнуть у тебя можно, не прогонишь?
– Отчего прогоню, располагайся, а я пока пойду чайку спроворю, – и сразу захлопотал, засуетился у него за спиной. – В одночасье спроворю, мы и попьем на воздышке. Тут чем славно, что комара, мошки нету, потому как гнусь эта сырую низину любит, а тут высоко да сухо. Располагайся, мил-человек, опростай ноги от немочи.
Любо было смотреть, как ловко и споро орудовал он вокруг запылавшего вскоре костерка: ломал сушняк для огня, колдовал с травками над водой в таганке, мешал с лесным лучком вяленую рыбешку.
– Городского не сулю, а своим попотчую, – приговаривал он при этом, улыбчиво посвечивая во все стороны, – без рафинаду, зато с ягодой, сыт не будешь, а для дремоты лучше нету, пей да радуйся…
Потом они пили из одной жестяной кружки по очереди терпкий травяной настой, заедая выпитое рыбным волоконцем под таежный лучок, а хозяин тем временем не умолкал, растекался словоохотливо:
– Как призвали меня в германскую, так и подался я, куда глаза глядят, чего я с тем немцем не поделил, пускай воюют, кому своя голова полушка, а чужая того дешевле, а я и не жил еще вовсе, не токмо девки, бабы живой не пробовал, одних сапог не сносил, дальше околицы носу не высовывал, на хрена, думаю, мне в этом пиру похмелье, я пока жить хочу, ноги в руки и – ходу, ходу, токо бы не забрили…
– Сам-то из каких мест?
– Пермские мы, по-разному кличут, больше водохлебами, что греха таить, мастаки у нас чаи гонять из пустого в порожнее, хотя отец мой покойный, Царство ему Небесное, с Дона сам, после каторги в лесах осел, крестьянствовал помаленьку.
– Чем же ты здесь перебиваешься? – уже сквозь дрему полюбопытствовал Удальцов, – на твоих харчах долго не протянешь.
– Говорю тебе, на подножном, а когда совсем приспичит, на трахт выхожу, Христа ради кланяюсь.
– Кто ж теперь подает?
– Свет не без добрых людей, мил-человек, особливо монголы, иной плетью огреет, а иной и подаст, с миру по нитке, да и много ли мне надобно одному-то, зимой, однако, хуже, лесным припасом живу… Э, да ты совсем сморился, милок, – тенью метнулся он перед гостем, – залезай-ка в нору, там сподручнее…
Умиротворенный угощением и незлобивым говором, Удальцов в сонном полузабытьи перебрался под крышу, свалился на услужливо подстеленное ему тряпье и канул в сон, как во тьму, без памяти и сновидений.
Знать бы Удальцову в эту провальную минуту, что топор уже вознесся над ним и затем с рассекающим присвистом врезался в пол за вершок от его затылка: откуда же было угадать хозяину, что за мгновение до удара гость схватится в бездумье повернуться на другой бок!
Но звука вошедшего рядом с его головой в древесную мякоть острия Удальцову хватило, чтобы моментально прийти в себя, пружинисто вскинуться на ноги и, по-кошачьему оторвавшись от пола, броситься всем телом на человеческий силуэт перед собой. Цепкие ладони его сомкнулись вокруг теплой пульсирующей шеи, сдавливая хрипящую ему в лицо мольбу:
– Прости, Бога ради… Со страху я… Прости…
Из Удальцова вдруг словно выпустили воздух: ладони разжались сами собой, тело опустошенно обмякло, ноги сделались ватными. Он с трудом поднялся и, переступив через распростертую под ним человеческую плоть, тяжело шагнул к выходу:
– Будь ты проклят, тварь…
А тот полз за ним на карачках и все всхлипывал ему вслед, умоляюще поскуливая:
– Сам ить знаешь, как нынче живется, не люди – волки одни кругом, чуть сплошаешь, враз на распыл изведут… Не я тебя, так ты меня все одно извел бы… Кто ж знает, чего у другова на уме, а я ишшо жить хочу, молодой совсем, за какие грехи погибать мне тут… Прости, Христа ради, лукавый попутал, сам не знаю, как получилось, не оставь без отпущения… Прости-и-и!
Удальцов уходил не оборачиваясь, не мог, не хотел, не нашел в себе воли обернуться.
Он двигался сквозь лес, отныне окончательно уверенный, что на этой земле ему уже нет места. Все, что он любил в ней и к чему был на ней привязан, истекло в вечность, растворилось в воздухе, наподобие фата-морганы, не оставив после себя ничего, кроме терзающих душу воспоминаний. Она оставалась такой же большой, как и была, но не для него и таких, как он. От ее мертвой тверди не источалось теперь зовущего к себе света, и небо над ней выглядело сегодня каменным. Жизнь здесь начиналась с чистого листа, и какой она окажется – эта жизнь, еще никто не знал.
Далеко впереди, над сверкающей в свете убывающего дня горной грядой занимались сумерки, горизонт темнел, проявив на своем густеющем полотнище зыбкие контуры первой звезды. Звезда медленно приближалась, набирала блеска и четкости и наконец, с наступлением полного заката, обозначилась перед ним, поверх соснового частокола, твердо и торжествующе, упрямо воскрешая в путнике неистребимость надежды.
6.
Дальше Удальцов уходил в одиночку…
7.
Летом двадцать первого, перебиваясь в Лондоне с хлеба на квас, Удальцов с отчаянья поступился гордостью, позвонил Ноксу:
– Здравствуйте, генерал, вас беспокоит полковник Удальцов. Помните Омск, Ставку, Тобольский фронт?
В трубке возникла пауза, которая, как показалось Удальцову, длилась целую вечность, потом оттуда, словно из глубокого колодца, глухо, но отчетливо донеслось:
– Извините, сэр, я вас не припоминаю…
И связь тут же оборвалась.
* * *
Вот и всё, господа хорошие, вот и всё.
8.
Анна Васильевна Тимирева умерла своей смертью в Москве 31 января 1975 года от Рождества Христова.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Из семейной хроники, написанной сыном Адмирала Ростиславом Александровичем.
Род КОЛЧАК внесен во вторую часть родословной книги дворян Херсонской губернии. Вторая книга, как известно, включает роды, получившие потомственное дворянство чинами военными. При ревизиях 40-х годов Колчаки были утверждены в потомственном дворянстве указом Герольдии Правительствующего Сената от 1 мая 1843 года за № 7054.
По семейным преданиям, семья получила и русское подданство, и русское дворянство, и русский герб в начале царствования Императрицы Елисаветы Петровны, около 1745 года; но это, может быть, не совсем так, как будет видно дальше.
Что, во всяком случае, верно, это то, что семьи и отца и матери адмирала были из казаков, – семья отца из Бугского казачьего войска, а матери – из Донского.
По преданиям, которые проверить исторически я не могу (семейные архивы погибли в России), Колчаки происхождения половецкого. Это возможно. Теснимые татарами, половцы частью слились с ними, частью ушли в Венгрию. Происходил ли адмирал Колчак от хана Кончака «треклятого и окоянного» или нет – не берусь сказать, да и тюркские корни двух кличек не те же. «Кончак» значит «штаны», а «колчак» – «боевая рукавица» (от слова «кол» – рука). Это стальной панцирь, покрывающий правую руку до локтя, кончающийся рукавицей из материи (левая рука прикрывалась щитом). Но на Урале есть вершина, название которой «Кончаков» или «Колчаков камень».
Во всяком случае первый Колчак, о котором имеются исторические записи в связи с русской историей, появляется в Боснии в XVII столетии и встречается с русской армией Петра Великого во время Прутского злосчастного похода 1711 года.
По хронике Ивана Никулчи, молдавского гетмана, этот Колчак был серб, родом из Боснии, принявший мусульманство. Он при Пруте был «булюбаш», то есть «полковник» катанов – маленький племенной вождь. Возможно, что его семья должна была уйти в горы Боснии от турок и, как это было обычно у боснийского дворянства, он принужден был перейти в мусульманство для сохранения своего рода, когда турецкое иго ложилось все тяжелее на Боснию в XVII веке.
Я расскажу о нем довольно подробно, потому что его личность связана со сравнительно мало изученной эпохой военной истории России времен Анны Иоанновны и фельдмаршала Миниха.
* * *
Из памяти изгрызли годы.
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.
В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла…
Так отразилась в наше время – в стихах Владимира Ходасевича – ода первая Ломоносова. Эта ода действительно может считаться началом русской поэзии. Она посвящена «Блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина – 1739 года».
Мало кто теперь читает оды Ломоносова и мало кто теперь знает, что в первой его оде, в первый раз в русской печати упоминается фамилия Колчак.
Как в клуб змия тебя крутит,
Шипит, под камень жало кроет,
Орел когда шумя летит
И там парит, где ветр не воет…
Пред Росской так дрожит орлицей,
Стесняет внутрь Хотин своих
Но что? В стенах ли может сих
Пред сильной устоять царицей?
Кто скоро толь тебе Колчак,
Учит Российской вдаться власти,
Ключи вручить в подданства знак
И большей избежать напасти?..
Ломоносов. «Ода первая».
Это переносит нас в царствование Императрицы Анны Иоанновны и именно в 1739-й год.
Ни это время, ни сама Государыня не пользуются доброй славой. Владычество верховников из «немцев», Бирон, Миних, «слово и дело», тайная канцелярия, придворные шуты, «Ледяной дом»… Положительные стороны этого царствования забыты. Так повелось с переворота Елисаветы Петровны. Оно и естественно, надо было всячески оправдать переворот и очернить, как можно больше, предыдущее царствование и предыдущий режим. Так всегда полагается. Но если Анна Иоанновна и мало доверяла русским, то она сама уж русской была несомненно.
Дочь Царя Иоанна Алексеевича, выросла она в Москве при маленьком дворе ее отца и матери, где сохранились старые уклады. Царевны росли в девичьей и в тереме. Духовенства вокруг было много, а учили их мало чему. Когда Анна Иоанновна стала герцогиней Курляндской, она научилась говорить по-немецки, но и то плохо. По природе своей она была грубовата, но если и малообразованна, то обладала большим здравым смыслом и дело своего дяди, Петра Великого, она продолжала. Если почитать бумаги ее кабинет-министров, то видно, что государственными делами она занималась здраво и довольно милостиво. Худо ли, хорошо, но она продолжала дело Петра Великого – расширение границ России для свободных морей и подготовила то, что было завершено при Екатерине Великой.
При начале царствования Петра Великого Россия граничила с тремя мощными государствами – Швецией, Польшей и Турцией – отделявших ее от морей и вообще от Европы. Через сто лет, к началу XIX века, все три препятствия были уничтожены. Три линии сил, направленных Петром против трех соседей, были поддержаны очень последовательно его преемниками. Военная сила Швеции была уничтожена еще самим Петром. Анна Иоанновна разрушала Польшу (война за польское наследство 1734 г. – взятие Данцига Минихом) и нанесла через того же Миниха первый удар тогда еще грозной Турции (война 1735–1739 гг. – взятие Очакова, Ставучанская победа, взятие Хотина). В то время Черное море было еще «турецким озером». Степи будущей Херсонской губернии были только кочевьем Едисанской орды, будущая Таврическая губерния была мало населена запорожцами и татарами Крымского ханства, Подольская была частью Речи Посполитой, как и почти вся правобережная Украина. Только Киев был уже снова русским.
Ханы Крымские были вассалами Порты и, при неповиновении, сменялись из Константинополя. Турция начала XVIII-го столетия, конечно, была уже не та, что при великих военных султанах Солимане и Баязиде. Если Евгений Савойский и Ян Собесский заставили турок несколько отступить из своих владений в Европе, все же силы Турции были еще велики.
Прутский поход Петра I в 1711 году закончился неудачно: вся русская армия, с Государем во главе, чуть не попала в плен к туркам в Молдавии, и пришлось поступиться первыми достижениями Петра на Азовском море, чтобы выбраться из этого положения.
Первая треть XVIII столетия называется турками «лале деврэ», что значит «эпоха тюльпанов». Царствование султана Ахмета III (1702–1730) и начало царствования Махмуда I – время очень блестящей и утонченной культуры. В Турции тогда в моде Персия, персидский язык, искусство, литература, а во Франции в моде Турция, несколько выдуманная, конечно, но все же Турция: турецкие мотивы на фарфоре, в живописи, в музыке. Султан Ахмет строит киоски и фонтаны, разводит тюльпаны. Султан Махмуд коллекционирует фарфор и любит заниматься ювелирной работой. Весь их двор в красочных одеяниях, да вообще типы оттоманской империи эпохи «тюльпанов» можно видеть на великолепных гравюрах, изданных в Париже в 1715 году, по зарисовкам, сделанным по заказу французского посла Боннака, и в собрании миниатюр, поднесенных турецким послом Людовику XIV, которые хранятся в Cabinet des estampes в Париже.
Все это очень красиво, очень элегантно, очень остроумно и полно той утонченности и забавности, которые обыкновенно в моде перед большими катастрофами…
Дунайские княжества – Молдавия и Валахия под турецким протекторатом. Порта назначает их господарей из Константинополя, выбирая их из греков-фанариотов, которые вообще поставляют драгоманов Порты и фактически которым поручены иностранные дела, дипломатические сношения и внешняя торговля. Кантемиры, Мурузи – православные подданные султана – становятся или скоро станут русскими волею и часто не совсем по доброй воле. Но турецкая армия все еще грозная сила и по Черному морю ходят только турецкие корабли.
Кто знает Пушкина, знает и его перевод из воспоминаний бригадира Моро-де-Бразе, который участвовал в Прутском походе Петра I. Вот как Пушкин перевел на русский язык заметки очевидца о турецких войсках 1711 года.
«Признаюсь, из всех армий, которые мне удалось только видеть, никогда не видывал я ни одной прекраснее, величественнее и великолепнее армии турецкой. Эти разноцветные одежды, ярко освещенные солнцем, блеск оружия, сверкающего наподобие бесчисленных алмазов, величавое однообразие головного убора, эти легкие, но завидные кони – все это на гладкой степи, окружая нас полумесяцем, составляло картину невыразимую, о которой, несмотря на все мое желание, я могу вам дать только слабое понятие».
Вообще то, что пишет Моро о турках, довольно занимательно. Дальше он рассказывает о своем разговоре с тремя пашами, говорящими по-немецки и no-латыни, приехавшими в русский лагерь после заключения перемирия.
«Я всегда воображал себе турков людьми необыкновенными: но мое доброе о них мнение усилилось с тех пор, как я на них насмотрелся. Они большею частью красивы, носят бороду, не столь длинную, как у капуцинов, но снизу четырехугольную, и холят ее, как мы холим лошадей (sic!). (Пушкин плохо прочел: во французском тексте „cheveux“ – волосы, а не „chevaux“ – лошади. – Р. К.). Эти наши, хотя все разного цвета, имели красивейшие лица. Тот, с которым я разговаривал, признался мне, что ему было шестьдесят три года, а на взгляд нельзя было ему дать и сорока пяти».
В армии, описанной Моро-де-Бразе, был и Илиас паша Колчак – он был еще молодым офицером. Родился он около 1675 года, и при Прутском походе ему было лет тридцать пять.
Моро-де-Бразе не называет тех трех пашей, которых он описывает, но вот что он еще о них говорит:
«Только что мы кончили наш обед. Фельдмаршал (Шереметьев) на нас наехал и попросил нас угостить трех пашей, приглашенных от Великого Визиря к Его Царскому Величеству, покаместь Государь не даст ответа (на условия перемирия). Мы к ним отправились. Один из них говорил хорошо по-немецки и еще лучше no-латыни. Он достался на мою долю; друзья мои довольствовались оба одним из остальных, говорившим только по-немецки. В минуты первых приветствий слуги фельдмаршальские разбили шатер, постлали на земь ковер турецкий, на который усадили мы наших трех пашей. Они сели, сложив ноги крестом и велели принести себе трубки, коих чубуки столь длинны, что головки их лежали на земле.
Сначала разговор наш был общий.
Наконец, паша, говоривший no-латыни, коль скоро узнал, что я француз, подозвал меня к себе и громко объявил, что французы были приятели туркам. Тогда, вступив в частные рассуждения, я спросил у него, по какой причине и на каких условиях заключили они мир. Он отвечал, что твердость наша их изумила, что они не думали найти в нас столь ужасных противников; что, судя по положению, в котором мы находились, и по отступлению, нами совершенному, они видели, что жизнь наша дорого будет им стоить, и решились, не упуская времени, принять наше предложение о перемирии, дабы нас удалить. Он объявил, что в первые три дня артиллерия наша истребила и изувечила множество из их единоземцев, что у них было 8000 убитых и 8000 раненых и что они поступили благоразумно, заключив мир на условиях, почетных для султана и выгодных для его народа».
Я привожу эту обширную цитату, потому что она объясняет Прутский трактат и почему вся русская армия, с Государем во главе, не попала в плен туркам, а смогла, правда, потерявши половину людей, уйти беспрепятственно обратно за Днестр в Подолию. Кроме того, она дает понятие и о турецких генералах того времени.
После заключения перемирия эти три паши с отрядом провожали до Ясс уходящую русскую армию.
«Здесь расстались мы с тремя пашами и с их отрядом, – продолжает Моро-де-Бразе. – Дорогой имел я честь несколько раз с ними разговаривать, а однажды и обедать вместе у генерал-лейтенанта барона Остена. Они попросили рису вареного на молоке и наелись его, насыпав кучу сахара. Мы никак не могли заставить их пить венгерского вина, как ни просили; они предпочитали кофе, сваренного по их обычаю и который пили они целый день».
Почти наверное можно сказать, что паша помоложе, говоривший по-немецки, был Колчак.
Как известно, он был из Боснии, прилегающей к австрийским провинциям, и мог знать немецкий язык. Кроме того, он был при штабе великого визиря, как видно из хроники Ивана Никулчи. В этой хронике Колчак, насколько мне известно, упомянут в первый раз. В ночь 7 июля 1711 года турки переправились на правый берег Прута и услышали шум русских повозок и лошадей. Это была кавалерийская дивизия генерала Януса, бывшая в авангарде и отходящая обратно к армии Шереметьева по приказу Петра.
Вот что пишет Никулча:
«Враг, услышав шум повозок, сначала испугался и даже начал переправляться обратно через реку, но один паша заметил Великому Визирю, что шум удаляется, а не приближается. Колчак булюбаш, ренегат, серб родом из Боснии, был послан на рекогносцировку. Он доложил, что русский корпус обратился в бегство. Лишь удостоверившись в этом, турки успокоились и продоложали переправу на правый берег Прута в течение всей ночи. Колчак, за это хорошее известие, стал впоследствии пашей трехбунчужным и губернатором Хотина».
Конечно, Никулча, молдаванин, стоящий на стороне русских, отзывается недоброжелательно о противнике из христианского рода, перешедшего в мусульманство, и слово ренегат нас шокирует. Но явление это было очень распространено в Боснии.
Турки не обращали христиан в мусульманство насильно, но старались опираться на то местное дворянство, которое принимало ислам, давая ему за это известные привилегии, нежелающих обкладывали непосильными данями, лишая их, таким образом, и имущества и власти.
Реакции христианских народов подвластных туркам были различны. Албанцы сравнительно быстро все перешли в ислам и потому пользовались особым расположением турок.
Сербы сопротивлялись дольше; часть сербского дворянства эмигрировала в королевскую Венгрию и в Боснию, но, хотя сербское население и осталось в массе православным, все же переходы в мусульманство были нередки.
В Боснии же наблюдалось очень любопытное явление. Масса населения оставалась христианской, но отдельные члены владетельных семей принимали мусульманство, часто возвращаясь в православие перед смертью. Таким образом происходило известное разделение прав. Например, один из братьев, переходя в мусульманство, сохранял своей семье и местную власть и имущество и, сделавшись турецким беем или булюбашем, позволял своему племени жить по его обычаям и вере.
Из заметки Никулчи видно, что так и было с Колчаком.
В 1711 году он со званием булюбаша приходит в Молдавию в числе лиц штаба великого визиря Мохамед Бостанджи-паши. Отличается при переправе через Прут и, вероятно, присутствует при переговорах о перемирии с Петром Великим, как упомянуто у Моро-де-Бразе.
Остается в Молдавии при Абды-паше, который вскоре назначается сераскиром анатолийским и румелийским. Затем Абды-паше, человеку, пользующемуся большим почетом (возможно, что Абды-паша и был тот паша 63-х лет, говоривший no-латыни и по-немецки, о котором рассказывает Моро), поручается укрепление Хотинской крепости. Крепость эта по своему положению приобретает в это время большое значение. Расширение ее и постройка новых укреплений по системе Вобана и по планам французских военных инженеров закончены в 1713 году, а в 1717 году начальник ее, Абды-паша, умирает, и Илиас-паша Колчак назначается на его место.
Колчак будет пашой хотинским двадцать два года, сначала в должности «сол кол агассы», что значит начальник левой руки, т.е. левого крыла бессарабской армии, а затем начальником хотинской крепости и генерал-губернатором хотинской рапи.
За свое более чем двадцатилетнее пребывание в Хотине Колчак занят военно-дипломатической работой, весьма любопытной и дающей живые примеры того, как переживалась и проводилась в жизнь турецкая политика по отношению к России в первой половине XVIII столетия и также политика Франции в отношении той же России через ее союзников Швецию, Польшу и Турцию.
В период времени, идущий от смерти Петра Великого (1725 г.) до воцарения Елисаветы Петровны (1741 г.), т.е. за шестнадцать лет, на российском престоле сменяются две Государыни и два Государя-мальчика. Сменяются также, часто в драматической обстановке, приближенные и доверенные люди монархов – верховники и министры. Меньшиков умирает в ссылке в Березове, гибнет семья Долгоруких, Миних проживет 20 лет в Польше, заменив Бирона, которого он же в Пелым сослал…
Но внезапные и трагические перемены внутренней истории России как будто не отражаются на ее иностранной политике. Последователи Петра Великого идут по путям, указанным великим Императором, к свободным морям и на Запад. Цели Петра Великого, отвечающие геополитическим необходимостям России, будут достигнуты при Екатерине Великой. Первое препятствие – Швеция – фактически разрушено еще Петром после Полтавы; шведская военная мощь настолько сломлена, что ни Карл XII, завязший в Бендерах, ни его сестра Ульрика Элеонора и ее правительство восстановить силы государства не могут и Швеция погружается в свои внутренние затруднения. Второе препятствие – Польша – ослабляется своими внутренними противоречиями, вытекающими из ее своеобразного и анархического правительственного строя. Влияние России в Польше совершается через королей саксонцев, Августа II и Августа III.
Петр Великий пытается устранить и третье препятствие – Турцию, но ему приходится отступить после неудачного Прутского похода.
Анна Иоанновна (1730–1740) снова вернется к вопросам, которые Петр Великий не успел разрешить окончательно. Это вызовет войну с Турцией, начавшуюся в 1735 году и закончившуюся в 1739-м.
Последовательные действия России, ведущие к ослаблению Швеции, Польши и Турции, вызывают большую тревогу во Франции, так как все эти три государства входят в систему союзов Франции против Австрийского дома; естественно, что в этот период Россия, со своей стороны, действует в союзе с Австрией и вступает в войну с Турцией в союзе с имперцами, вековыми врагами турок.
Польша в это время принуждена остаться нейтральной. В Варшаве царствует Август III, поддерживаемый Австрией и Россией, и русские войска или стоят в Польше, или свободно проходят через нее.
Попытка Франции в пользу Станислава Лещинского не удалась и кончилась занятием Данцига Минихом еще в 1734 году и бегством Станислава Лещинского из Польши. Турция, как и Франция, поддерживала Станислава Лещинского и его сторонников.
Находясь в Хотине с 1713 года, Колчак-паша является исполнителем на месте польской политики Стамбула и поддерживает постоянные сношения с великокоронным гетманом Иосифом Потоцким, который, в частности, владеет пограничными с Бессарабией областями Подолией и Галицией. Сохранилась и часть переписки между ними.
Вот пример стиля Колчак-паши из его письма к Потоцкому от 2 декабря 1736 года из Хотина. В этом письме характеризуется кратко и турецкая политика того времени по отношению к Польше и России. Письмо написано, когда война уже началась.
«Посылаю чрезвычайного моего посланника Мустафу-агу, дабы сперва узнать о вашем добром здравии, а затем передать пожелания вам впредь всякого благополучия. Также объявляю вашему сиятельству, как то ведомо всему свету и всей самой Речи Посполитой нам доброжелательной, что Пресветлая Порта Оттоманская от давних времен всегда и весьма в мыслях своих сохраняла и сохраняет, дабы вольность польская в целости быть могла. И если Пресветлая Порта Оттоманская с Государством Российским когда-то вначале договор заключили, то это, дабы доброжелательная нам Речь Посполитая в свой вольности пребывала и от войск (чужих. – Р. К.) в границах своих дабы всегда свободна была, пакты бы заключала и утверждала, а наипаче, в нынешних конъюнктурах Пресветлая Порта Оттоманская (желала бы) иметь (по отношению к себе. – P. K.) постоянную и доброжелательную Речь Посполитую Польскую…»
Дальше Колчак пишет, что ему известно, что, вопреки «пактам», русские войска зимуют в Польше, и что, если ему придется атаковать русских на польской территории, он надеется, что Польша не увидит в этом враждебного акта.








