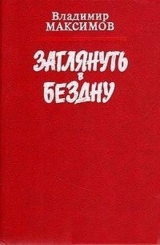
Текст книги "Заглянуть в бездну"
Автор книги: Владимир Максимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
6.
Из записок Г. Гинса:
«В начале октября Верховный Правитель собирался в дальнюю поездку, в Тобольск. Я решил сопровождать адмирала. Мне хотелось ближе познакомиться с ним, хотелось также побывать на фронте, у самого огня, увидеть солдат, офицеров, ознакомиться с их настроением.
Как раз накануне отъезда в доме Верховного был пожар. Нехороший признак. Трудно было представить себе погоду хуже, чем была в этот день. Нескончаемый дождь, отвратительный резкий ветер, невероятная слякоть – и в этом аду огромное зарево, сноп искр, суетливая беготня солдат и пожарных, беспокойная милиция.
Это зарево среди пронизывающего холода осенней слякоти казалось зловещим. „Роковой человек“, уже говорили кругом про Адмирала. За короткий период это был уже второй несчастный случай в его доме. Первый раз произошел разрыв гранат. Огромный столб дыма с камнями и бревнами взлетел на большую высоту и пал. Все стало тихо. Адмирала ждали в это время с фронта, и его поезд приближался уже к Омску.
Взрыв произошел вследствие неосторожного обращения с гранатами.
Из дома Верховного Правителя вывозили одного за другим окровавленных, обезображенных солдат караула, а во дворе лежало несколько трупов, извлеченных из-под развалин. Во внутреннем дворе продолжал стоять на часах оглушенный часовой. Он стоял, пока его не догадались сменить.
А кругом дома толпились встревоженные, растерявшиеся обыватели. Как и часовой, они ничего не понимали. Что произошло? Почему? День был ясный, тихий. Откуда же эта кровь, эти изуродованные тела?
Когда Адмиралу сообщили о несчастье, он выслушал с видом фаталиста, который уже привык ничему не удивляться, но насупился, немного побледнел.
Потом вдруг смущенно спросил: „А лошади мои погибли?“
Теперь, во время пожара, адмирал стоял на крыльце, неподвижный и мрачный, и наблюдал за тушением пожара. Только что была отстроена и освящена новая караульня, взамен взорванной постройки, а теперь горел гараж. Что за злой рок!
Кругом уже говорили, что Адмирал несет с собой несчастье. Взрыв в ясный день, пожар в ненастье… Похоже было на то, что перст свыше указывал неотвратимую судьбу.
Поездка в Тобольск состоялась. Для Адмирала был реквизирован самый большой пароход „Товарпар“. Он должен был omoйmu в Семипалатинск. Уже проданы все билеты, и публика начала занимать каюты, когда пришло известие: „всем пассажирам выгружаться“. Шел дождь. Другого парохода не было, а публику гнали с парохода.
Бедный Адмирал! Он никогда не знал, что творилось его именем. Исправить сделанного уже было невозможно, и я ничего не сказал ему».
7.
После тобольской поездки что-то словно бы хрустнуло, надломилось в налаженной было Адмиралом машине. И от этого надлома потянулись трещины и трещинки во все стороны ее не окрепшего еще организма.
Тюменская операция окончательно захлебнулась. Красные не соблазнились кратчайшим путем отхода через лесные топи на Тюмень, а вопреки всем ожиданиям, повернули обратно – к Тобольску, по частям разбивая небольшие отряды воткинцев, выдвинутых в тыл отступающего противника, а встретивших наступавшего. Под самым Тобольском они, не заходя в город, повернули на Тюмень, оказавшись за спиной армии генерала Редько, шедшей вдоль Тобола в том же направлении. Сразу же началось беспорядочное отступление, а вернее, бегство. Северный фронт разошелся по всем швам.
Затем, словно сполохи по сухой стерне, пошли дымить крестьянские бунты, отзываясь на усмирения все новыми и новыми зарницами. Волнения подступали к самому Омску из Славгородского и Тарского уездов, с юго-востока и северо-запада, прервав линию сообщений Семипалатинск-Барнаул. Земля уходила из-под ног Адмирала.
После чего и с запада посыпались известия одно тревожнее другого. В конце октября Юденич отступил от Петрограда. Почти одновременно Деникин сдал Орел и начал стремительно откатываться к Ростову. Архангельского фронта больше не существовало. Омск оставался в одиночестве, с глазу на глаз с Пятой армией наступающего противника.
И пошло, поехало.
Атаманщина в полном составе окончательно вышла из повиновения. Верным оставался только Дутов, но до него было далеко, и поэтому он мало чем мог помочь. Семенов удельным князьком отсиживался в Чите, Анненков куролесил по Семиречью, а Калмыков жег и грабил вокруг Харбина. И не существовало отныне на этой земле силы, которая смогла бы обуздать или утихомирить их.
Чехи, поддержанные союзниками, с каждым днем вели себя все более вызывающе. Их эшелоны забили железнодорожную сеть до самого Новониколаевска, блокируя любые перевозки в каких бы то ни было направлениях. Не считаясь ни с грузом, ни с графиком и пренебрегая чьими-либо приказами и просьбами, они самочинно реквизировали тягу и подвижный состав для подручных нужд и праздного передвижения. Сибирь сделалась заложницей этой разнузданной орды у себя, в своей собственной стране. Омск стал походить на осажденную крепость. Вокруг города дымили кострами таборы беженцев, из которых наспех формировались разношерстные соединения: мусульмане, легионеры, православные крестоносцы. Молва перекатывала из конца в конец города недавние слова Адмирала: «Бежать больше некуда, надо защищаться».
На полыхающий неподалеку фронт были брошены последние резервы: морской батальон, городское ополчение и даже большая часть адмиральского конвоя. Упорство наступающих схлестнулось насмерть с отчаянием оборонявшихся.
Но – странное дело! – чем хуже и безнадежнее становилась общая ситуация, тем увереннее и тверже чувствовал себя Адмирал. Осознав худшее, он словно бы отряхнул душу от страхов и тревог вчерашней неопределенности и с облегчением взглянул в глаза своей гибели. Наверное, так чувствует себя беглец, настигнутый долгой погоней, когда уже нет надобности никуда бежать и не от кого скрываться: флажки сомкнулись за ним, и ему ничего не оставалось, как наблюдать из своего загона за окружающими с отчаянным спокойствием обреченного.
Царившая вокруг него паническая суета, обтекая его со всех сторон наподобие гулкого водоворота, почти не отзывалась на нем. По сравнению с тем, что ожидало его впереди, волнения и страсти вокруг виднелись ему теперь словно сквозь опрокинутый бинокль, настолько они выглядели микроскопическими.
Видит Бог, он сделал все, бывшее в его силах, чтобы, оказавшись в самой стремнине сокрушительного потока, попытаться если не остановить этот поток, то хотя бы прикрыть собою тех, кто был ему особенно близок, а если и не сумел этого сделать, то не по своей вине
Да и кому на его месте удалось бы совершить большее?
Едва ли вокруг него имелись люди, видевшие дальше, чем он, и понимавшие, что всё, случившееся в России, только начало пожара, который рано или поздно охватит остальной мир, и что война, залившая ее, теперь уже не кончится до тех пор, пока на земле останется хотя бы одна живая душа. Простому смертному не под силу была бы догадка, что человек впервые в истории затеял войну, которая захлестнет землю, а затем, дробясь и дробясь на всё более малые бойни, обернется последним поединком двух живых существ, после чего победитель, в последний раз огласив мертвую землю предсмертным криком, уничтожит самого себя. И тогда над поверженным миром прокатится торжествующий хохот Сатаны: «Я победил тебя, Галилеянин»…
Губернаторский дом, где размещались службы Верховного правителя, превратился в придорожный табор: повсюду громоздилась ручная кладь, товарный багаж, беспорядочные груды документации, а поверх всего этого сидели, лежали, возбужденно метались люди с загнанными от растерянности глазами.
В кабинете Адмирала происходило почти беспрерывное заседание. Разговоры велись лишь об одном: сдавать или не сдавать Омск? В принципе, эвакуация была решена еще в августе, но затем не раз отменялась в надежде на изменения к лучшему. Даже теперь, когда, казалось бы, другого пути не оставалось, наиболее отчаянные головы призывали правительство защищаться во что бы то ни стало и любой ценой.
Адмирал беспрерывно принимал министров, генералов, представителей городской общественности, вполуха выслушивал все «за» и «против», невидяще смотрел сквозь собеседников, едва воспринимая обращенные к нему доводы и доказательства.
Слегка оживился он только при появлении командующего Третьей армией генерала Сахарова. Тот прибыл прямо с фронта, вымокнувший под мокрым снегом с ног до головы, в заляпанных грязью сапогах возник на пороге и уже оттуда, не стесняясь субординацией, обрушил на присутствующих водопад новостей, одну хуже другой:
– Фронта больше не существует, господа, солдаты разбегаются, куда глаза глядят, Щетинкин гуляет по нашим тылам, как у себя дома, измена поднимает голову на каждом шагу, большевики могут оказаться в любую минуту на ружейный выстрел от Омска! – но, выложив все это одним духом, закончил он довольно неожиданно. – Выход один: собрать остатки сил в единый кулак вокруг города и защищаться до последнего, противник тоже на последнем пределе, если мы выстоим, возможен перелом.
Илишь после этого не сел, а облегченно рухнул в кем-то сочувственно выдвинутое к нему кресло, с вызовом вздернув бульдожий подбородок в сторону Адмирала. Даже видавший виды Пепеляев не сразу нашелся, настолько он был ошарашен сахаровским натиском:
– Какими же силами защищаться, Константин Васильевич, где они у нас эти силы?
– Наличными, Анатолий Николаевич, наличными, – Сахаров не скрывал давней своей неприязни к Пепеляеву. – Вытянуть на свет Божий из разных канцелярских и штабных щелей всю тыловую сволочь, поставить под ружье и отправить на позиции, хватит ей пробавляться на казенном корму за спиной у фронтовиков, вот и весь сказ, а то ведь, я смотрю, эта сволочь не воевать, а удирать собралась на семеновские хлеба, только как бы ей этими хлебами не подавиться…
В дальнейшую перепалку Адмирал уже не вникал. К нему вдруг вернулось спасавшее его временами упрямство: почему бы и нет? Да, положение практически безнадежно, да, реальных шансов у них, если смотреть правде в глаза, нет, но вот находится человек, который хочет и полон решимости драться, отчего не позволить этому человеку рискнуть? Сколько можно выслушивать нытье Дитерихса, этого тихопомешанного ханжу, возомнившего себя перстом Божьим, или надеяться на шальное везение Пепеляева, удачливого только на ровной дорожке, пусть честолюбивый новичок попытает счастья, может быть, еще не все потеряно и есть шанс хотя бы отсрочить худшее?
Возвращаясь к действительности, Адмирал решительно вклинился в гудевший вокруг него спор.
– Быть по сему.
8.
Из дневника Анны Васильевны:
«Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь, – с кем я могу говорить об Александре Васильевиче? Все меньше людей, знавших его, для которых он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной каких бы то ни было человеческих жертв. Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу, – сухо, протокольно и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться на мелочи – это ли не уважение к человеку?
И мне он был учителем жизни, и основные его положения: „ничто не дается даром, за всё надо платить – и не уклоняться от уплаты“и „если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу – тогда не так страшно“ – были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы».
9.
Из записок Г. Гинса:
«В день отъезда ударил мороз. Стало легче на душе: армия сможет отойти за Иртыш.
По обе стороны пути тянулись обозы отступающих частей. На станциях стояли длинной цепью эшелоны эвакуирующихся министерств и штабов. Платформы были наполнены всяким скарбом.
В Новониколаевске мы получили известие, что дела Деникина идут очень плохо. Я посетил стоявшего там Дитерихса. Он показал мне торжествующее радио большевиков, которое заканчивалось словами: „плохо, брат Деникин, пора умирать“. „А вы знаете, – сказал Дитерихс, – что вам лично грозила опасность в Омске? Я просил генерала Домонтовича вас об этом предупредить“.
Мы тронулись дальше. Ехали спокойно, но чувствовали себя путешественниками, а не правительством. Все разбилось, разорвалось на части и жило своей жизнью по инерции, не зная и не ища власти. Только начиная от Красноярска, где путь уже не был так разбит, стали выходить местные администраторы, чтобы встретить и получить инструкции.
Но что мог дать им Вологодский, который в то время больше походил на путешественника, чем когда-либо! И встречавшие получали только последний номер „Правительственного Вестника“ с Положением о Государственном Экономическом Совещании. Это была последняя ставка правительства. Любопытно, что одна из последних телеграмм Деникина извещала о разработке проекта учреждения законодательного органа. Этого же хотел и Миллер в Архангельске. Все пришлu к этому выводу. Но Миллер просил одновременно дать ему право производить в чины и награждать орденами. Эту телеграмму мы оставили без ответа…
Армия Адмирала обратилась в беспорядочное бегство, а в район расположения сил генерала Деникина врезался клин наступающих красный войск. Деникин отступал, и не только миновала опасность Москве, но и открылись перспективы освобождения хлебных районов. Юденич отступил к границам Эстляндии. В Юрьеве было достигнуто соглашение между советской Россией и Эстляндией о признании последней и прекращении военных действий. Юденич уже не думал о взятии Петрограда, его внимание было направлено в сторону спасения остатков разбитой армии.
Было чему радоваться в красной Москве.
Омское Правительство выехало 10 ноября, а 14-го Омск был уже занят красными. Произошло занятие Омска с той же понятной только для свидетелей гражданской войны, объяснимой только социальной психопатологией, катастрофической быстротой. Восстание внутри, неожиданное появление отрядов красных с севера – и все побежало, все силы гарнизона куда-то испарились, одни отнимали у других лошадей, одни других пугали.
Впечатление непреодолимости красных сил усиливалось от стихийности их движения. Красная армия начала казаться всем непобедимой. Сила сопротивления становилась все слабее. Перелом настроения в сторону большевиков вызвал массовый переход на их сторону всех тех, кто относился безразлично или с антипатией к власти Верховного Правителя».
10.
В Нижнеудинске поезд Верховного Правителя загнали в тупик. Адмирал сразу же почувствовал себя, будто под стеклянным колпаком, настолько осязаемой сделалась окружающая его тишина. Связь с внешним миром прервалась окончательно, и лишь невероятными ухищрениями Удальцова, правдами и неправдами уломавшего станционных связистов, удалось дважды соединиться со штабом Западного фронта, но вести оттуда не принесли облегчения: фактически боевая сила продолжала существовать только на штабных картах.
На следующий день нарочным было доставлено два пакета, от Совета министров и генерала Жанена. В первом ему предлагалось отречься в пользу Деникина, во втором – отдаться под опеку чехов. Ультиматум вчерашних подчиненных выглядел дурной шуткой, предложение союзников о чешской опеке – смертным приговором.
Но, давно приготовившись к худшему, Адмирал не считал себя вправе связывать своей судьбой сопровождавших его людей.
– Вот что, полковник, – он брезгливо протянул Удальцову обе бумаги, – передайте этой сволочи, что я согласен и соберите ко мне тех, кто еще остался, – офицеров, обслугу, конвой, я хочу попрощаться с ними.
Бумаги тот взял, но так и остался стоять с ними в вытянутой по шву рукой:
– Разрешите, Ваше высокопревосходительство, изложить вам кое-какие свои соображения?
– Только давайте теперь попросту, Аркадий Никандрыч, без чинов, – от Удальцова исходила жаркая волна ожесточенной решимости, которой так не хватало сейчас ему самому, – чего уж там, выкладывайте.
– Надо пробиваться в Монголию, Ваше высокопревосходительство, – под укоряющим взглядом Адмирала он тут же с усилием поправился, – Александр Васильевич, к весне собрать там силу и ударить снова, я уже говорил с людьми, два десятка соберется вполне надежных, медлить нельзя никак, каждую минуту могут разоружить. – Видно, уловив в лице Адмирала проблеск колебаний, заговорил еще жарче, еще убежденнее. – Пробьемся, Александр Васильич, легко пробьемся, комитетских здесь кот наплакал, если бы не чехи, мы бы их без выстрела сняли, они носа за нами не высунут, а в тайге мы сами себе хозяева, я ведь родом из этих мест, с завязанными глазами проведу и выведу…
Надежда золотой рыбкой встрепенулась было в Адмирале, но померкла так же мгновенно, как и занялась:
– Верность вашу, Аркадий Никандрыч, я всегда ценил и ценю, но бегство – это не для меня, – он устало горбился за столом вполоборота к Удальцову, но на собеседника не глядел, разговаривая скорее с самим собою. – За мной пошла армия, тысячи людей, они поверили мне, сколько из них сложили головы, а теперь, когда им совсем плохо, когда у них ничего не осталось, кроме веры в меня, я соглашусь их бросить? Нет, Аркадий Никандрыч, этому не бывать, это означало бы предать и живых, и мертвых, погибать – так уж вместе с ними.
– Но без вас-то нам уже и вовсе не подняться, Александр Васильевич, – почти выкрикнув, взмолился Удальцов. – Тогда всему конец!
– Пробивайтесь на соединение с Каппелем, Аркадий Никандрыч, – все так же, вполоборота к собеседнику, Адмирал поднялся, – во Владимира Оскарыча я верю, он еще сумеет, за ним пойдут, – он медленно повернул к Удальцову опустошенно схлынувшее лицо. – Храни вас Бог, Аркадий Никандрыч!
И весь ушел в свои глаза, замкнувшись в них, как в раковинах.
Какой долгой видится жизнь вначале и какой короткой она оказывается в конце! Теперь ему представлялось, будто ее и вовсе не было, и мгновение, когда он сознал свое «я», все еще длится, вобрав в себя его путь от первых шагов по земле до сегодняшнего дня. Прерывистыми кадрами вспыхивали в его памяти фантомы и видения прошлого, сливаясь в конце концов в одно целое, в котором полностью замыкался магический круг его судьбы…
У него не было надобности даже оборачиваться, чтобы почувствовать ее присутствие, а почувствовав это, он тихо спросил, все так же глядя перед собой, но в себя:
– Вы уже знаете?
– Да.
– Что вы об этом думаете?
– Будем надеяться, Александр Васильевич, они все-таки европейцы.
– Европейцы обычно употребляют это слово, когда хотят оправдать свое равнодушие.
– Но они военные, дорогой Александр Васильевич, для них небезразлично понятие чести.
– К сожалению, они давно забыли о том, что это такое.
– Но они предлагают нам перейти в вагон под их флагами.
– То есть в мой собственный гроб, покрытый их знаменами.
– И все же будем надеяться, Александр Васильевич, будем надеяться…
Легкие ладони ее легли ему сзади на плечи, и от этого их летучего прикосновения все в нем затихло, выровнялось, улеглось. Поэтому, когда на пороге появилась тучная фигура генерала Зенкевича, он был уже снова собран и предупредителен:
– Слушаю вас, генерал.
Тот некоторое время смущенно таращился на Адмирала базедовыми глазами, грузно переминался с ноги на ногу и, наконец, выдавил из себя с заметным усилием:
– Простите, Ваше высокопревосходительство, союзники торопят… Мы должны немедленно перебраться в чешский эшелон… Иначе они не ручаются за вашу безопасность… На станции неспокойно…
– Кто с нами?
Зенкевич еще более сник и напрягся:
– Только ближайшее окружение, Ваше высокопревосходительство… Таково условие чехов… Генерал Сыровой уже распорядился поставить нас на общий солдатский котел…
Адмирал равнодушно пожал плечами: Сыровой мстил.
Мстил мелко и глупо, как всякий торжествующий плебей. На таких у Адмирала обычно не хватало даже презрения.
(Новоиспеченный чешский генерал великодушно дарил полному русскому адмиралу, Верховному Правителю России, право пользоваться котлом иноземных солдат, состоявшим из харчей, реквизированных ими у сибирских крестьян: не правда ли, восхитительно, а?)
– Я готов, – он бережно снял ее руки с себя и, повернувшись к ней лицом, взял их в свои. – Надеюсь, эти милостивые государи не оставят здесь, вместе с моим конвоем, русского золота?
– Золотой запас, Ваше высокопревосходительство, уже отбыл в Иркутск.
– Я был уверен, что об этом они позаботятся, деньги они считать умеют, в особенности чужие. Попросите собрать для меня самое необходимое, больше мне уже наверное не понадобится. Благодарю вас. – И к ней, с обреченной решимостью: – Анна Васильевна, милая, оденьтесь потеплей, холод на дворе анафемский…
С этого момента их отношения, дошедши до своего последнего предела, сделались обыденнее, проще, доверительней. У них уже не было надобности считаться с какими-либо ограничениями или условностями, связанными с их официальным положением. Впервые за эти годы существовавшей между ними переменчивой близости они стали наконец по-настоящему близки…
Ночь обвалилась на них звездной пропастью, перехватила дыхание режущей стужей и хрустко заскрипела под ногами, сопровождая их путь к чешскому эшелону.
Где-то далеко впереди, из-за крыш станционных построек, призывно попыхивали огневые зарницы и перекатывался гул орудийной переклички. Тепло живой жизни затаилось под кровлями жилищ и вагонов, посвечивая оттуда тусклыми огоньками притемненных окошек, а над всем этим, угрожающе сдвигаясь, аспидно возносилось раскаленное от звезд небо.
(Мне кажется, что я и вправду вижу ее – эту маленькую процессию на железнодорожных путях заштатной сибирской станции, с падающими летучими тенями на сверкающем снегу, и все во мне устремляется следом за нею, этой процессией, чтобы, преодолев барьеры времени, настичь ее и остановить: куда вы!)
В коридоре вагона второго класса было не протолкнуться, но при появлении Адмирала и его спутницы солдатский гомонок затих, раздвинулся вдоль окон, уступая им место для прохода, а затем молча, со смущенным любопытством, пропустил мимо себя в отведенное для них купе. Щелчок замка задвинутой за ними двери отделил их от этого любопытства, и они наконец остались наедине, порывисто припав друг к другу:
– Вам холодно?
– Нет, нет, Александр Васильевич, совсем нет!
– Я виноват перед вами, Анна.
– Александр Васильевич, милый, полноте!
– Хорошо, Анна Васильевна, я больше не буду.
– Вот и славно, дорогой мой, вот и славно.
– Милая Анна, Аннушка, Аннет…
– Если бы всегда так…
– Еще не поздно, Анна, еще не поздно…
– О, если бы!
Потом он укладывал ее на диване, кутал ей ноги своей шубой, а после сидел над ней, уже спящей, глядя в плывущую за окном ночь.
Сидел и думал о том, зачем и откуда он появился на этой земле, где и как его жизнь кончится и что останется после него на ней? В чьей гремучей смеси славянской и восточной кровей пустило корни родословное дерево, одним из побегов которого сделался он, – нынешний адмирал и Верховный Правитель России в самую, может быть, страшную пору ее истории…
Ему не требовалось гадать о своем конце. Конец этот был совсем близок и уже неотвратим. Гадать он мог лишь о том, где и как это произойдет. Но вот что останется после него на земле и останется ли вообще что-нибудь, это сейчас занимало и мучило его более всего.
Где-то там, в далеком Париже, затерялись два близких ему существа – жена и сын. С женой они расстались без объяснений, у нее оказалось достаточно ума, силы и великодушия, чтобы понять, что случившееся между ним и Анной не было мимолётным увлечением, и вовремя отойти в сторону, но судьба сына продолжала терзать его до сих пор. Что будет с ним, кем он вырастет и каким запомнит отца?
В последние месяцы, оставаясь наедине с собой, Адмирал часто мечтал о том, чтобы после него остался хотя бы один-единственный свидетель, который когда-нибудь рассказал его сыну историю выпавшего ему крестного пути. С каким облегчением он принял бы тогда свой конец!..
Дверь распахнулась, будто вывалилась, обнажив прямоугольник тускло освещенного коридора, а в нем, как в портретной раме, приземистую фигуру чешского офицера:
– Наше командование, – тот старательно выговаривал явно заранее выученные наизусть слова, но на Адмирала не смотрел, скосил взгляд в сторону, в глубину купе, – передает вас иркутским властям в целях вашей собственной безопасности.
И хотя Адмирал ждал этого и давно приготовил себя к самому худшему, все в нем мгновенно оборвалось и зябкой волной схлынуло к ногам:
– Значит, союзники предают меня? – но усилием воли ему тут же удалось встряхнуться и взять себя в руки. – Пройдемте в коридор, даме необходимо привести себя в порядок…
При этом Адмирал смотрел мимо чеха, в окно за его плечом, где на чернильном фоне холодной ночи, словно вклеенная в верхний угол оконного стекла, неслась навстречу ему одинокая и торжествующая в своем одиночестве звезда.
Его звезда.








