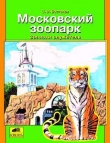Текст книги "Московский процесс (Часть 1)"
Автор книги: Владимир Буковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Такова была подоплека процесса в Конституционном суде, его скрытая суть. Разумеется, просидев в зале с полчаса в первый день, я больше там не появлялся до самого дня своих показаний, а сидел и сканировал документы в комнате отдыха, где при желании можно было следить за процессом по монитору. Или шел через улицу, в архивы ЦК. А уставши сидеть за компьютером, шел прогуляться по знакомым с детства переулкам, но почти ничего не мог узнать, словно попал в абсолютно чужой город.
Москва выглядела чудовищной развалиной, будто ее долго бомбила стратегическая авиация Соединенных Штатов. Не стало целых улиц, перекопанных какими-то канавами – то ли противотанковыми рвами, то ли траншеями для укладки канализации. По бокам высились одни фасады с мертвыми дырами окон да полусгнившими лесами. Сквозь груды обвалившейся штукатурки росла трава, а то и кустарник. Видно было, что все это стоит в запустении уже много лет, с тех самых пор, наверное, как внезапно, вследствие какого-то загадочного катаклизма, оборвалась здесь жизнь. Даже своего дома я не нашел: он был снесен вместе с другими домами нашего квартала, а на образовавшемся пустыре высился теперь огромный генеральский дом эпохи поздней империи зла. Лишь изредка чудом уцелевший кусок лепного карниза полуразвалившегося особняка или проржавевшая решетка ограды тревожили в памяти образы иного города. Ведь это здесь, сообразив годам к пятнадцати, в каком месте угораздило меня родиться, я жил во вражеском окружении, вроде передового отряда всемирной освободительной армии, заброшенного в тыл врага. Эти улицы снились мне в тюрьме, эти переулки и проходные дворы сотни раз укрывали меня от КГБ, а эти особняки были моими единственными друзьями, которым я мог полностью доверять.
Или это мне только приснилось? Не было уже ни особняков, ни проходных дворов, чтобы подтвердить мою память. Не пришла и армия на выручку своему отряду – ее, как выяснилось много позже, просто не существовало. Все в моей жизни оказалось фантомом. Осталось лишь огромное заброшенное кладбище, где, как известно, торжествуют только черви.
А еще осталось недоумение, горечь, чувство бессилия и напрасно прожитой жизни.
Да почему же, черт возьми, не смогли мы окончить эту главу нашей истории более достойно? Чего мы не сделали? Где ошиблись? Или, быть может, наши усилия были и безнадежны, и бессмысленны?
Глава третья
НАЗАД, В БУДУЩЕЕ!
1. Так где же мы ошиблись?
Как ни странно, возможность такого исхода в России не казалась мне реальной довольно долго, вплоть до самого появления Горбачева и его гласности. До этого я всегда предполагал, что крушение коммунистической системы произойдет лет на десять позже, к концу века, но зато будет гораздо более радикальным, чем это вышло. Разумеется, сам факт неизбежности ее крушения сомнений не вызывал, но – когда и как? Лет десять-пятнадцать тому назад вопрос казался скорее академическим. Вспоминаются наши дискуссии семидесятых годов, начатые еще Амальриком в его «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», где он вполне логично и, как теперь видим, правильно описал сценарий распада СССР на отдельные республики. Неважно, что начальным толчком, вызывающим этот распад в его сценарии, была война с Китаем, которой так и не произошло, гораздо важнее основной его тезис о том, что режим дряхлеет, растет оппозиция (в том числе и националистическая) и, стало быть, серьезного кризиса СССР уже не пережить. О том же, в сущности, были и многие другие книги того времени, от солженицынской «Бодался теленок с дубом» до моей «И возвращается ветер».
Вопрос этот, однако, был гораздо актуальней, чем казалось тогда, что я понял, только оказавшись на Западе. То, что для нас было очевидно в силу нашего опыта, здесь считалось не просто спорным, но скорее абсурдным и даже опасным бредом эмигрантов, вроде уверенности кубинских антикоммунистов в легкой победе при высадке в заливе Свиней. Запад не пожелал отнестись к нам всерьез. В лучшем случае на нас смотрели как на курьез – как ихтиолог, по меткому сравнению Амальрика, слушал бы внезапно заговорившую рыбу, будучи при этом уверен, что все равно знает про нее гораздо больше, чем она может рассказать.
Между тем, вся политика Запада в отношении советского блока вращалась вокруг этого вопроса, и если мы были правы, возвещая такое одряхление режима, при котором он не мог уже выдержать серьезного испытания, то Западу следовало сознательно создавать напряжение, вынуждая режим тратить последние силы. Да так оно, отчасти, и произошло в начале 80-х, когда более жесткая политика Рейгана и Тэтчер (совпавшая, к тому же, с кризисом в Польше и Афганистане) заставила-таки режим перенапрячься, чего он и не выдержал.
Но десять-пятнадцать решающих лет оказались потеряны. Если бы Запад последовал нашим советам, шел на обострение отношений вместо их «разрядки» и, главное, сумел освоить приемы «идеологической борьбы», Советский Союз рухнул бы на десяток лег раньше, а результат был бы совершенно иным. По крайней мере, не было бы сомнений в том, кто победитель, а кто побежденный, а процесс выздоровления в России шел бы сейчас столь же успешно, как в Чехии.
В 70-е годы, однако, об этом можно было только мечтать. На деле приходилось опасаться прямо противоположного – полной капитуляции Запада перед советским монстром. Но если в этом вопросе мы были более или менее едины и, как могли, противились западному слабодушию, то вопрос о том, каким образом произойдет крушение режима, оставался спорным даже среди нас.
Нашумевшее в то время «Письмо вождям Советского Союза», написанное Солженицыным не без влияния книги Амальрика и впервые затронувшее проблему переходного периода от тоталитаризма к демократии, вызвало целую бурю протестов. Смешно вспоминать теперь, как набросились на Солженицына только, в сущности, за то, что он вообще осмелился предположить неизбежность такого периода, усомнившись в реалистичности надежд на немедленное торжество демократии после стольких десятилетий тотальной неволи. Бог мой, в чем только не обвинили его разного рода демагоги, и западные, и эмигрантские: и в монархизме, и в «хомейнизме», и чуть ли не в попытке захвата власти. На деле же, будучи погруженным в исследования революции 1917-го, он всего лишь хотел предупредить о возможности повторения в России такого же сценария (и, как мы видим теперь, был гораздо ближе к истине, чем его оппоненты).
Мое участие в этом споре было скорее случайным и отчасти вынужденным. Ко времени моего освобождения и высылки спор этот выродился в откровенную травлю Солженицына, раздражавшую меня своей абсурдностью. В ту пору я не любил рассуждать о будущем, считая такое занятие не только бессмысленным, но и вредным, способным лишь расколоть наши и без того ничтожные силы. Какой смысл спорить о том, кто может прийти на смену коммунистам, в то время как уходить они не собираются, продолжают морить по тюрьмам наших друзей, а весь мир готов встать перед ними, выражаясь языком биологии, в «позу подставления»?
Но уж так устроена интеллигенция: нет у нее другой радости в жизни, кроме самовыражения, поскольку нет высшей ценности помимо себя самой, и уж тут – вредно это или полезно всем остальным – а поговорить вволю о будущем не запретит им «ни Бог, ни царь и ни герой». Начавши же дискуссию, обязательно договорятся до взаимных обвинений в коварных замыслах, ибо каждый норовит не просто спорить по существу дела, но непременно одеться в тогу благородства, задавив оппонента моральным превосходством своих устремлений.
Более того, дай интеллигенции вволю поговорить о будущем, и она неизбежно договорится до высшей мудрости всех болтунов всех времен и народов, а именно до утверждения, что ничего не надо делать в настоящем, не то будет хуже в будущем. Так вышло и на этот раз, хотя придумать что-либо хуже коммунистической диктатуры просто невозможно. Но на то она и интеллигенция, чтобы иметь необузданную фантазию, способную рождать «бродячие призраки». И вот, наспорившись до тошноты да обвинив попутно Солженицына во всех смертных грехах, договорились до того, что делать что-либо – упаси Боже, а то коммунизм может трансформироваться в еще более страшного монстра – национал-большевизм, к коему и стремится коварный Солженицын.
Уважаемый профессор логики Александр Зиновьев со свойственной его предмету неумолимостью прямо так и заявил:
«Если мне завтра предложат выбирать между советской властью и властью Солженицына, я предпочту первую».
Нужно ли говорить, что такой вывод был как нельзя более кстати западному истеблишменту, эту дискуссию всячески подогревавшему. И советская власть получалась в результате не такой уж плохой, и бороться с ней не только не нужно, но и вредно. Главное же, диссиденты рассорились, сами не знают, чего хотят, а стало быть, и слушать их не стоит.
Словом, как ни старался я избежать участия в этих бессмысленных спорах, но уже чисто практические соображения требовали вмешательства с той хотя бы целью, чтобы прекратить столь вредившую нам склоку. Вроде как досадная необходимость в разгар войны отрывать силы с фронта, чтобы подавить возникший в тылу мятеж. Теперь же, проглядывая эти страницы («Почему русские ссорятся?» – «Континент» N23), самому любопытно вспомнить, что я тогда, в 1979 году, думал о «переходном периоде»:
«Бесспорно, всякие предсказания скорой революции в СССР нелепы, а пропаганда ее – преступна, как и пропаганда террора. Только сентиментальные писатели могут утверждать, что революции происходят от нищеты и бесправия народа – в момент, когда народ доведен до крайности. До конца никто не знает, отчего они происходят, но при нужде и голоде человек больше склонен к воровству, к индивидуальному бунту или к тупой покорности. При бесправии же человек о своем праве не ведает, да и слишком унижен, чтобы какого-то права требовать. Умелое правительство всегда может легко подкупить наиболее даровитых и энергичных среди этой массы разобщенных, озлобленных людей. Короче говоря, все это ведет к застою и гниению, как мы и видим в СССР. В этом состоянии, даже если бы какая-то сказочная внешняя сила устранила существующую структуру управления, то произошла бы полная катастрофа, анархия и взаимоистребление.
Революции чаще всего случаются, когда настоящие нищета и бесправие давно позади, но накопленная злоба и недоверие к власти делает всякую реформу ненавистной, недостаточной. В этом положении нерешительное или неумелое правительство – гарантия революции.
Ждать от революции справедливости и свободы – поразительная наивность. Всякое общественное потрясение поднимает со дна общества самую муть, и „кто был ничем, тот станет всем“. В революцию выдвигаются самые жестокие, подлые, кровожадные люди с сильными деспотическими характерами. Разбойничьи атаманы. После упорной междоусобицы наиболее жестокий и хитрый среди них сосредотачивает в своих руках всю власть. То есть революции всегда кончаются тиранией, а не свободой и справедливостью.
Может ли все это произойти в СССР? К сожалению, может, но вряд ли скоро. Пока что существующая там власть все еще достаточно крепка, чтобы отказаться от любых реформ. Даже куцые косыгинские реформы не прошли в том виде, как первоначально предлагались. И в этом есть своя логика. Власти понимают, что нынешний неповоротливый бюрократический аппарат не сможет справиться с напором стихии, вызванной значительными реформами. Нет уже тех лихих мальчиков с маузерами, умевших играть со стихией. Сегодняшний коммунистический режим в СССР, пожалуй, самый консервативный в мире. Даже Хрущев оказался слишком революционным. Никаких же значительных общественных сил, независимых от власти и способных заставить власть пойти на реформы, у нас пока что не сформировалось.
Период их формирования может быть сколь угодно долгим, в зависимости от поведения правительства, международной ситуации и проч. и проч. При нынешнем положении экономические трудности не заставят власть провести значительные реформы. Таким образом, как это ни печально, но скорых улучшений ждать нельзя, не говоря уж о радикальных переменах. Можно ожидать лишь медленного роста независимых общественных сил на фоне общего застоя и разложения. Пока что проявились лишь контуры этих растущих общественных сил: национальные движения, религиозные движения, гражданско-правовое (интеллигентское по преимуществу) движение и зачатки рабочего движения».
Таким образом, в моем представлении этот «переходный», или подготовительный период означал «борьбу общественных сил в стране за свою самостоятельность, борьбу, в результате которой тоталитаризма все меньше, а демократии все больше, до той поры, когда и революции уже не надо. То есть этот переходный период, с моей точки зрения, уже начался».
Задача наша, следовательно, сводилась к расширению и укреплению этого движения, его ненасильственных традиций, к обеспечению его признания и поддержки Западом, чтобы к моменту конечного кризиса системы создать силу, способную обеспечить максимально безболезненный, бескровный переход. Этому и были посвящены все наши усилия как внутри СССР, так и в эмиграции.
Разумеется, никто не мог тогда предвидеть всех поворотов и вариантов, но даже теперь, зная последующий ход событий, я не вижу никакой серьезной ошибки в своих рассуждениях. Кроме мирной революции, нет другого цивилизованного решения этой проблемы, позволяющего избежать, с одной стороны, чудовищного кровопролития, с другой – медленного гниения и умирания страны вместе с системой. Но для того, чтобы такой сценарий сработал, советский человек должен был хоть на мгновение перестать быть советским человеком. Он должен был отвергнуть соблазн приспособленчества, переступить через страх репрессий, т. е. сделать усилие, свой выбор, чтобы стать просто человеком.
Да так оно, наверное, и получилось бы, несмотря на все репрессии, если бы не горбачевская «хитростройка», которую, надо полагать, мудрый ЦК и придумал-то отчасти как средство избежать такой развязки. Но, понадеявшись на спасение системы путем сильно запоздавших и половинчатых реформ, нарвался ровно на тот сценарий потери контроля над процессом, о котором я писал. На том и кончился коммунистический режим, столь же бесславно, как и начался, запутавшись в заговорах, потонувши в путчах и обрекши страну на развал и смуту. Ибо горбачевские «реформы» были рассчитаны на то, чтобы никоим образом не допустить формирования как раз тех независимых общественных сил, которые могли бы обеспечить стабильность в переходный период.
Дело тут было даже не в том, что умышленно создавались фиктивные и контролируемые общественные организации, гебешные «Народные фронты» да ультранационалистические пугала – все равно из этого ничего не получилось да и не могло получиться. Режим был обречен, но, прежде чем сдохнуть, он успел сделать последнюю подлость: окончательно скурвил страну соблазном легкого, без усилий и жертв, выздоровления. Успех этого обмана, особенно среди интеллигенции (люди попроще отнеслись к горбачевским хитростям с крайним недоверием), производил впечатление гораздо более гнетущее, чем все перестроенное лукавство советских вождей. От них-то чего было и ждать? Коммунисты как коммунисты, со свойственной им уверенностью, что при известной ловкости можно и экономику перехитрить, и народ обдурить, и историю объегорить, да так и въехать в рай дуриком, пока никто не спохватился. Но, когда я видел, как легко и охотно поверила интеллигенция в возможность спасенья «сверху», у меня просто опускались руки. Как будто мог быть в России хоть один человек, не понимавший, что эта партия, погрязшая в коррупции, лжи и преступлениях, и завела страну в нынешний тупик. Неужто кому-то было еще не ясно, что из недр этой партии, полстолетия старательно отбиравшей в свои ряды карьеристов и проходимцев, никак не могло прийти обновление? Неужто непонятно, что спасать доведенную ими до катастрофы страну нужно в первую очередь от них, а не с ними?
Да нет, разумеется, все им было ясно. Все обговорено по московским кухням еще в 60-е годы. Просто из всех социальных групп в СССР интеллигенция и так была самой ссученной, самой прикормленной; и так, подобно профессору Зиновьеву, «предпочитала» советскую власть (всячески ее при том ругая). А тут – вот ведь счастье! – хозяин позволил наконец самовыражаться в печати. Как тут было удержаться? Как не хвалить хозяина?
Словом, отдавая должное ловкости советских вождей, ухитрившихся-таки сколотить «блок коммунистов и беспартийных» даже на краю гибели (притом сколотить на базе антикоммунистических настроений!), нельзя было не видеть, что российская интеллигенция, вопреки заветам Чехова, так и не выдавила из себя раба, ни по капле, ни струйками. Во всяком случае, ее так же легко повязали круговой порукой разрешенной «гласности», как повязал Ленин российскую чернь, науськав ее «грабить награбленное». Мнимая угроза возвращения «бывших хозяев» сделала и тех, и других послушным орудием в руках коммунистических манипуляторов. Первородный грех горбачевских «свобод» в том ведь и состоял, что они были дареные. А подаренное – не завоеванное, оно вроде краденого: его всегда могут отобрать да еще надавать по шее. Где уж тут думать об альтернативах – лишь бы барин не вернулся и не отправил сечь на конюшню.
Выражаясь на соответствующем случаю жаргоне, горбачевская «гласность» ссучила интеллигенцию гораздо глубже, чем брежневская цензура. Как бы ни было скверно раньше, а все-таки оставались в обществе некие критерии приличия, какие-то правила моральной гигиены, отчего еще сохранялись нравственно здоровые люди, а заразившийся – и сам о том знал, и другим был заметен. Тут же настали времена особо мерзкие, когда больного от здорового нипочем не отличить, а всякие критерии принесены в жертву благородному делу «спасения перестройки» от мистических «консерваторов». Произошла тотальная евтушенкоизация интеллигенции и сплошная медведизация всей страны. Все вдруг сделались большими политиками, и приличных людей как-то совсем не стало видно, а сделки с совестью стали уважительно именоваться «политическим компромиссом». Враз перестроившись, зашагали дружными рядами под лозунгом: «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи!» И, глядишь, вчерашний душитель захлебывался от собственного либерализма, а вчерашний либерал был теперь не прочь и придушить.
Конечно, этому сильно способствовала безоговорочная поддержка Горбачева Западом, в результате которой ситуация в стране, и без того непростая, запуталась до полной безнадежности. В ту пору кризиса для огромного числа людей в коммунистическом мире, не привыкших мыслить самостоятельно, «мнение Запада», то есть реально – мнение западного истеблишмента, было столь же бесспорно, как Священное Писание для верующего. И раз «Запад» провозгласил Горбачева героем, а его «перестройку» – демократией, то кто же мог решиться в России с этим спорить?
На Западе же хватало своих желающих поверить горбачевским басням. Или, по меньшей мере, считалось разумным поощрить перестройщиков за прилежание. И правда, старались же люди, сломали стенку в Берлине, вывели войска из Афганистана, отменили 6-ю статью Конституции, издали «ГУЛАГ» и даже никого не посадили за последние пару лет. Чего же еще и желать?
– Ах, – говорили мне, – вы слишком много пострадали от них. Вы неспособны быть объективным. Должен же быть какой-то рубеж, переступив который советская власть перестает быть советской властью, а коммунисты коммунистами, и наша враждебность к ним должна смениться дружелюбием?
И что мне было ответить? Как объяснить людям, никогда не жившим при этом режиме, что коммунизм – не политическая система и даже не столько преступление, сколько некое массовое заболевание, наподобие эпидемии чумы? На чуму невозможно обидеться, с ней нельзя поссориться или помириться; можно только заболеть или не заболеть. Соответственно, нет никакой возможности чуму «перестроить» или реформировать: от нее надо выздороветь, напрягши всю свою волю к жизни. А тот, кто перестал с ней бороться и впал в апатию, как правило, не выживает.
Эта бездумная эйфория на Западе подорвала последнюю возможность победы над коммунизмом, а с нею вместе – и малейший шанс для России выздороветь. Как если бы союзники в конце Второй Мировой войны вместо требования «безоговорочной капитуляции» нацистской Германии удовлетворились ее «перестройкой», то бишь некоторой либерализацией режима. И что было бы теперь в Европе? Уж точно не демократия, а, как изящно выражаются нынче о бывших коммунистических странах, «посттоталитарный период». Маршал Петен был бы героем, «спасшим» Францию, а участники Сопротивления оказались бы безответственными авантюристами, только мешавшими своим экстремизмом разумным «реформаторам» из Виши.
Результат был катастрофическим. Помимо всего прочего, это способствовало и без того наметившемуся расколу нашего движения, толкнув часть его во главе с Сахаровым на самоубийственный союз с перестройщиками. И, глядишь, бывший политзэк о. Глеб Якунин призывал публику голосовать за бывшего генерала КГБ Калугина, в прошлом организатора убийств диссидентов. И как после этого разобраться, кто же все-таки настоящий демократ, а кто горбачевский «коммутант»? Никогда не забуду, как, открывая свой марионеточный «парламент» весной 1989 года, Горбачев широким жестом пригласил на трибуну Сахарова и тем прикрыл всю свою ложь, все манипуляции и фальсификации гибнущего режима.
– Андрей Дмитриевич, прошу вас…
Эта сцена и теперь стоит в моих глазах – сцена бесславного конца всего того, ради чего я жил. Почти тридцать лет упорной работы по созданию независимых общественных сил обратились в ничто. И хотя Сахаров, отдадим ему должное, поняв незадолго до смерти свою ошибку, попытался создать оппозиционную партию и даже призвал к кампании гражданского неповиновения горбачевскому режиму – было уже поздно.
Что же касается Запада, такая его позиция в отношении «перестройки» была отнюдь не случайной и даже не новой. Напротив, она является прямым продолжением практически всей его «восточной политики» в послесталинский период, когда ставка делалась на мифических «голубей» (или «реформаторов», «либералов») в политбюро, коих и указать-то никто не мог. Нас же всех, тех, кто действительно боролся с режимом, высокомерно смахивали в «гуманитарную корзину». Полагалось посочувствовать нам, бедненьким, как «жертвам» да еще и поспекулировать нашим положением в качестве оправдания политики умиротворения коммунистического монстра: глядите, мол, как плохо будет людям, если мы не поможем «либералам» в Кремле.
Словом, Запад не пожелал признать в нас не то что партнеров, союзников в войне, но даже просто солдат, а приравнял к случайно пострадавшему мирному населению. Из бойцов нас превратили в заложников, причем вполне сознательно: иначе, спаси Бог, пришлось бы признать и наличие самой войны. Более того, те из нас, кто оказался на Западе, знают, какое давление оказывал на нас здешний истеблишмент с тем, чтобы сделать послушным инструментом своей соглашательской политики с коммунистическими режимами. И, глядишь, то, что не удалось КГБ при помощи тюрем и психушек, иногда удавалось их здешним союзникам при помощи контрактов, грантов, возможности печататься, а пуще всего – соблазна быть принятым и уважаемым западной «интеллектуальной средой». Нет, это была не просто «глупость» Запада, не наивность здешней «элиты» – это была целенаправленная политика обеспечения стабильности в мире, стабильности любой ценой, даже ценой предательства. Величайшей угрозой человечеству была провозглашена не коммунистическая идеология, не агрессивная суть коммунистических режимов и даже не их ядерные ракеты, нацеленные на западные города, а их возможная дестабилизация, распад. В результате такой политики Югославия превратилась в Ливан, а Россия – в Нигерию. И это еще только начало…
Теперь, когда история вынесла свой приговор, мне нет нужды доказывать, кто был прав. Коммунистический режим рухнул, несмотря на усилия всего мира его спасти, подтвердив таким образом то, о чем и пыталась рассказать ихтиологу рыба: и его одряхление, и то, что его нельзя реформировать, а можно (и нужно) ликвидировать, и то, что угроза ядерной войны исчезнет только с его ликвидацией. Исчезли и столь любимые Западом коммунистические реформаторы со своими Нобелевскими премиями мира, так и не придумав «социалистической модели рынка». Кто их теперь помнит? Но осталась разрушенная страна без будущего, без всякой надежды на спасение, где на развалинах былой жизни орудуют лишь шайки мародеров, а многомиллионные толпы обнищавших жителей понуро и безучастно бредут мимо руин своих жилищ. И нет в их глазах не то что раскаяния, но даже искры мысли или усилия постигнуть случившееся, а только тупое недоумение, страх, словно у людей, переживших землетрясение: «Почему? За что? Ведь все было так хорошо…» И покуда не дойдет до них, что некого им винить, кроме самих себя, своего выбора, покуда ищут они причину своих несчастий в чем угодно: во всемирном заговоре, в инородцах, в мистических предначертаниях, – не обратятся они к собственным силам, чтобы начать жить заново, но вечно будут ждать помощи, милости, чуда.
А еще осталась ложь, навороченная истеблишментом в целях самооправдания за последние полстолетия, мегатонны лжи, от которой скоро уже нечем будет дышать. Остался сам этот истеблишмент, номенклатура коллаборантов, петены и квислинги «холодной войны» всех оттенков и размеров, на Востоке ли, на Западе все еще цепко держащие власть в своих руках. И пока не установлена истина, не вынесен им приговор – остается незавершенной эта глава нашей истории, не наступает и выздоровление. Так грешные души без покаяния не могут попасть ни в ад, ни в рай.