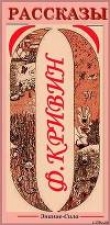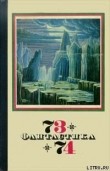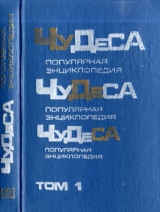
Текст книги "Чудеса: Популярная энциклопедия. Том 1"
Автор книги: Владимир Мезенцев
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 46 страниц)
Когда доктору Моргейну из Института исследований дельфинов был задан вопрос, действительно ли мозг дельфина столь же эффективен, как и у человека, ученый ответил: «Эффективный» это какой-то туманный термин. Существует множество показателей, по которым определяют особенности мозга. В большей части этих показателей мозг дельфина не уступает человеческому. Возьмите, например, кору головного мозга – завитки (извилины), в функции которых входят сохранение информации и мыслительные процессы. Чтобы выяснить качество мозга, можно задаться вопросом: насколько сложными являются его завитки? Так вот, кора головного мозга дельфина имеет вдвое больше завитков в сравнении с человеческим мозгом. Можно спросить также, сколько мозговых клеток имеется в наличии в разных областях мозга? У дельфина таких клеток по крайней мере на 50 процентов больше, чем у человека. Другим критерием является количество слоев головного мозга. У зайца преобладающая часть коры состоит из четырех слоев разнотипных клеток; люди и обезьяны имеют шесть слоев, и столько же имеют дельфины. Так вот, пока мы можем констатировать только то, что дельфины-бутылконосы имеют очень большой, сложный и высокоразвитый мозг».
Впрочем, уточняет Моргейн, все это еще не означает, что дельфин обязательно разумен. «Одно можно утверждать с полной уверенностью: если такой сложный орган является результатом эволюции, которая продолжалась миллионы лет, то его роль не может ограничиваться такими примитивными функциями, как свободное плавание и поглощение пищи». Карой Акош, автор книги под весьма недвусмысленным названием «Думают ли животные?» высказал мысли, которые кажутся мне убедительными. «Животный мир прошел длительный путь развития от простых форм к сложным. Отсюда следует, что у животных, относительно близких к человеку, можно найти признаки основных качеств человеческого рода. Как бы ни отличалось поведение разных животных, все они родственны друг другу и несут на себе отпечаток общего происхождения. Чем ближе родство между отдельными видами животных, тем больше у них общих черт. Человек происходит из мира животных, а именно – из млекопитающих, а в более широком смысле – из группы сухопутных позвоночных. Следы этих связей человек несет на себе во всей своей организации. Насколько бы своеобразным и самостоятельным ни было мышление человека, его духовная деятельность также должна нести на себе следы родственных связей с животными.
Либо необходимо предположить, что так называемая духовная деятельность человека обязана своим происхождением какому-то чуду, либо (естествознание иначе и не может подходить к этому вопросу) свойства, из которых развились человеческие способности, должны в зародыше иметь место и у животных, более или менее близких к человеку. Развитие видов животных и развитие человека нельзя представить, если не найти признаков тех связей, которые и до настоящего времени сохранили следы общего происхождения ныне живущих родственных видов. Некоторые виды животных должны, следовательно, обладать такими особенностями, которые связаны с наиболее характерными способностями современного человека».
Мы упростили бы картину, если бы приняли это высказывание за мнение всех без исключения ученых. Дело обстоит гораздо сложнее. Впрочем, тому есть основание – сложна и противоречива сама проблема. Немало есть ученых (а не так давно их было еще больше), которые отрицают наличие у животных элементов рассудочной деятельности.
Сейчас, когда наука значительно усилила внимание к окружающему нас миру и перешла от простого накопления наблюдений к точному эксперименту, такая крайняя точка зрения все больше обнаруживает свою несостоятельность.
Однако тут же необходимо подчеркнуть – и обратить на это самое серьезное внимание читателей, – что столь же несостоятельна попытка иных буржуазных ученых безоговорочно переносить на человеческое общество законы существования и развития животного мира и наоборот.
Вокруг сознания…в науке нет откровения, нет постоянных догматов;
все в ней, напротив того, движется и совершенствуется.
А. И. Герцен
Можно сказать, что сознание – это осмысленное знание, осмысленное восприятие происходящих событий. Можно сказать и так: это осознанность своего положения, умение управлять своими поступками, а также контролировать свои чувства и мысли. Далее. Говоря о сознании, мы не можем не вспомнить слова В. И. Ленина о том, что в самой материи имеется свойство, в принципе родственное сознанию и в своем развитии порождающее сознание. Это – отражение, то есть способность того или иного предмета реагировать на внешние воздействия, изменяя при этом внутреннее состояние. Сознание – тоже отражение. Отражение в мозгу окружающего мира. Но не всякое отражение мы можем назвать сознанием. Если все формы отражения, существующие в природе, расположить одну за другой по мере усложнения, мы получим своеобразную лесенку, низ которой находится в неживой природе, а самый верх – отражение мира нашим человеческим сознанием. Сознание как особая специфическая форма отражения действительности появляется где-то на промежуточных ступеньках. В поисках этой ступеньки ученые особое внимание уделяют форме психического отражения действительности, а психика присуща только высшим животным.
Присуща она и человеку. Значит, психика объединяет нас с высокоорганизованными животными. Однако можем ли мы их психику назвать сознанием? В этом вопросе – главное. А чтобы ответить на него, нам нужно выяснить, что входит в сознание. Прежде необходимое уточнение: понятие «психика» шире, чем понятие «сознание». Не все, что входит в психику, может входить в сознание. Некоторые психические явления, как известно, находятся за пределами сознания.
Итак, что же входит в наше сознание? Ну, первое – это разумеется, мышление. Далее, в сознание входят воля – целевые устремления, желания, а также эмоции – переживания. Наконец, обязательным элементом сознания является понимание своего места в мире, оценка своих и чужих поступков, то есть короче говоря, самосознание.
Вот составные сознания. Поищем их у «братьев наших меньших».
Вылупившийся из яйца кукушонок, еще не научившись стоять, выталкивает из гнезда своих сводных братьев. Кто не знает этого классического примера инстинктивных действий. Избавиться от соседей – шачит выжить самому. Иначе кукушонку не хватит пищи. Поэтому в его генах и записан нужный приказ.
Инстинкт руководит многими действиями взрослых животных. Что при этом характерно? Инстинкту присуще всегда однозначное действие. Во всех таких случаях обнаруживается прямая жесткая связь: «ощущение – ответное действие», «воздействие – ответная реакция». Здесь нет ни выбора, ни эмоций.
А что происходит, когда начинает действовать мышление? В этом случае в жесткую связь «ощущение – ответное действие» вклинивается осмысливание, рассуждение. И тогда можно решить так, а можно и иначе. Здесь уже другая связь: «ощущение – осмысливание – принятие решения – действие». Само собой понятно, что это дает живому существу значительно больше возможностей приспособляться к постоянно изменяющейся обстановке.
Известный советский ученый, исследователь психики животных Л. В. Крушинский был свидетелем одного случая на охоте. «Мой пойнтер, – пишет он, – сделал, стойку у края кустов. Подойдя к собаке, я увидел, что почти из-под самого ее носа быстро побежал под кустами молодой тетерев. Собака не бросилась за ним, а моментально, повернувшись на 180 градусов, обежала кусты и снова встала на стойку, почти над самым тетеревом.
Поведение собаки носило строго направленный и наиболее целесообразный в данной ситуации характер: уловив направление бега тетерева, собака перехватила его. Это был случай, который вполне подходил под определение разумного акта поведения, проявившегося в экстраполяции траектории движения птицы…
Конечно, все многообразие рассудочной деятельности животных не может быть полностью исчерпано способностью к экстраполяции. Но сначала наблюдения за животными в естественных условиях, затем экспериментальные исследования все больше и больше убеждали меня, что способность к экстраполяции – одна из характерных и существеннейших особенностей элементарной рассудочной деятельности. Уловив простейшие законы, лежащие в основе изменения среды, животное предусматривает ее вероятное изменение в будущем и в соответствии с этим строит адекватную программу поведения…»
Да, пойнтеру пришлось решать совсем не легкую задачу. Тетерев исчез из поля зрения. Что делать? Собаке надо удержать в памяти образ птицы и догнать ее. А для этого необходимо быстро сообразить (пока видно, куда бежит тетерев), где скорее всего он выбежит из кустов или где притаится. И собака сообразила: сквозь кусты пробираться нелегко, лучше повернуть обратно, обежать кусты и встретить тетерева там, где он выскочит. Чтобы успешно справиться с подобной задачей, необходимо иметь способность к обобщению. Именно так – через мышление, пусть самое. элементарное, происходит «обучение жизнью» у многих животных.
Вспомним, что говорит об осознанных действиях животных Ф. Энгельс.«…Само собой разумеется, – пишет он в книге «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», – что мы не думаем отрицать у животных способность к планомерным, преднамеренным действиям… У животных способность к сознательным, планомерным действиям развивается в соответствии с развитием нервной системы и достигает у млекопитающих уже достаточно высокой ступени. Во время английской псовой охоты на лисиц можно постоянно наблюдать, как безошибочно лисица умеет применять свое великолепное знание местности, чтобы скрыться от своих преследователей, и как хорошо она знает и умеет использовать все благоприятные для нее свойства территории, прерывающие ее след».
В Париже, рассказывает Ю. Чирков, у подъезда отеля «Ниверне» когда-то сидел чистильщик. У него был черный спаниель. Собака поставляла своему хозяину клиентов. Она мочила в ручье свои лапы и как бы ненароком касалась башмаков прохожих. А чистильщик спешил предложить свои услуги.
Пока работы у хозяина было много, спаниель дремал рядом, надвигалась безработица – и четвероногий хитрец принимался за свои проделки. Слух о необыкновенном спаниеле дошел до посетителей отеля. Услышал об этом один богатый англичанин. Спаниель ему приглянулся, и он решил купить умную собаку. Мальчик, скрепя сердце, отдал своего друга за 15 луидоров.
Скоро спаниель оказался в Лондоне. Но ненадолго. Через две недели он, усталый и грязный, вернулся.
Чтобы добраться из Лондона в Париж, собаке надо было запомнить дорогу, и незаметно забраться на пассажирское судно, чтобы переплыть пролив.
Шимпанзе учат гасить огонь водой из бочонка. Погасив костер, обезьяна находит за ним вкусное лакомство. Вот она уже уверенно выполняет задание. Тогда ученый усложняет опыт. Те же самые действия нужно выполнить, находясь на плоту в озере, причем бочонок, из которого обезьяна брала воду, оставлен с водой на берегу. Как быть? Можно черпать воду прямо из озера (это проще, но это совсем новое!) или же воспользоваться перекидным мостиком, предусмотрительно оставленным на плоту. Обезьяна выбирает последнее: перекинуть мостик на берег. После нескольких попыток ей это удается. Она бежит, взяв кружку, на берег, набирает из бочки воду, возвращается обратно и заливает огонь. Эти эксперименты проводились сравнительно давно. И сколько тогда ни старались исследователи, шимпанзе так и не догадалась зачерпнуть воду из озера.
Значит, сделали вывод ученые, у обезьян нет понятия «вода вообще». Есть только вода конкретная – в бочке, в ведре. А поскольку это так, то можно сказать что человекообразные обезьяны не способны к обобщению, к абстракции.
Сказать так, конечно, можно. Но можно с этим и не согласиться. Если обезьяна не воспользовалась водой из пруда, из этого еще не следует, что она не способна обобщать. Возможно, та обезьяна не сумела использовать имеющиеся в ее голове общие понятия. Обладать такими понятиями и применять их в жизни далеко не одно и то же. Кроме того, возможно, в описанном выше эксперименте и было обобщение, но другое: «Вода из этого бачка и вообще вода из всех бачков годится для того, чтобы погасить костер». Наконец, вывод о неспособности всех шимпанзе обобщать неправомерен попросту потому, что умственные способности этих обезьян проверялись только на одном представителе. А кто знает, может быть этот представитель, был глупее других.
Время показало, что именно так и было в действительности. Позднее эксперимент с обезьяной, тушащей огонь водой, повторили и даже засняли на киноленту. Обезьяна гасила огонь сначала из бачка, а затем из тазика. Брала воду и кружкой, и миской. Более того, она набирала воду тряпкой и выжимала ее над огнем.
И. М. Сеченову принадлежит мысль о том, что именно в памяти своим корнем сидит вся интеллектуальная жизнь. Это так! Но ведь памятью (предметной) отличаются многие животные.
Известно, как хорошо запоминают расположение приманки крысы. Их не сбивают ни хитроумные лабиринты, ни вращение клетки, в которую они помещены. Эти животные способны «держать в голове схему пути и совмещать это с вращением лабиринта» – таков вывод исследователей.
Еще более интересный факт: вороны и сороки запоминают, сколько человек влезло в шалаш около их гнезда, и будут сидеть поодаль до тех пор, пока все люди не вылезут из него. Они начинают сбиваться со счета, только когда количество людей больше шести. А вот какие способности обнаружены у осьминогов (между прочим, о «разуме» этих головоногих сообщал еще Аристотель). Не находя удобной расщелины, осьминоги строят сами убежище из камней. Не кроется ли за этим нечто большее, чем инстинкт? Задавшись таким вопросом, ученые приступили к экспериментам. Восьминогому моллюску показали через прозрачную штору два одинаковых квадрата. Затем в одном из них появлялся краб – любимая пища осьминога. Схватить его мешала штора. Потом краба убирали и через несколько секунд поднимали штору. Путь свободен! Осьминог тут же бросается в тот квадрат, где появлялся краб. Опыт продолжали, с каждым разом увеличивая промежуток времени между тем, когда краба убирали из квадрата, и поднятием шторы. Выяснилось, что спрут почти полминуты помнил, в котором из квадратов появлялось его лакомство.
Другой эксперимент.
Осьминога помещали в аквариум, в котором за двумя прозрачными шторами имелись два отделения, а попасть в них можно было только через коридор, находящийся между этими отделениями. Пройдя коридор, осьминог мог повернуть налево или направо и таким путем забраться в одно из отделений. Приманкой служил тот же краб. Его помещали в одно из отделений так, что осьминог мог его хорошо видеть через прозрачную штору. Схватить краба можно было, только пройдя коридор.
Так вот, когда осьминогу показывали краба, он проходил коридор и, не раздумывая, безошибочно поворачивал в то отделение, где находилась пища.
Проходя через коридор, он уже не мог видеть краба. Значит, ему надо было запомнить, где тот находится. Более того, когда подопытный моллюск влезал в коридор, перед ним на некоторое время опускали штору, не пуская дальше. Оказалось, что даже после полутораминутной задержки в коридоре осьминог уверенно сворачивал именно туда, где находился краб. Память очевидная!
Осьминоги – очень хорошие ученики. После двадцати – тридцати сеансов специального обучения они начинают отличать горизонтальный прямоугольник от вертикального, белый диск – от черного и т. д. Не откроем ли мы скоро, что эти малопривлекательные до сих пор для многих таинственные обитатели моря «умнее» прославленных дельфинов?
Итак, животные «мыслят». Не противоречит ли это павловскому учению об условных рефлексах у животных? Вы обожгли спичкой палец и отдергиваете руку сразу же, не раздумывая. Болевое раздражение кожи нервные волокна передали группе клеток в центральной нервной системе, ведающих двигательными функциями мышц рук. Возникшее в них возбуждение тут же передалось по другим нервным волокнам мышцам. Они резко сократились – рука дернулась, огонь уже не обжигает палец.
Это безусловный рефлекс. Их у нас множество. Они врожденные. А рефлексы условные нужно создавать, вырабатывать. И. П. Павлов показал, что если какой-то безусловный рефлекс будет неоднократно сопровождаться раздражением, то через некоторое время раздражитель начнет вызывать этот рефлекс.
Простой пример. Вам делают укол иглой и одновременно звонят в колокольчик. После некоторого числа повторений звук колокольчика становится сигналом к тому, чтобы отдернуть руку. Игла не уколола, а рука непроизвольно дернулась.
Условный рефлекс создан. Такие рефлексы играют важную роль в жизни животных и человека. Ребенок, обжегшись огнем, в дальнейшем отдергивает руку еще до того, как огонь снова опалит ему кожу. Лесной зверь, близко познакомившись с какой-то опасностью, в другой раз ведет себя более осторожно.
Такое восприятие окружающей действительности человеком и животными И. П. Павлов назвал первой сигнальной системой. Кроме того, у человека существует и вторая сигнальная система. При этом условным раздражителем являются слова – образы и понятия. Если, скажем, человек испытал сильнейший испуг, связанный с пожаром, то при нем достаточно крикнуть слово «пожар», чтобы вызвать такой же испуг.
Обе сигнальные системы в нашем организме тесно связаны. Они и представляют работу нашей центральной нервной системы. А последняя регулирует всю деятельность организма. Известно, что в начале своей научной деятельности И. П. Павлов изучал инстинктивно-рефлекторную зависимость поведения животного от внешнего воздействия. Это было необходимо для того, чтобы утвердить материалистическое понимание психики животных. Однако позднее ученый все больше внимания начинает уделять изучению тех форм поведения животного, которые выходят за рамки инстинктивной деятельности. В 1935 году он высказывает интереснейшую идею. Речь идет о том, что «в попытках достать приманку в новой ситуации, – вспоминает его ученик Э. А. Асратян, – обезьяна осуществляет массу разнообразных хаотических движений… Случайные удачные из этих движений при повторениях постепенно закрепляются и совершенствуются, параллельно с этим идет процесс уменьшения числа неэффективных движений до полного их исчезновения. И. П. Павлов считал, что в отличие от выработки обычных условных рефлексов при выработке данного вида временных связей животное как бы постигает естественную нормальную связь между предметами и явлениями, формирует знания о них».
Сам Павлов, противопоставляя этот вид временных связей условно-рефлекторным, говорил: «Когда обезьяна строит свою вышку, чтобы достать плод, то это «условным рефлексом» назвать нельзя. Это… улавливание постоянной связи между вещами – то, что лежит в основе всей научной деятельности, законов причинности и т. д… Я об этом говорил, но из разговоров было видно, что это не особенно принято к сведению. Я теперь и пользуюсь новым случаем».
Способность животных к мыслительным процессам проявляется в целенаправленных, то есть осознанных, действиях.
В клетке сидит шимпанзе. К нему входит человек. Он вставляет в замок ключ и открывает дверь клетки. Может быть, это сделать самой? И вот, в руках у обезьяны кусок проволоки. Она долго возится с замком, но ничего не добивается. Обезьяна «выходит из себя». Она возмущенно кричит, отбрасывает прочь проволоку, даже катается от злости на спине.
Но проходит меньше минуты, и обезьяна вновь берет кусок проволоки, снова терпеливо ковыряется в замке.
Лев отказывается от еды, когда из клетки исчезает (или погибает) собака, с которой он сдружился. Это не просто выражение скуки – лев неизменно отвергает всех других собак, которых ему предлагают взамен. А кто не слыхал о собаках, сохраняющих удивительную верность своим давно погибшим хозяевам. Польский зоолог Ханна Гуцвинская рассказывает о свогх наблюдениях животных, которые содержатся во Вроцлавском зоопарке. Она пишет о том, что животное, не имея товарища или соседа, с которым было в дружеских отношениях, часто отказывается от пищи и очень тоскует. Особенно нуждаются в этом больные животные.
В зоопарке подружились старая волчица и кошка. Эту бездомную кошку часто видели на территории зоопарка. При виде людей она убегала. Однажды, вспоминает Гуцвинская, мы с ужасом заметили, что испугавшаяся чего-то кошка мчится прямо в клетку, к дикой волчице. Позднее мы наблюдали, как они вместе ели из одной миски. В морозные дни животные лежали, прижавшись друг к другу. С наступлением весенних дней кошка возобновляла путешествия по зоопарку, и лишь протяжный вой волчицы заставлял ее вернуться.
Большая привязанность, существовавшая между птенцом лебедя и маленькой обезьянкой из рода саймири, спасла ей жизнь. Они очень сдружились во время пребывания в больнице. Обезьянка живо реагировала на крик птенца, прижималась к его пушистому тельцу и гладила его лапками. Как-то в осеннее ненастье саймири вдруг убежала из своего помещения и скрылась в парке среди деревьев. Опасаясь, что холодная ночь может ей повредить, мы попытались ее поймать, но потерпели неудачу. Тогда нам пришла в голову мысль обратиться за помощью к лебеденку. Птенец, недовольный тем, что его вынесли из теплого помещения, стал громко протестовать. Его приятельница немедленно отозвалась на крик и прибежала лебеденку на помощь. Прижавшись друг к другу, они отправились «домой».
А пристрастие некоторых животных к музыке? Н. Хук рассказывает о тюлене Сэмми. Тот часто плавал у берега. Однажды девочка на берегу начала играть на флейте. Сэмми выбралась на берег и положила голову ей на колени. Рыбаки наблюдали, как нерпы, услышав игру на баяне, высовывали головы из воды и слушали музыку. О «певческом мастерстве» канареек наслышаны многие, если не все. Но и тут можно рассказать нечто по меньшей мере удивительное. В Харькове живет учитель Ф. А. Фоменко. Под его руководством пернатые артисты исполняют в сопровождении оркестра… вальсы, русские народные песни, романсы. «Амурские волны», «Калинка», «Яблочко», «Русское поле», «Полонез» Огинского… Гвоздь программы – «Соловей» Алябьева.
Дома у Фоменко целая птичья школа: шкаф с десятью «классами», специальная методика обучения. Старые птицы обучают молодых. В артисты выходят не все.
Может быть, в пристрастии животных к музыке больше неосознанного, чем осознанного. Возможно. Но известно, например, что гиббоны и орангутанги часто поют – для собственного удовольствия. Сообщают и о том, что некоторые животные любят смотреть кинофильмы, телевизионные передачи. В одном из поселков на востоке Африки зрители Кинофильма были напуганы диким слоном. Он пришел смотреть кинокартину. Зрелище понравилось животному. Слон аккуратно появлялся из леса, как только начинался светиться экран, натянутый между деревьями, и уходил обратно, когда фильм оканчивался. Весьма эмоциональными телезрителями оказались обезьяны. Описан случай с четырьмя гориллами из Нью-Йоркского зоопарка. Когда осенью их перевели из вольера в клетку, обезьяны стали постоянно ссориться. Дело доходило до серьезных потасовок. Решили применить необычное средство: перед клеткой установили телевизор.
«Когда его включили, обезьяны застыли на месте, прижались к решетке и впились в экран глазами, – рассказывал служитель зоопарка. – Перебранки и скандалы исчезли».
Гориллы часами смотрели телепередачи. Но предпочитали вполне определенные передачи. Особенно нравились картины с быстрыми движениями на экране: ковбойские боевики, фильмы про индейцев, также танцевальные программы для молодежи. «Телевизиоманией обезьян заинтересовались ученые. Исследователь Клювер демонстрировал животным кинофильмы: «Обезьяны и змеи», «Собаки и кошки», «Играющие дети». Обезьяны внимательно следили за событиями, развертывающимися на экране.
Словом, многие элементы сознания можно наблюдать в мире высокоразвитых животных. И все же их совокупность нельзя назвать сознанием в полном смысле этого слова. Ведь все эти элементы – скорее исключения из правила, а не само правило. Это лишь зачатки сознания.