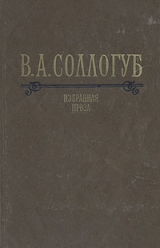
Текст книги "Избранная проза"
Автор книги: Владимир Соллогуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 36 страниц)
Мне свет гадок, неимоверно гадок; мне душно и тяжело… а нынче в особенности. Я и сама не знаю, что со мной.
Эта музыка, этот шум – все это расположило меня к безотчетной грусти… Вы меня никогда не узнаете; но я рада, что могла хоть раз высказать свою душу, а вы еще так молоды, что меня поймете… Мое положение ужасно! Быть молодой, иметь сердце теплое, готовое на все нежные ощущения, и предугадывать небо – и быть прикованной вечно на земле с людьми хладнокровными и бездушными, и не иметь где приютить своего сердца!
И нынче как вчера, и вчера как нынче – и не иметь права жаловаться… Я вам кажусь странною, не правда ли?
Что ж делать? Мне только под этой маской и можно говорить откровенно. Завтра на мне будет другая маска, и той маски мне не велено снимать никогда, никогда…
– И неужели, – спросил с участием Леонин, – неужели никогда в мечтах своих вы не подумали о возможности встретить на земле душу созвучную, сердце братское, человека, который бы с восторгом посвятил вам, вам одной всю жизнь свою и был бы вашим сокрытым провидением, и любил бы вас, как любят маленького ребенка, и обожал бы вас с благоговением, как обожают существо неземное?
Маска взяла Леонина за руку и крепко ее пожала.
– То, что вы говорите, – сказала она, – прекрасно…
Кто из нас не мечтал о подобном счастье? Но где найти его? где встретить его? где найти человека, который был бы выше всех мелочных расчетов, наполняющих жизнь, и сохранил бы в общем холоде пламень своей души, и мог бы утешить сердце бедной женщины, и мог бы посвятить ей всю жизнь свою неизменно, безропотно?.. Для такого человека можно всем пожертвовать в жизни и в любви его найти отраду от тяжких горестей. Но есть ли такие люди?.. Я перестала верить, чтоб это было возможно.
– Напрасно! – с жаром подхватил Леонин. – Я сужу по себе. Я не воображаю счастья выше того, как выбрать себе на туманном небе бытия одно отрадное светило. А это светило должно быть и пламень и свет: оно должно согревать душу и освещать трудный путь жизни; к нему прильнешь всеми лучшими помышлениями, ему отдашь все свои силы. Звезда путеводительная, маяк целого существования, оно высоко и небесно; к нему нельзя прикоснуться земною мыслью, но от него ниспадают лучи утешительные, и эти лучи озаряют и живят до гробового мрака.
– А хороша Армидина? – спросила маска голосом, исполненным женского кокетства.
Ведро холодной воды плеснуло на воспламененного корнета.
– Армидина… Почему Армидина?.. отчего Армидина? отчего вы это у меня спрашиваете?
– Да вы влюблены в нее.
– Я влюблен… нет… да… впрочем… я не знаю…
– Я ее, кажется, видела вчера в театре – там, наверху. Белокурая, кажется…
– Белокурая, – отвечал Леонин.
– Как гадок свет! как жалки люди!
Леонин был, без сомнения, прекрасный молодой человек. Сердце его иногда доходило до поэзии, а ум до завлекательности и до остроумия, и что же? От одного прикосновения светской женщины чувство светской суеты начало мутить его воображение! Он вспомнил, бедный, об Армидиных с каким-то пренебрежением. Состояние недостаточное, квартира в Коломне, претензии на прием гостей; мать толстая, по названию Нимфодора Терентьевна; для прислуги казачок и старый буфетчик из дворовых, который вечно кроил в передней разные платья для домашнего потребления, – все это мелькнуло вдруг перед ним карикатурным явлением волшебного фонаря. С другой стороны, блеснул перед ним богатый дворец графини, наполненный всеми причудами роскоши, и в этом дворце, среди роскошных причуд, он увидел графиню прекрасную, нежную, избалованную…
– И я вас более никогда не увижу? – спросил он с грустью.
– Никогда.
– И надеяться нельзя?
– Нельзя.
– Дайте мне хоть что-нибудь на память, вашего знакомства.
Маска протянула букет и встала с своего места.
– Прощайте, – сказала она. – Будьте всегда так молоды, как теперь. И если вы когда-нибудь будете в большом свете, не забывайте, что светские женщины много имеют на сердце горя и что их бранить не надо, потому что они жалки. О, если б вы знали, чем бы они не пожертвовали, чтобы от тревожного шума перейти к жизни сердца! повторяю вам, чем бы они не пожертвовали…
– Ничем! – громко сказал подле них голос.
Маска обернулась. Сафьев стоял подле нее с своей вечной улыбкой.
– Четвертый час, сударыня, – сказал он, – дожидаться вам, кажется, нечего. Прекрасного вашего князя более не будет. Что ж делать! не все ожидания сбываются.
Маска судорожно приложила пальцы к губам и, кликнув бессловесную наперсницу, уединенно дремавшую на стуле, поспешно скрылась в боковую дверь.
Леонин остался против Сафьева.
– Что? – спросил последний. – Не говорила ли она, что ее не понимают, что ока ищет высоких наслаждений, что светская женщина жалка, потому что она должна скрывать свои лучшие чувства?
– Ну, так что ж?
Сафьев посмотрел на него с сожалением, а потом засмеялся.
Леонин рассердился и, наняв извозчика, уехал домой.
II
Если б я писал повесть по своему выбору, я избирал бы себе в герои человека с рыцарскими качествами, с волей сильной и твердой, как камень, но с ужасной, таинственной страстью, которая сделала бы его крайне интересным в глазах всех чувствительных губернских барышень. Он любил бы долго и долго. Красавица любила бы его долго и долго. Все шло бы своим чередом. Вот и ручеек, вот и отвесистое дерево, вот и нежные свидания! Тут кстати все, что говорится о любви да о природе. И вдруг вдали нависла бы туча, загремела бы буря:
явился бы отец-злодей, или мать-злодейка, или свирепый опекун, или просто какой-нибудь злодей. Пошли бы препятствия одно за другим, своим классическим порядком, и вот к самому концу, перед последней страницей, небо прояснилось бы, потому что трогательные окончания чрезвычайно приелись публике и не возбуждают более должного сожаления. Злодей вдруг бы усмирился, чета моя обвенчалась. Начался бы свадебный бал – и все были бы счастливы, и я бы очень был доволен собой.
Но увы! я должен выбирать лица своего рассказа не из вымышленного мира, не из небывалых людей, а среди вас, друзья мои, с которыми я вижусь и встречаюсь каждый день, нынче в Михайловском театре, завтра на железной дороге, а на Невском проспекте всегда.
Вы, добрые молодые люди, друзья мои, вы хорошие товарищи, но вы не рыцари древней чувствительности, вы не герои нынешних романов. Вы обедаете у Дюмё, вы вызываете Тальони, вы танцуете с приданым молодых девушек или с значением молодых кокеток. Вы похожи на всех людей, и, сказать правду, таинственности, романтизма я не вижу в вас! Вы – добрые молодые люди, друзья мои, больше ничего! Истина, грозная истина, которой я не смею ослушаться, приказывает мне без ложных прикрас изобразить вас в моем правдивом рассказе.
Было поздно, когда Леонин возвратился из маскарада. Сальная свеча догорала в узенькой передней. Тимофей, слуга его, дремал на стуле.
– Есть что для меня? – спросил Леонин.
– Приказ вашему благородию: ученье в семь часов.
Леонин нахмурился.
– Еще что?..
– Письмо по почте, кажись, от Настасьи Александровны.
– Приезжал кто без меня?
– Приезжал князь Щетинин.
– Хорошо.
Комнатки гусарского офицера, прикомандированного из армии к гвардейскому полку, описывать недолго»
Седла, мундштуки, несколько литографий Греведона, бронзовая чернильница, маленький коврик, статуэтка Тальони, кровать – да и все тут.
Леонин закурил трубку и распечатал письмо.
– От бабушки, – сказал он.
Он начал читать:
«Милый Миша! вот четыре недели, как от тебя ни строчки, ни весточки. Уж не болен ли ты, друг мой? Уж не под арестом ли? Смотри, Миша, не ходи против формы. Оно ведь одно и то же, кажется, что по форме, что не по форме, так зачем же понапрасну казаться виноватым перед старшими? да и славу нехорошую заслужишь.
Слушайся начальников, Миша, берегись дурных советов и дурной компании: дурные люди хорошему не научат…»
Леонин остановился и задумался. «Какое до меня дело графине? К чему это она мне все говорила? Может быть, она заметила, что в театре вчера я глядел на ее ложу, где сидел Щетинин. Верно, я ей понравился, что она говорила со мной, как будто с старинным другом, и подарила свой букет. Таких вещей не дарят людям, к которым совершенно равнодушны. Непостижимо!..»
Леонин продолжал читать.
«Не думай, Миша, что мы, старые люди, таки совсем из ума выжили и говорим один только вздор. Совет наш всегда хорош, даже когда он вам. молодым людям, и не нравится. Вот, например, тому назад два месяца, ты сердился на меня, что я не позволила тебе жениться. Ты пишешь мне, что девушка прелестная, и лицо ангельское, и доброта душевная, и тонкая талия, и волосы прекрасные – все так, да ты-то, Миша, что? Когда бедная моя Оленька, твоя мать, скончалась, а отец твой, не в укор будь ему сказано, промотал женино имение, умер вскоре после нее, вы остались на руках моих: брат твой старший, да ты, мальчик пятилетний, да двухнедельная сестра. Вот и принялась я за хозяйство на старости лет, чтоб устроить вам состояньице, чтоб был у вас свой кусок хлеба впереди. Да память-то у меня слаба; дело мое женское и старое: как ни старалась я, а все-таки, и с моим имением, всего у нас душ четыреста с небольшим. Много ли придется тебе, на твою долю? Откуда же прикажешь мне брать доходы, чтоб ты мог жить прилично с женою, как следует дворянину? Да ей всего бы нашего дохода на одни наряды не стало. Ведь я даром что стара, а знаю, что такое жить в столице: и того хочется, и другого хочется. Отчего у того карета, а у меня нет кареты? отчего у той робронд атласный, а у меня нет атласного робронда? Я верю, что девушка прекрасная…»
«Прекрасная, – подумал, вздохнув, Леонин, – что за волосы! Я никогда таких волос не видал. А как говорит, как улыбается! Глаза только, кажется, у нее маленькие… да, точно маленькие. Вот у графини, так удивительные глаза, черные как смоль, блестящие, как звезды… Что пишет еще бабушка?»
«…Девушка… прекрасна… А знаешь ли ты, любит ли она тебя точно? Не мундир ли твой, не наружность ли твоя ей понравилась? Ведь ты, Миша, красавец…»
«И точно, кажется, я очень не дурен, – радостно вспомнил Леонин. – Я и не одной Армидиной могу понравиться. Что еще?»
«Выйдет она за тебя замуж; ты ей приглядишься…
будет вам скучно, а потом, чего боже сохрани!.. Нет, Миша, не проси позволения жениться… Не то я позволю, и на старости лет буду плакать над вами…»
«Добрая бабушка! – подумал Леонин. – Вижу ее отсюда, в ее низеньком домике, в ее больших креслах, исхудалую, с очками на чепчике; вижу отсюда, как она медленно перелистывает библию или тихо ведет беседу с сельским нашим священником, отцом Иоанном… Добрая бабушка!.. Да какое графине-то до меня дело? Она знает, что бабушка не позволила мне жениться и знает, что я влюблен в Армидину… Впрочем, влюблен ли я?
Быть может, любовь моя не что иное, как обман воображения. А что? Ведь точно может быть…»
Он читал далее:
«Я иногда думаю, Миша, что меня бог накажет за то, что я тебя любила и баловала больше твоего брата и сестры. Брат твой был уже взрослый мальчик, а сестра еще в колыбели, когда я вас взяла к себе в дом. А ты бегал уже в красной рубашечке, кудри твои вились от природы по плечикам, и ты обнимал меня и сидел у меня на коленях, и целовал меня, и говорил мне: «Я вам, бабушка, помощник!» В то время у соседки моей и доброй приятельницы Гориной родилась вторая дочь, Наденька, и мы, шутя, просватали вас друг за друга. После стали говорить об этом чаще и обменялись словами. Года два назад бедная Горина скончалась – дай бог ей царствие небесное! Перед смертью я навестила ее, и мы разговорились о «ас. «Поручаю тебе мою Наденьку, – сказала она. – Пускай выбирает она себе мужа по сердцу – это мое последнее приказание. Если Миша твой ей слюбится, пусть будут они счастливы. Богатства для нее не надо.
Все мое имение ей. Сестра ее богата и дорого купила свое богатство; но была ее воля: я дочерей своих ни к чему не принуждала».
Ты был тогда в губернской гимназии, Миша; после ты вступил в полк и давно не видал моей Наденьки.
А Наденьку с нянькой Савишной взяла теперь в Петербург сестра ее, которая там за каким-то знатным. Вот тебе невеста, Миша, так невеста! Ей было тринадцать лет, когда она от нас уехала; собой красавица; дочь моего друга; имение небольшое, но прекрасное, незаложенное, и нрав прекрасный, и неизбалованная, и непричудливая.
Вот невеста тебе, Миша! Ты видишь, что все счастье мое состоит в твоем счастии. Не пеняй на меня, если порой придется выговорить тебе неприятное слово. Поверь, мой друг, все это к твоему же добру. Теперь послужи, а женитьба не уйдет. Берегись дурных людей, а пуще всего карточной игры. Ходи по праздникам и по воскресеньям к обедне. Не ходить к обедне – грех: не бери его на душу. Хотелось бы и мне съездить помолиться за вас в Киев, Печерской богоматери, да в Воронеж, святому угоднику… Не знаю, как соберусь силами да деньжонками. Годы, сам ты знаешь, какие: рига сгорела, яровых как не бывало. Ты служишь в Петербурге, тебе нужна лошадка верховая, и санки, и все, как прилично офицеру; сестра твоя не нынче, завтра невеста: не с пустыми же руками отпустить ее в чужой дом. Брату твоему старшему в отставке скучно; пришло ему на мысль завестись в деревне охотою: на все деньги, а делать нечего, надо же молодому человеку чем-нибудь потешиться. Я было уговаривала его еще послужить, да он отвечает, что служба ему не годится.
Впрочем, все у нас благополучно, все идет по-старому. В воскресенье был у нас храмовой праздник. Ожидали преосвященного, только он не пожаловал. За обедней отец Иоанн, который тебе кланяется, говорил нам трогательную проповедь своего сочинения. После молебна обедали у меня соседи Лидарины, Митровихины да старушка Бобылева; был также судья, отставной капитан-лейтенант, прекрасный человек, был в Америке и все рассказывает о морской жизни.
Вот тебе все мои новости, Миша; у нас, деревенских, много не наслышишься. Целую тебя заочно. Посылаю тебе родительское благословение. Дай бог тебе быть веселым и здоровым. Берегись простуды, молись богу и не забывай старушку бабушку твою Настасью Свербину».
«Почему уговаривала меня графиня, – думал Леонин, – пожалеть о светских женщинах, если я буду в большом свете? Следовательно, я могу быть в большом свете? Да для чего же нет?.. Собою я, говорят, хорош, танцую весьма порядочно, да и в обществе я довольно ловок: в мазурке у Армидиных меня то и дело что выбирают… Что, если б я точно графине понравился – вот было бы счастье! На меня смотрели бы с завистью все гвардейские франты, все парижские фраки, которые так сильно около нее увиваются… И я, бедный, забытый офицер, с одного бы шага стал выше всех их… Стоит попросить только Щетинина: он представит меня во все лучшие домы… И там я буду видеть графиню…»
С сладкою мечтою лег он спать, но долго глаза его не смыкались.
Он не был еще до того развращен или опытен, чтобы желать сделать себе из женщины пьедестал для своего возвышения. В графине прежде всего видел он ее красоту, ни с каким из сновидений его не сравнимую. Глаза ее жгли сердце его. Звучный, тихий голос ее волновал воображение его. Он был молод, он был влюбчив…
Уже звезда Армидиной тихо закатывалась на небосклоне его помышлений и величественно подымалось на нем яркое светило очарований графини, озаряя его новым, незнакомым светом. И вдруг от нового светила пала на его сердце одна искра и глубоко заронилась в него. Увы! то была искра честолюбия. Как ни совестно мне сознаваться в слабостях моего героя, а истины не смею утаить. Не знаю, почему с образом графини свилась в голове пылкого корнета завлекательная мысль о возвышениях и отличиях. Быть может, это оттого, что он засыпал, но ему казалось, что графиня ему улыбалась, что он с любовью устремил на нее свои взоры и тихо на нее упирался, и что все она была хороша, и пышна, и очаровательна, и все ему тихо улыбалась, и что уж он был адъютантом у бригадного, а там флигель-адъютантом и полковником с крестами на шее… и вот произведен он в генералы, в генерал-лейтенанты, в генерал-адъютанты, в генерал-губернаторы, в министры…
Андреевская лента величаво покоилась на его плече, когда он заснул…
Тщетно Тимофей тащил его за ноги и кричал ему на ухо, что семь часов, что пора одеваться и, ехать на ученье. Полусонный, он вытолкал Тимофея в двери и заснул крепко-накрепко, с чувством какого-то нового достоинства.
Пробуждение было довольно неприятное…
Вестовой из полка принес приказание: «Корнету Леонину немедленно явиться в полковую канцелярию для объяснения по делам службы». Объяснение было самое краткое: полковой командир, не допустив виновного до себя, отправил его на три дня под арест.
Скучно под арестом! Голые стены, истертые кожаные кресла, по углам шаркают крысы; в другой комнате крупно насоленные шутки солдат; жизнь вседневная останавливается, а шум людской дразнит за окошком.
Леонину стало грустно. К вечеру он тихо дремал, опершись на раскрытую книгу… Вдруг громкий хохот разбудил его: Щетинин в лядунке через плечо и в шарфе, как дежурный, вел за собой Сафьева, оба смеялись.
Сафьева вы уже знаете; с Щетининым позвольте вас познакомить.
III
В Петербурге почти все молодые люди похожи друг на друга: у всех одинакие привычки, одинакие ухватки, один и тот же портной; одна и та же прическа, те же разговоры, то же образование, почти тот же ум.
Заметьте в мазурке, при некоем повороте: все одинаково как-то прихлопывают каблуками, и во французской кадрили все как-то одинаково непринужденно машут правой рукой.
В большом свете все они чрезвычайно приличны.
С математической точностью знают они, где стать, где сесть, где поклониться, где говорить и где молчать. Тактикой гостиных обладают они вполне. Между товарищами – дело другое: фраки долой, мундиры нараспашку.
Тут стараются они выказываться добрыми малыми. Карты на стол – подавай лишь шампанского. Тут все добрые малые, с первого до последнего.
И что всего страннее: тот же самый франт, который, за полчаса пред тем, в перетянутом мундире или в перекрахмаленном галстуке казался робок и неприступен, как красная девица, вдруг делается отчаянным крикуном, бранит принужденность гостиных и шумит один за трех армейских майоров.
Все они разделяются на два класса: военных и статских. В Москве есть еще один класс, который и не военный и не статский, который ходит в усах, в шпорах, в военной фуражке и в венгерке, но это до нас не касается: мы говорим единственно о молодых людях петербургских. Степень взаимного уважения, разумеется, светского, определяется, как и следует, между ними большим или меньшим богатством. Если один из них имеет свою карету, собственного повара, щегольски отделанную квартиру и абонированное кресло, то он может быть уверен, при порядочном имени, что займет почетное место среди петербургской молодежи.
Таковыми преимуществами Щетинин обладал вполне.
К тому же отец, бывший некогда посланником, оставил ему большое достояние, никем не оспариваемое, а природа одарила его прекрасной наружностью и пылким, прямым умом. С детства попал он в стихию большого света, воспитывался за границей, приехал потом в Петербург и с первого шага занял между великосветскими юношами одно из первых мест. Свет был для него дело обыкновенное, к которому он привык; свет был ему и непротивен и неувлекателен, и не удивлял его, только часто не находил он в нем многого, а чего именно – долго не постигал.
Зато никто не умел так почтительно кланяться старым дамам, так откровенно шутить и смеяться с молодыми. Каламбуры его повторялись во всех гостиных.
Приглашения на пышно-дружеские обеды сыпались на него дождем. Все невесты улыбались ему приветливо, иные даже – спаси меня господи от прегрешения и клеветы! – вертясь с ним, в минуту рассеянности тихо пожимали ему руку. Замужние дамы имели всегда для него на бале местечко подле себя за ужином; одним словом?
он был предводителем всех кавалеристов северной столицы.
Между товарищами, кроме должного богатству его уважения, он был искренне любим и был действительно добрый малый, иногда даже слишком добрый малый, потому что пылкая природа заносила его слишком далеко. Ни в какой шалости не отставал он от своих однослуживцев. В карты мог он играть по целым ночам сряду, бутылку шампанского – извините за историческую точность – мог выпивать, хотя-нёхотя, но с одного раза; а как пойдут удалые анекдоты и беранжеровские песни, то громкий хохот товарищей возглашал ему всегда торжественное одобрение.
Но был ли он доволен собой в чаду своих успехов – не знаю. По крайней мере, нередко находила на него хандра неописанная. Тогда догадывался он, что в дружбе друзей его промелькивала зависть; что в приветствиях молодых девушек скрывалась тайная мысль о выгодном женихе; что светские дамы заманивали его в свои сети»
потому что он в моде; что он родня целому свету и что подобная победа заставила бы всех соперниц по чепчикам и по красоте умереть с досады. Тогда голова его склонялась от пустоты и усталости; тогда хватался он за грудь и чувствовал, что в ней билось сердце, созданное не для шума и блеска, а для жизни иной, для высшего таинства, – и тяжело было ему тогда, и хандра налагала на него свои острые когти. Но он, стыдясь ее, с сердцем, ноющим от скуки и горя неразгаданного, продолжал вести с товарищами жизнь разгульную и молодецкую, а в свете любезничать с дамами и щеголять напропалую.
Так прошло много лет. Щетинин дожил до той неприятной эпохи, где человек замечает, что он начинает стареть. Он влюблялся как мог и где мог, но он столько знал свет и жизнь, что не мог влюбиться не на шутку, и по истертой колее продолжал путь своей жизни, иногда забывая о нем, иногда проклиная его от души.
Однажды (это было летом) на маленькой даче, примыкающей к пышной даче графини Воротынской, был шумный холостой обед; смех и вино оживляли собеседников. После обеда сели играть в карты, заварили сженку. Нагрянула новая молодежь – и пошла потеха.
Щетинин сидел на первом месте, пил, что наливали, и проигрывал более всех. Долго тянулась игра. Всю ночь напролет тряслись окошки от шумной беседы; всю ночь были слышны песни и восклицания пирующих. Когда все расстались, на дворе было совершенно светло.
Щетинин, желая освежиться прохладою утреннего воздуха, отправился на свою дачу пешком.
Утро было чудное. Солнце, тихо подымаясь, весело играло утренними лучами по пестрым крышам припевских дач. Деревья едва колыхали вершинами. Птички перелетали с ветки на ветку. Цветы, распускаясь, улыбались сквозь слезы росы. Воздух был свеж и чист и благоуханен. Вправо, на зеленой лужайке, паслось пестрое стадо. Вдали шли крестьяне на дневную работу, да священник шел к ранней обедне.
Щетинину стало совестно. С досадой вспомнил он глупую свою ночь, вспомнил раскрасневшиеся лица своих приятелей и жадность, с которою они кидались на мелки, чтоб записывать его проигрыш. Целый вечер, проведенный в разгульном забытьи, показался ему так гадок, так унизителен перед величественной, божественной картиной, которая развивалась в глазах его.
В эту минуту порхнула перед ним девочка лет тринадцати, которая весело неслась за бабочкой. Прелестное ее личико разгорелось от бега, волосы развевались по ветру; она смеялась и прыгала, и кружилась легче мотылька, своего воздушного соперника. Никогда Щетинин не видел ничего лучше, свежее этого полуземного существа. Оно как будто слетело с полотна Рафаэля, из толпы его ангелов, и смешалось с цветами весны, с лучами утреннего солнца, для общего празднования природы.
Душа Щетинина стала светлее и как будто расширилась.
Слеза повисла на его реснице; долго он стоял очарованный и с жадностью следил, как милое дитя прыгало и неслось все далее и далее, и мелькало вдали среди душистых кустов.
Есть минуты в жизни, которые не знаменуются ни сильными переворотами и никакими внешними особенностями, со всем тем они делаются для нас точками светлыми, незабвенными, неизгладимыми.
Отрадные впечатления чудного утра врезались в душе Щетинина; он сохранил их, как святыню, которую прячешь от неверующих. Правда, он никому в том не сознался и ни за какие сокровища в мире не открылся бы он лучшему другу. Как человек светский, всего более страшился он насмешек, а ничто их так не навлекает, как простосердечное сознание в истинном, сердечном впечатлении, и с той поры Щетинин сблизился с графиней Воротынской, и скоро молва назначила его в числе ее поклонников. Графиня сперва с ним пококетничала, а потом, уверившись в его постоянстве и не теряя его из виду, обратилась к другим с своими невинными нападениями.
Но модный князь искал другого, искал лучшего и не мог отдать себе отчета в странном чувстве, которое им овладевало. Он – владыка моды, пред которым трепетали люди женатые от страха, люди холостые – от зависти; он, ничему и никому не веривший, он, ничего и никого не любивший, он, князь Щетинин, выжидал, с нет выразимым волнением и трепетом, минутных, редких появлений маленькой девочки в белом платьице, в черном передничке, с необходимым приседанием, с неизбежной гувернанткой, и чувствовал сам, не понимая почему, как, при виде ее, душа отдыхала от тяжкой усталости.
Девочка, явившаяся ему в светлое утро, была сестра графини!!
В минуты шумных наслаждений света он сам иногда смеялся над собою, но когда ему было грустно, когда он уединялся в своих мыслях, он всегда призывал милое видение, и тогда тихо над ним веял детский образ, который нечаянно дополнил ему в незабвенное утро все красоты природы и все отрады Провидения.
Так между двойственной жизнью провел он быстро два года. Никто не подозревал и никому на мысль не приходило подозревать его тайну. Впрочем, он продолжал свой прежний род жизни: ездил в общества и не отставал от товарищей. Мы остановились на том, как пришел он с Сафьевым навестить Леонина под арестом.








