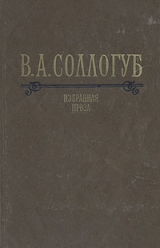
Текст книги "Избранная проза"
Автор книги: Владимир Соллогуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
– О тебе? Ничего не говорят. В Петербурге никогда ни о ком не говорят, кроме тех, которые беспрестанно под глазами вертятся. Да бишь: Вельский просил тебя прислать ему деньги, которые ты проиграл ему в экарте.
Кроме того, я видел Adele… Она на тебя жалуется, ты знаешь… потому что… тс-тс!
Приятели начали говорить вполголоса. Разговор их был продолжителен. В одиннадцать часов вечера Сережа приказал своему камердинеру укладываться, написал наскоро довольно учтивое извинение Николаю Осиповичу и чем свет был уж с своим приятелем на большой петербургской дороге.
VIII
Прекрасная гостиная, готическая, с резьбою Гамбса.
Чехлы сняты. Разряженная хозяйка сидит на канапе и ждет гостей.
Нынче не то что бал, да и не то что вечеринка, а так, запросто: горят одни лампы; свечей не зажигали; будет весь город.
Толстый швейцар с дубиной стоит у подъезда. На лестнице ковер и горшки будто бы с цветами. Вот зазвенел колокольчик; съезжаются гости. Дамы лет пожилых (известно, что старух в большом свете не бывает) садятся За вист в гостиной. В соседней комнате играют генерал-аншефы и тайные советники. Молодые девушки садятся на четвероугольный канапе посреди комнаты или перелистывают давно знакомые картинки. К ним придвигают стулья секретари посольств и камер-юнкеры и начинают разговаривать. Разговор самый занимательный.
– Что, можно сесть подле вас?
– Можно.
– Были вы вчера в «Норме»?
– Хотите мороженого?
– Как жарко!
– Охота хозяйке давать вечера с этакой фигурой.
– Как вы злы! Bon jour. Bon jour. Bon-jour.
– Знаете, что Сережа приехал?
– Право?
– Да вот и он.
– Тысячу лет не видали.
– Где вы были?
– В дересне хозяйничал. Ха-ха-ха! Не взыщите: мы люди деревенские… Ха-ха-ха!.. Bon-soir [8]8
Добрый вечер (фр.)
[Закрыть]. Bon-soir.
– Ну, что скажете?.. Вы не знаете, где нынче графиня?..
– А, да вот она сама! Bonjour. Bon-jour.
Сережа вскочил со стула. В гостиную вошла графиня, всегда прекрасная, всегда ослепляющая роскошью и красотой. Густые локоны падали до пышных плеч, а на лбу золотой обруч с брильянтом. От нее веяло какой-то светской приманкой. Все было в ней обворожительно и прекрасно. Величественно подошла она к хозяйке, улыбнулась знакомым, села на место и увидела Сережу, стоявшего перед ней.
– Madame la comtesse… [9]9
Госпожа графиня… (фр.)
[Закрыть]
– Bon-jour. Когда приехали?
– Сейчас.
– Что, вы женаты?
– Помилуйте, графиня, зачем шутить?
– Да что же вы делали в деревне?
– Я занимался, читал и думал.
– А соседей у вас не было?
– Какие там соседи! Был какой-то капитан, да, признаюсь вам, мне было не до того.
Он выразительно поглядел на графиню.
– Что, вы мужа моего видели?
– Нет еще.
– Ну, ступайте же с ним здороваться, – продолжала, смеясь, графиня. – Завтра у меня танцуют.
– Что, вы мне дадите мазурку?
– Так и быть…
Летит время. Всё то же да то же: ноги устали, сердце пусто, мыслей мало, чувства нет.
Саша женился на богатой вдове и начал давать обеды. Сережа танцевал по-старому мазурку, вздыхал под ложей графини, но начинал уж чувствовать, что он променял счастье жизни на приманки малодушного тщеславия. Нередко мучила его и та мысль, что он был причиною гибели бедной девушки, которая, как известно ему было от одного помещика, встретившего его в театре, чахла и страдала после его отъезда и, вероятно, давно уж умерла. Несколько лет промчалось уж после поездки его в деревню; угрызения совести не оставляли его, но дополняли его бытие. Он уважал в себе человека, сделавшегося некоторым образом преступным, и вспоминал о любви своей к Олимпиаде, как о самой светлой точке своей жизни, утонувшей навеки в бессмысленном тумане его настоящего бытия. Однажды сидел он у своего камина. Воображение живо рисовало ему черты незабвенной девушки с распущенными волосами, с глазами, исполненными неги и любви. В эту минуту вошел человек с письмом. Сережа наскоро распечатал и прочел следующее.
«Милостивый государь Сергей Дмитриевич. Вот уже пять лет как вы не изволили быть в поместьях ваших, в пяти верстах от сельца Зубцова, как известно вам, отстоящих. По отъезде вашем батюшка с матушкой отдали меня замуж за служащего по выборам уездного суда заседателя Крапитинникова, с коим, благодаря бога, я и живу в счастливом супружестве уже четвертый год и была бы довольна судьбою, если б не следующий случай. Муж мой, отставной армии штабс-капитан, прослужил уж три трехлетия по выборам дворянства и, не будучи замечен ни в каких дурных поступках, был представлен начальством к следующей ему награде. Несмотря на то, мой муж никакого награждения не получил, тогда как того же суда заседатель Бутыргин, замеченный в нетрезвом поведении, за коим по разным следствиям считается до 200 с лишком дел нерешенных, и женатый на поповской дочери, получил на днях орден св. Анны для ношения в петлице. Не имев никаких покровительств в Петербурге и зная, что вы имеете там знакомство в высшем кругу, я решилась, зная всегдашнее расположение ваше к нашему семейству, просить вас не отказать нам в ходатайстве вашем у важных особ о скорейшем назначении мужу моему следующего ему ордена.
Батюшка мой жалуется, что вы его забыли. Он теперь опять пристроивает небольшой флигелек к дому своему для меня и детей моих, на случай, когда дела наши позволяют нам отлучаться из уездного города.
Сестры мои вышли замуж: Авдотья за комиссариатского чиновника Бирюкдина, а Поликсена за учителя немецкого языка Шмитцдорфа. Муж мой свидетельствует вам свое глубочайшее почтение, а вместе с ним и покорная вам Олимпиада Крапитинникова».
Письмо выпало из рук Сережи; слезы навернулись на глазах его. «Одна минута поэзии, – подумал он, – была в моей жизни, и та была горькой глупостью!».
Бедный Сережа! Ему пришлось проститься с своим раскаяньем и сделаться снова невинным гвардейским офицером. И все пошло, и все идет опять по-старому: графиня наряжается и танцует; Сережа ездит в театр.
И все то же да то же: ноги устали, сердце пусто, мыслей мало, чувства нет…

История двух калош
(Посвящено М. Ф. Козловой)

Предисловие
Я так много в жизни свое ходил пешком, я столько в жизни своей переносил калош, что невольно вселилась в душе моей какая-то особенная нежность ко всем калошам. Не говоря уже о неоспоримой их пользе, как не быть тронутым их скромностью, как не пожалеть о горькой их участи? Бедные калоши! Люди, которые исключительно им обязаны тем, что они находятся на приличной ноге в большом свете, прячут их со стыдом и неблагодарностью в уголках передней; а там они, бедные, лежат забрызганные, затоптанные, в обществе лакеев, без всякого уважения. И как, скажите, не позавидовать им блестящей участи своих однослуживок, счастьем избалованных лайковых перчаток? Их то и дело что на руках носят; им слава и почтение; они жмут в мазурке чудную ручку, они обхватывают в вальсе стройный стан, и не они ли отличают в большом свете истинное достоинство каждого человека и степень его аристократизма? О перчатках говорят в лучших обществах между погодою и театром, говорят дамы, говорят графини, говорят княгини, молодые и старые, а более молодые.
О бедных калошах никто не говорит, или изредка замолвит о них стыдливое словечко бедный чиновник на ухо товарищу, подняв шинель и шагая по грязи…
Ей-богу, меня всякий раз досада разбирает, когда я подумаю, как странно все разделено на свете! Сколько людей… Сколько калош, хотел я сказать, затоптанных и забытых, тогда как лайковые перчатки с своею блестящею наружностью, с своею ничтожною пользою блаженствуют вполне!
Многие прежде меня писали мелкие биографии разных вещиц: булавочек, лорнетов, шалей и тому подобного. Но они или приписывали им нежные чувства, весьма неуместные в булавках и лорнетах, или вооружали их испытующим оком, сердито следящим за грешными мирскими слабостями. Цель моя другая. Я не представлю вам разрозненных листков журнала какой-нибудь калоши сантиментальной, непонятой каким-нибудь жестокосердым сапогом. Я не стану описывать вам похождения калоши сардонической, наблюдающей все нравы без исключения, даже нравы тех гостиных, куда ее не пускают. Будьте спокойны! Это все слишком старо и было бы в подражательном вкусе; а век наш, в особенности век молодых литераторов, самостоятелен и нов. Я расскажу вам просто историю двух калош кожаных.
Приглашение на бал
Иоганн-Петер-Аугуст-Мариа Мюллер, «сапожных дел мастер», по вывеске «приехавший из Парижа», а действительно из окрестностей Риги, проснулся однажды очень рано, протянул руки, поправил бумажный колпак, упавший ему на нос, и толкнул жену под бок.
– Вставай, Марья Карловна! Дай мне бритвы, да черные брюки, да белую манишку. Надо отнести надворкому советнику Федоренке пару калош, которые обещал я ему к пятнице (а эта пятница была тому две недели).
Я побреюсь, а ты вели подмастерье Ваньке вычистить калоши почище, как зеркало. Слышишь ли? – прибавил с гордостью сапожник. – Пусть полюбуется да посмотрит: работа не русская какая-нибудь, работа чисто немецкая, без ошибки и фальши; не будь я Иоганн-ПетерАугуст…
Он не успел окончить, как Марья Карловна уже возвратилась с ужасом на лице, с калошами в руках.
– Ванька был пьян вчера, – кричала она, – калоши испорчены!
Бритва упала из рук Мюллера.
– Cott schwer Noth! [11]11
Наказанье божье! (нем.)
[Закрыть]Калоши надворного советника! Solche allerliebste Kaloschen!.. [12]12
Такие Прелестные калоши?.. (нем.)
[Закрыть]– Он их выхватил из рук жены. Действительно, делать было нечего. Калоши были испорчены. Правая подрезана сбоку и проколота шилом, а левая облита чем-то нехорошим.
Мюллер был в бешенстве.
– Ванька! – закричал он громовым голосом. – Что это такое?..
Полуглупая-полулукавая фигура Ваньки с заспанными глазами, в затрапезном халате показалась в дверях, почесывая затылок.
– Что это такое? – продолжал грозный сапожник, указывая на калоши.
– Не могу знать.
– Как «не могу знать»? Я говорю, что такое?
– А почему же я знаю?
Мюллер, вне себя от гнева, ударил трижды калошами по щекам Ваньки. Ванька завыл, как теленок; Мюллер успокоился.
«Ну, что же мне делать? – подумал он. – Не бросить же калоши! Надворному советнику Федоренке отнести их невозможно: он знаток. Даром пропадут… Хоть бы сбыть кому-нибудь… Да бишь! Онамедни приходил музыкант заказывать калоши. Разве ему отнести? Да! да ведь эти музыканты… с них денежек не жди: народ известный! А!.. – заключил сапожник, хлопнув себя по лбу. – В воскресенье рожденье Марьи Карловны».
Он завернул калоши в бумажный платок, бросил их под мышку и, надев шляпу набок, потому что он между всеми сапожниками слыл щеголем, вышел на улицу.
С Малой Морской, где жил Мюллер, он поворотил к Синему мосту и пошел в Коломну. В Коломне остановился он у высокого дома с нечистыми воротами, перед которыми дворник играл на балалайке.
– Здесь живет господин Шульц? – спросил Мюллер.
Дворник посмотрел на немца и, отворотившись, отвечал:
– Таких нет.
– Господин Шульц, музыкант.
– Есть какой-то немец, музыкант, что ли, кто их там разберет, этих всех музыкантов! Ступайте в самый верх. Он – так он, а не то ищите в другом месте.
Вскарабкавшись по узкой лестнице под самую крышу дома, Мюллер остановился у дверей, на которых была прибита бумажка с надписью: «Karl Schultz, musicus» [13]13
«Карл Шульц, музыкант» (лат.)
[Закрыть].
Мюллер отворил двери.
Молодой человек с бледным лицом и впалыми глазами сидел, опершись обоими локтями на столик простого дерева, и руками держался за голову. На столике лежало несколько книг и писаные ноты. В комнате все было пусто, лишь в углу несколько соломенных стульев изображали кровать. Стены, когда-то выбеленные, наклонялись под скат крыши. Впрочем, в комнате было пусто и мрачно: тут была нищета, нищета ужасная, во всей своей наготе. Неожиданная картина поразила Мюллера. Он остановился у дверей и не понимал, какое им овладело чувство. Добрый немец, пораженный такою бедностью, оробел и с усилием прошептал вполголоса:
– Калоши ваши готовы…
Молодой человек обернулся и печально посмотрел на сапожника.
– Я вам говорил, – отвечал он, – что я сам за ними зайду. Теперь у меня нет денег.
– Помилуйте, господин Шульц. Зачем вам себя беспокоить? Сочтемся после. А теперь погода сырая, калоши нужны…
Бедный музыкант встал с своего места и взял Мюллера за руку.
– Вы добрый человек! – сказал он.
Мюллер смешался. Совесть его мучила. Он хотел бежать от искушенья. Однако как быть? В воскресенье рожденье Марьи Карловны. Будут гости.
– Господин Шульц, – прошептал он опять, повертывая шляпу в руках, – у меня… до вас… просьба. В воскресенье рожденье жены моей, Марьи Карловны. У нас будут гости. Я желал бы доставить им приятное занятие.
Марья Карловна очень любит танцевать, а играть у нас некому. А так, без танцев, время проходит скучно. Да вот и сапожника Премфефера жена без танцев жить не может.
– В котором часу? – спросил Шульц.
– Да часов в шесть, – продолжал, кланяясь, Мюллер, – часов в шесть. Мы постараемся, чтобы вам не было скучно. А об калошах, пожалуйста, не думайте. Это безделица!.. Ну уж будет сюрприз Марье Карловне!
Обрадованный Мюллер побежал в восторге домой и во всю дорогу напевал разные вальсы и перигурдины.
А бедный музьжант упал на соломенный свой стул, закрыл лицо руками и горько заплакал. «Вот до чего я дожил! – подумал он. – Из пары калош должен я целый вечер играть на именинах у сапожника!..»
Детство
Карл Шульц родился в Германии. Отец его, зажиточный дворянин с немецкою спесью, жил недалеко от Дюссельдорфа в своем имении, где на старости лет он, от нечего делать, сделался хозяином. Жена его давно уже скончалась, а домом управляла ключница, сердитая и злая, под названием Маргариты. Вообще, как нет ничего глупее глупого француза, так нет ничего злее и хуже сердитой немки. Маргарита была женщина лет сорока, высокая, худая, с багровыми щеками, гроза целого дома.
Главное очарованье ее для старого Шульца составляло особое искусство стряпать разные кушанья с изюмом и черносливом, до которых старик был большой охотник.
Мало-помалу прибрала она все хозяйство в руки, сделалась госпожой в доме и выслала всех своих противников.
Но в особенности не любила Маргарита маленького Карла, как живое препятствие, которое всех труднее было отстранить. Карл учился в Дюссельдорфе в городском училище, и учился, сказать правду, довольно дурно, как все дети с пылким воображением. Признаться, скучно затверживать глаголы, склонять имена существительные и марать грифельные доски, когда в голове вертятся волшебные замки, рыцари в золотых латах и все чудные видения ребяческой мечты. Карл учился дурно: учители жаловались; Маргарита уверяла старого Шульца, что сын его негодяй, повеса, годный только для виселицы.
Возвращаясь из школы своей, Карл только и слышал, что толки о картофеле да крупную брань. Это ему надоело: он был одарен душой любящей и нежной; но в то же время гордость его доходила до упрямства. Он был из числа тех характеров, над которыми всесильно слово любви, а угроза немощна.
Чем более его бранили, тем более он отвращался от наук, и слова Маргариты действительно бы оправдались, если б странный случай не открыл ему нового направления.
Однажды он шел по дюссельдорфским улицам с заплаканными глазами: отец ударил его поутру палкой, а Маргарита вытолкала его из дома! Бедный мальчик, с грамматикой под мышкой, остановился перед церковью и призадумался. Участь его была горька: он был один в начале жизни, а душа его просила подпоры. Что делать бедному мальчику? Кто сжалится над ним? Невольно вошел он в церковь, чтоб рассеять свое горе, сел на лавку и начал слушать проповедь. Проповедь кончилась. Орган величественно зазвучал. Мальчик поднял голову и начал слушать. Новое чувство обдало его невыразимой теплотой. Мало-помалу перед ним начал развертываться новый, необъятный мир. Голова его терялась. Ему показалось, что в душе его стало широко, что будто ум его ребяческий мужал с каждым звуком. Он задрожал и заплакал. Назначение его ему было открыто, утешение найдено, цель достигнута: он был музыкантом.
Обедня кончилась. Карл дожидался на паперти, пока маленький органист, в напудренном парике, с очками и бесконечным носом, выкарабкался с верха по крутой лестнице. Карл его остановил.
– Вы играли?
– Я.
– Вы славно играли!
Старичок засмеялся. Нос его показался еще длиннее, а очки на носу запрыгали.
– Я хочу учиться музыке! – подхватил Карл.
– Учись.
– Где вы живете?
– Рядом.
– Я пойду с вами, пойду к вам, буду учиться у вас.
Вы меня сделаете музыкантом?
Большой нос опять засмеялся. Карл пошел за ним.
Органист, смеясь, посадил его за маленькие клавикорды – единственное украшение безроскошной комнатки – и начал объяснять ему музыкальные интервалы и все сухое предисловие поэзии звуков. Мальчик едва переводил дыхание; слова органиста врезывались в его памяти; он слушал с почтением и вдруг вскочил с своего стула и обнял старика с большим носом, как он никогда еще никого не обнимал. Старик был тронут. Он был тоже одинок; ему тоже было не с кем душу отвести.
Странное сходство сблизило старика с ребенком. Оба были отчуждены от света – один в начале своей жизни, другой уже при конце; в их положении было что-то взаимное и родственное. Старичок прижал мальчика к сердцу своему, как отец, долго не видавший своего сына.
С тех пор они были неразлучны; с тех пор маленький Карл каждый день находил средства убегать из школы, чтобы посетить своего учителя, чтобы наслушаться, чтобы надышаться его восторженною речью. Старичок был из числа тех людей, которые, пристрастясь к одной мысли, породнившись с одним чувством, ими только дышат и живут: музыка была его мир, его собственность – то, что воздух для птицы. О ней говорил он с почтением, как о таинстве, с любовью, как о верном друге. Но никогда старичок так не воспламенялся, никогда очки так высоко не прыгали на бесконечном носу его, как когда он заговаривал об ученом своем друге, о великом Бетховене. Они учились вместе у Фан-Эндена, жили вместе, были вместе молоды, а потом расстались для того, чтобы бедному органисту умереть в безвестности, в уголке своей церкви, для того, чтобы Бетховену умереть в горе и нищете, увенчанному двойным венком несчастия и славы. Это благоговение к имени великого музыканта, эту чистую страсть к возвышенной музыке старичок вполне передал Карлу. Посвященный в новое таинство, Карл выучился читать на невидимых скрижалях, говорить языком, доступным не для многих, и возвышать душу до сверхземных созерцаний. С тех пор жизнь его приняла новое направление, с тех пор школьная жизнь показалась ему еще более несносною и отвратительною.
Бедный мальчик был жертвою избытка сил своей души. Он подумал, что одной поэзии для жизни достаточно; он подавил ум чувством, существенность – воображением. Он ошибочно понял свое значение – и погубил себя в будущем. Учители его с новым негодованием объявили старику Шульцу, что сын его по целым дням пропадает без вести и что тетради его вместо латинских переводов и рассуждений о римской истории все исписаны диезами и бемолями. Маргарита торжествовала.
Старик Шульц запретил Карлу показываться ему на глаза. С тех пор возврат на дольную стезю был для мальчика невозможен. Я говорил выше: слово любви могло бы остановить его, переломить его упрямство; угроза только более и более его раздражала: он не просил прощения, он не обещал исправиться – бросил книги в окно и сделался музыкантом.
Молодость
Так прошло несколько лет.
Мальчик сделался юношей, органист сделался дряхлым стариком. Жизненные силы его постепенно стали ослабевать; кончина его приближалась. Наконец, после одного большого праздника, где он непременно хотел сам играть на органе и где играл он с глубоким вдохновением, принесли его без чувств домой, и через несколько часов Карл стоял уже, задумчивый и бледный, над его охладевшим трупом. Смерть органиста была вторая торжественная минута в жизни Карла. После первого восторга наступила первая задумчивость. Задумался Карл о бренности земной, об этом странном составе огня и грязи, который называют человеком. В первый раз он с удивлением и ужасом заметил, что в жизни нет ничего существенного, что жизнь сама по себе ничто, что она только тень, тень неосязаемая чего-то невидимого и непонятного. Ему стало холодно и страшно…
О, как дорого дал бы он тогда, чтобы поплакать на груди существа любимого, чтоб утопить в слезах любви новое, ядовитое чувство, которое начало вкрадываться в его душу! Он был снова один, совершенно один. Мысль эта его душила. Он понимал, что в минуту скорби одно только и есть утешение – это созвучие другой души, которая страдает одиноким горем. Он вспомнил тогда об отце своем; он побежал к отцу, чтоб броситься к его ногам, чтобы просить его пощады и благословения, чтоб вымолить его отеческую любовь, чтобы выплакать его отеческую ласку. В доме у отца нашел он торжественную суматоху: по лестнице бегали слуги, в гостиной играла музыка; старик праздновал свадьбу свою с Маргаритой. Он выслал сыну небольшой мешок с деньгами и запрещение к нему показываться.
Что делать Карлу? С сердцем, глубоко уязвленным, он убежал от родительского дома, и убежал далеко от Дюссельдорфа, без цели и желаний.
В жизни бывают бедствия двоякого рода: бедствия положительные и бедствия отрицательные. Первые доступны всем, понятны всякому: потеря имения, смерть ближнего, сердитая жена, мучительная болезнь. Но есть другие бедствия, бедствия, никем не видимые и непонятные, которые сжимают душу, которые уязвляют сердце, давят как камень и душат как домовой. Это бедствия отрицательные, в которых нельзя отдать отчета, которые скрываешь от всех. Мы стараемся и сами укрыться от них, как от хищного зверя; мы призываем в помощь все, что прежде нам ярко сияло, все, что мы горячо и свято любили; мы обращаемся ко всем верованиям нашей души, ко всем светлым нашим воспоминаниям…
Шульц вспомнил о Бетховене. Благодаря покойному органисту Бетховен был для него венцом создания, высшим выражением всего, что только может быть музыкального и поэтического на земле. Он мысленно окружал его лазурным сиянием; он веровал в его славу, как в молитву. Он хотел повергнуться в прах пред чудной его силой и ожидать от неё назначения своему бытию.
Шульц отправился в Вену.
Шум городской, быт столичный, все позолоченные погремушки имели мало для него прелести. Он везде спрашивал о Бетховене; но его и не знали, или знали только понаслышке, как человека, имеющего порядочный бас. «Что ж это? – думал Шульц. – Где храмы, воздвигнутые гению? Где же скрывается сам гений?..»
Наконец, проходя однажды по узкому переулку, увидел он вдали старичка, писавшего что-то углем на стене.
Кругом мальчики указывали на старика пальцем, дергали его за кафтан и хохотали между собою. Старичок не замечал ничего и продолжал писать. Наружность его была самая странная: седые волосы падали в беспорядке до плеч; кафтан коричневого цвета был изношен до невероятности; красный платок, обвитый около его шеи, придавал какой-то фантастический оттенок глубоким его морщинам и седым волосам. Дрожащей рукой набрасывал он знаки на ветхой стене и вдруг останавливался и наклонял ухо, как будто прислушивался к чему-то.
Шульц принял его за сумасшедшего. Наконец старичок задумчиво улыбнулся и продолжал путь свой вдоль по переулку, опустив голову и в сопровождении веселой толпы, которая прыгала и кувыркалась вокруг него.
Карл взглянул на стену, и чувство музыкальное закипело в груди. В этих безобразных знаках увидел он новую оригинальную мелодию, что-то небывалое и гениальное.
– Кто этот старичок? – закричал он проходящему.
– Музыкант Бетховен.
«Бетховен!..» Шульц бросился за стариком. Старичок был уже на конце переулка и медленно, медленно скрывался за стеною. В эту минуту Шульцу показалось, что вся слава земная промелькнула пред ним тихо и таинственно, как какая-то страшная тень в рубище. Бетховен скрылся – и более Шульцу не привелось его видеть. Бетховену недолго оставалось жить, и мысль его, теряясь в необъятном, уже стряхнула с себя все земное.
Какие звуки непостигаемые и невыражаемые должны были раздаваться тогда в душе его! Казалось, он был лишен слуха для того, чтоб лучше и полнее прислушиваться к внутреннему голосу гения своего, чтобы в восторге внутреннего песнопения окончить жизнь свою, как последний возглас гимна чудного, никем не слыханного…
И тогда один только Шульц в этой роскошной Вене, столь славной своей любовью к искусству, один Шульц понял, что было великого в кончине великого мужа.








