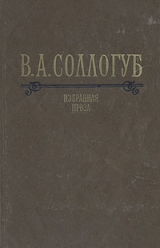
Текст книги "Избранная проза"
Автор книги: Владимир Соллогуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
III
Начало путевых впечатлений
Когда путешественники выехали за заставу, между ними завязался разговор.
– Василий Иванович!
– Что, батюшка?
– Знаете ли, о чем я думаю?
– Нет, батюшка, не знаю.
– Я думаю, что так как мы собираемся теперь путешествовать…
– Что, что, батюшка… Какое путешествие?
– Да ведь мы теперь путешествуем.
– Нет, Иван Васильевич, совсем нет. Мы просто едем из Москвы в Мордасы, через Казань.
– Ну, да ведь это тоже путешествие.
– Какое, батюшка, путешествие. Путешествуют там, за границей, в неметчине; а мы что за путешественники? Просто – дворяне, едем себе в деревню.
– Ну, да все равно. Так как мы отправляемся теперь в дорогу…
– А, вот это, пожалуй.
– То мне кажется, что я могу употребить время… нашего, как бы сказать… поезда с пользой.
– Ас какой же, батюшка, пользой? Ума не приложу.
– Извольте видеть: за границей теперь мода издавать свои путевые впечатления. Тут помещается всякая всячина: где ночевал, кого видел, что понял и что угадал, наблюдения о нравах, о просвещении, о степени искусства, о движении торговли, о древности и о современности – одним словом, о целом быте народном. Потом все это собирается и печатается под названием путевых впечатлений.
– Вот-с!
– К сожалению, эти впечатления не всегда носят отпечаток истины и оттого теряют свое достоинство. К тому же все, что можно было сказать о западных государствах, пересказано и перепечатано. Заключения сделаны, мнения определены: наблюдателю негде разгуляться.
– К чему же вы, батюшка мой, речь эту ведете?
– Вот к чему. Путевые впечатления за границей никому не нужны, потому что нового в них ничего быть не может. Но путевые впечатления в России могут много явить любопытного, в особенности если они будут руководствоваться одной истиной. Подумайте, какое обильное поле для изысканий: изучение древних памятников, изучение нашей прекрасной, нашей великой и святой родины. Вы меня понимаете?.
– Нет, брат. Ты все такое мелешь странное.
– Моя надежда, мое желание, моя цель, – продолжал, воспламеняясь, Иван Васильевич, – сделаться хоть чем-нибудь полезным для моих соотечественников. Вот для чего, Василий Иванович, я хочу записывать все, что буду видеть; буду записывать не мудрствуя лукаво, а придерживаясь только правды, одной правды. Со мной дорожная чернильница и толстая тетрадь бумаги, – прибавил он торжественно, указывая на величественную книгу, которая покоилась у него на коленях. – Эта книга должна прославить меня в целой России. Это книга моих путевых впечатлений. Друзья мои будут читать ее, и дай бог, чтоб она внушила им желание вникнуть глубже в те предметы, которые я могу обозначать только мимоходом.
– А что же вы думаете писать в ней? – спросил Василий Иванович.
– Все, что встретится нам дорогой истинно любопытного, истинно достойного внимания. Все, что я могу почерпнуть о русском народе и о его преданиях, о русском мужике и о русском боярине, которых я люблю душевно, точно так, как я душевно ненавижу чиновника и то уродливое безыменное сословие, которое возникло у нас от грязного притязания на какое-то жалкое, непонятное просвещение.
– А отчего же это, батюшка, ненавидите вы чиновников? – спросил Василий Иванович.
– Это не значит, что я ненавижу людей, служащих совестливо и благородно. Напротив, я их уважаю от души. Но я ненавижу тот жалкий тип грубой необразованности, который встречается и между дворянами, и между мещанами, и между купцами и который я называю потому вовсе неточным именем чиновника.
– Отчего же, батюшка?
– Потому что те, которых я так называю, за неимением прочного основания придают себе только наружность просвещения, а в самом деле гораздо невежественнее самого простого мужика, которого природа еще не испорчена. Потому что в них нет ничего русского: ни нрава, ни обычая; потому что они своей трактирной образованностью, своим самодовольным невежеством, своим грязным щегольством не только останавливают развитие истинного просвещения, но нередко направляют его во вредную сторону. Это создание уродливое, приросшее к народной почве, но совершенно чуждое народной жизни. Взгляните на него: куда девались благородные черты нашего народа? Он дурен собой, он грязен, он пьет запоем, а не в праздники, как мужик; он-то берет взятки, он-то старается всех притеснять и в то же время дуется и гордится пред простым народом тем, что он играет в бильярд и ходит во фраке. Подобное племя – племя испорченное, переродившееся от прекрасного начала. Посмотрите-ка на русского мужика: что может быть его красивее и живописнее? Но по предосудительному равнодушию у нас в высшем кругу мало о нем заботятся или смотрят на него как на дикаря Алеутских островов, а в нем-то и таится зародыш русского богатырского духа, начало нашего отечественного величия.
– Хитрые бывают бестии! – заметил Василий Иванович.
– Хитрые, но потому-то и умные, способные к подражательству, к усвоению нового и, следовательно, к образованию. В других краях крестьянин, что ему ни показывай, все себе будет землю пахать; а у нас: вам только приказать стоит – и он сделается музыкантом, мастеровым, механиком, живописцем, управителем – чем угодно.
– Что правда, то правда, – сказал Василий Иванович.
– И к тому ж, – продолжал Иван Васильевич, – в каком народе найдете вы такое инстинктивное понятие о своих обязанностях, такую готовность помочь ближнему, такую веселость, такое радушие, такое смирение и такую силу?
– Лихой народ, нечего сказать! – заметил Василий Иванович.
– А мы гнушаемся его, мы смотрим на него с пренебрежением, как на оброчную статью; и не только мы ничего не делаем для его умственного усовершенствования, но мы всячески стараемся его портить.
– Как это? – спросил Василий Иванович.
– Вот как. Гнусным устройством дворни. Дворовый не что иное, как первый шаг к чиновнику. Дворовый обрит, ходит в длиннополом сюртуке домашнего сукна. Дворовый служит потехой праздной лени и привыкает к тунеядству и разврату; дворовый же пьянствует и ворует, и важничает и презирает мужика, который за него трудится и платит за него подушные. Потом, при благополучных обстоятельствах, дворовый вступает в конторщики, в вольноотпущенные, в приказные; приказный презирает и дворового, и мужика, и учится уже крючкотворству, и потихоньку от исправника подбирает себе кур да гривенники. У него сюртук нанковый, волосы примазанные. Он обучается уже воровству систематическому. Потом приказный спускается на ступень ниже, делается писцом, повытчиком, секретарем и, наконец, настоящим чиновником. Тогда сфера его увеличивается; тогда получает он другое бытие: презирает и мужика, и дворового, и приказного, потому что они, изволите видеть, люди необразованные. Он имеет уже высшие потребности и потому крадет уже ассигнациями. Ему ведь надо пить донское, курить табак Жукова, играть в банчик, ездить в тарантасе, выписывать для жены чепцы с серебряными колосьями и шелковые платья. Для этого он без малейшего зазрения совести вступает на свое место, как купец вступает в лавку, и торгует своим влиянием, как товаром. Попадается иной, другой… Ничто ему, говорят собратья. Бери, да умей.
– Не все же таковы, – заметил Василий Иванович.
– Разумеется, не все, но исключения не изменяют правила.
– И к тому ж, – прибавил Василий Иванович, – губернские чиновники избираются у нас большею частью дворянством.
– То-то и грустно! – сказал Иван Васильевич. – То, что в других краях предмет домогательства народного, у нас представляется само собой. Мы не должны, мы не можем сметь жаловаться на правительство, которое предоставило нам самим выбор своих уполномоченных для внутреннего распоряжения нашими делами. Греха таить нечего. Во всем виноваты мы, мы, дворяне, мы, помещики, которые шутим и смеемся над тем, что должно было быть предметом глубоких размышлений. В каждой губернии есть и теперь люди образованные, которые при содействии законов могли бы дать благодетельное направление целой области, но все они почти бегают от выборов, как от чумы, предоставляя их козням и расчетам мелких сплетников и губернских крикунов. Большие же владетели, гуляя на Невском проспекте или загулявшись за границей, почти никогда не заглядывают в свои поместья. Выборы для них – карикатура. Исправник, заседатель – карикатуры, прекрасно выставленные в Ревизоре. И они тешатся над их лысинами, над их брюхами, не думая, что они вверяют им не только свое настоящее благоденствие и благоденствие своих крестьян, но – что страшно вымолвить – и будущую свою судьбу. Да! Если б мы не приняли этого жалкого направления, если б мы не были так непростительно легкомысленны, как хорошо было бы призвание русского дворянства, которому предназначено было идти впереди и указывать целому народу на путь истинного просвещения. Повторяю: виноваты мы сами, мы, помещики, мы, дворяне. Русские бояре могли бы много принести пользы отечеству; а что они сделали?..
– Попромотались, голубчики, – заметил основательно Василий Иванович.
– Да, – продолжал Иван Васильевич. – Попромотались на праздники, на театры, на любовниц, на всякую дрянь. Все старинные имена наши исчезают; гербы наших княжеских домов развалились в прах, потому что не на что их восстановить, и русское дворянство, зажиточное, радушное, хлебосольное, отдало родовые свои вотчины оборотливым купцам, которые в роскошных палатах поделали фабрики. Где же наша аристократия?.. Василий Иванович, что думаете вы о наших аристократах?
– Я думаю, – сказал Василий Иванович, – что нам на станции не будет лошадей.
IV
Станция
К несчастью, предвещание Василия Ивановича действительно оправдалось.
Тарантас остановился у низенькой избушки, перед которой четырехугольный пестрый столб означал жилище станционного смотрителя. На дворе было уж темно. Тусклый фонарь едва-едва освещал наружную лестницу, дрожащую под навесом. За избушкой тянулся трехсторонний сарай, крытый соломой, из которого выглядывали лошади, коровы, свиньи и цыплята. Посреди мягкого и влажного двора стоял полуразвалившийся четырехугольный бревенчатый колодезь. У самого подъезда толпились, прибежав с разных сторон, безобразные нищие, безногие, немые, слепые, с высохшими руками, с отвратительными ранами, в лохмотьях, с всклокоченными бородами. Тут были и пьяные старухи, и бледные женщины, и дети в одних рубашонках, вынувшие руки из рукавов и скрестившие их на груди от холода. Грустно было слышать их притворный, выученный голос среди мычанья, моленья и взаимной брани уродливой толпы, которая, толкая друг друга, с жадностью бросилась к тарантасу, выказывая раны и протягивая руки.
Между тем, пока наши путники, утомленные от первого перевала, выпутывались из перин и подушек, смотритель в изношенном зеленом мундирном сюртуке вышел на крыльцо и посмотрел на приезжих под руку.
– Тарантас, – сказал он довольно презрительно. – Тройка – подождать могут… Да отвяжитесь вы, анафемы! – закричал он нищим.
Как стая испуганных собак, безобразная толпа разбежалась во все стороны, и приезжие вошли в избу на станцию. Смотритель приветствовал их весьма хладнокровно.
– Как вам угодно, а лошадей у меня нет. Такой разгон, что не дай бог!
– Как лошадей нет! – закричал Иван Васильевич.
– Извольте сами в книге посмотреть. По штату всего девять троек. Утром проехала надворная советница, взяла шесть лошадей, да тяжелая почта три тройки, да полковник один по казенной надобности – четыре лошади.
– Так все-таки у вас остается восемь лошадей, – сказал Иван Васильевич.
– Никак нет-с, извольте в книге посмотреть.
– Да куда ж девались восемь-то лошадей?
– Курьерские лошади точно есть, да дать-то их я не смею: неравно курьер поедет – сами подумайте.
– Да мы будем жаловаться.
– Извольте, батюшка, жаловаться. Вот вам и книга: извольте записаться, а лошадей у меня нет.
– Между Москвой и Владимиром, – заметил Василий Иванович, – никогда ни на одной станции нет лошадей {В настоящее время это обвинение вовсе несправедливо. (Прим. авт.)}, когда бы ни приехал: видно, разгон такой большой. Никак я здесь тринадцатый раз проезжаю, а все та же история. Что ты станешь делать?
– Можно вольных нанять, – сказал более благосклонным голосом смотритель.
– Вольных! – заревел Василий Иванович. – Знаю я этих архибестий. Иуды, канальи, по полтине с лошади за версту дерут. Три дня здесь проживу, а не найму вольных.
– Известное дело-с, – заметил смотритель, – дешево не свезут. Воля ихняя, впрочем, и кормы теперь дорогие.
– Мошенники! – сказал Василий Иванович.
– Намедни, – продолжал, улыбнувшись, смотритель, – один генерал сыграл с ними славную штуку. У меня, как нарочно, два фельдъегеря проехало, да почта, да проезжающие все такие знатные. Словом, ни одной лошади на конюшне. Вот вдруг вбегает ко мне денщик, высокий такой, с усищами… «Пожалуйте-де к генералу». Я только что успел застегнуть сюртук, выбежал в сени, слышу, генерал кричит: «Лошадей!» Беда такая. Нечего делать. Подошел к коляске. Извините, мол, ваше превосходительство, все лошади в разгоне. «Врешь ты, каналья! – закричал он. – Я тебя в солдаты отдам. Знаешь ли ты, с кем ты говоришь? А?» Разве ты не видишь, кто едет? А? Вижу, мол, выше превосходительство, рад бы, ей-богу, стараться, да чем же я виноват?.. Долго ли бедного человека погубить. Я туда, сюда… Нет лошадей… К счастью, тут Еремка косой, да Андрюха лысый – народ, знаете, такой азартный, им все нипочем – подошли себе к коляске и спрашивают: «Не прикажете ли вольных запрячь?» – «Что возьмете?» – спрашивает генерал. Андрюха-то и говорит: «Две беленьких, пятьдесят рублев на ассигнации», – а станция-то всего шестнадцать верст. «Ну, закладывайте! – закричал генерал, – да живее только, растакие-то канальи!» Обрадовались мои ямщики; лихая, знаешь, работа, по первому, вишь, запросу, духом впрягли коней, да и покатили на славу. Пыль столбом. А народ-то завидует: экое людям счастье!.. Вот-с поутру, как вернулись они на станцию, я и поздравляю их с деньгами. Вижу, что-то они почесываются. Какие деньги, – бает Андрюха. Вишь, генерал-то рассчитал их по пяти копеек за версту, да еще на водку ничего не дал. Каков проказник!..
– Ха-ха-ха! – заревел Василий Иванович. – Вот молодец! Вот люблю! Пора их, воров, проучить.
Иван Васильевич грустно занялся рассматриванием жилья станционного смотрителя.
На стенах комнаты, в особенности на печке, заметны еще кое-где сомнительные следы белой краски, стыдливо скрывавшейся под тройным слоем копоти и грязи. У дверей привешена белая расписанная кукушка с гирями и ходячим маятником. В левом углу киот с образами, а под ним длинная лавка около продолговатого стола. На стене расписание почтового начальства и несколько лубочных картин, изображающих нравственно-аллегорические предметы. Между окон красуются изображения Малек-Аделя на разъяренном коне, возвращение блудного сына, портрет графа Платова и жалостный лик Женевьевы Брабантской, немного загаженный мухами. Собственное отделение смотрителя находится на правой стороне. Тут сосредоточиваются все его наклонности и привычки. Подле кровати, покрытой заслуженной байкой, горделиво возвышается на трех ножках, без замков и ручек, лучшее украшение комнаты – комод настоящего красного дерева, покрытый пылью и разными безделками; но что за безделки? Тут и половина очков, и щипцы, и сальные огарки, и баночки без помады, и гребеночка, и стеклянный лебедь с духами и странной пробкой, и модные испачканные картинки, и бутылки с дрей-мадерой, и сигарочный ящик без сигар, и гвозди, и тавлинка, и счеты, и целое собрание разных головных уборов. Во-первых, зеленая фуражка, присвоенная казенному значению смотрителя; потом шляпа черная с белыми пятнами, которую смотритель надевает, когда он делается светским человеком и отправляется с визитом к целовальнику или к просвирне; потом шляпа белая с черными пятнами, которая придает ему особую обворожительность, когда он повесничает и волочится за сельскими красавицами; потом два истертые зимние картуза и, наконец, ермолка первобытно бархатная с висящей полукистьей. К комоду придвинута пирамидочка, украшенная тремя чубуками с перышками и кисетом, некогда вышитым по канве.
Иван Васильевич все осмотрел внимательно, и ему стало еще грустнее. О чем он думал – бог его знает.
Между тем комната наполнилась проезжающими. Вошел учитель тобольской гимназии с женой своей, хорошенькой англичанкой, на которой он только что женился и которую он вез на паре из Москвы в Тобольск. Вошел студент в шинели, перевязанный шарфом, с трубкой и собакой. Ввалился веселый майор, который, сбросив медвежью шубу, раскланялся со всеми поочередно, спросил у каждого, с кем он имеет честь говорить, откуда он, куда и зачем, острил над смотрителем, любезничал с ямщиком, просящим у порога на водку, и очень понравился Василию Ивановичу.
От смотрителя был всем один ответ: Лошади теперь в разгоне; как с станции вернутся, задержки от меня не будет.
Делать было нечего. Василий Иванович, как человек бывалый и распорядительный, не терял времени. Уж кипящий самовар бурлил в кругу стаканов и чайных орудий. По сделанному приглашению беседа столпилась около стола, лица оживились, одежды распахнулись, и чай – благовонный чай, отрада русского человека во всех случаях его жизни – начал переходить из рук в руки в чашках, блюдечках и стаканах. Знакомство мало-помалу устроилось. Бранили сперва дорогу, потом жаловались на недостаток в лошадях, потом перешли к посторонним предметам. Студент рассказывал о дупелях и заячьей травле; майор говорил уже всем «ты», сообщил всему обществу, что он выходит в отставку, что у него столько-то денег, что он хотел жениться, но что ему отказали, что он недоволен своею жизнью, словом, без всякого на то вопроса со стороны слушателей он поведал всю историю свою от колыбели до настоящей минуты, с примесью шуточек и прибауток. Василий Иванович смеялся и трепал майора по плечу, приговаривая: «военная косточка». Иван Васильевич расспрашивал тобольского учителя про Сибирь. Одна только англичанка молчала и выразительно поглядывала на мужа. Вдруг на дворе послышался шум. Чайное общество стало прислушиваться. Сперва подъехал к станции какой-то грузный экипаж; на дворе сделалась суматоха, послышался колокольчик, топот лошадей, и через несколько минут стук колес возвестил отъезд проезжающего.
– Что это такое? – спросил Василий Иванович у вошедшего смотрителя.
– Проехал-с тайный советник.
Все присутствующие взглянули друг на друга с грустным негодованием.
– Где же взяли лошадей?
– Вам, господа, – отвечал, пожимая плечами и несколько смутившись, смотритель, – угодно было чай кушать, а тайный советник, господа… тайный советник… ну, уж сами изволите знать.
V
Гостиница
Между Москвой и Владимиром, как известно опытным путешественникам, нет ни единой гостиницы, в которой можно было бы покойно оплакивать недостаток в лошадях. Одни только каморки смотрителей, ограждающих себя от побоев лестными правами 14-го класса, предлагают свои скамьи для грустных размышлений обманутого ожидания. Василий Иванович успел по нескольку раз в день вынимать погребец свой из тарантаса и упиваться чаем. Иван Васильевич успел вдоволь надуматься о судьбах России и наглядеться на красоту мужиков, которые, сказать правду, уже начали ему надоедать. В книгу записывать было нечего. Везде тот же досадный, прозаический припев: «Лошади все в разгоне». Иван Васильевич взглядывал на Василия Ивановича. Вaсилий Иванович взглядывал на Ивана Васильевича, оба садились дремать друг перед другом по нескольку часов сряду.
К тому же между двумя станциями с ними случилось поразительное несчастье. В минуту сладкого усыпления, когда, утомившись от толчков тарантаса об деревянную мостовую, Василий Иванович звучно отдыхал от житейской суеты, Иван Васильевич воображал себя в Итальянской опере, а Сенька качался, как маятник, на козлах, два чемодана и несколько коробов отрезаны от тарантаса искусными мошенниками. Горе Василия Ивановича было истинное. Между прочими вещами пропали чепчик и пунцовый тюрбан от мадам Лебур с Кузнецкого моста, а чепчик и тюрбан, как известно, были назначены для самой барыни, для Авдотьи Петровны.
Приехав на станцию, он бросился к смотрителю с жалобой и просьбой о помощи. Смотритель отвечал ему в утешение:
– Будьте совершенно спокойны: ваши вещи пропали. Это уж не в первый раз, вы тут в двенадцати верстах проезжали через деревню, которая тем известна: все шалуны живут.
– Какие шалуны? – спросил Иван Васильевич.
– Известно-с. На большой дороге шалят ночью. Коли заснете, как раз задний чемодан отрежут.
– Да это разбой!
– Нет, не разбой, а шалости.
– Хороши шалости! – уныло говорил Василий Иванович, отправляясь снова в путь. – А что скажет Авдотья Петровна?
– Хоть бы отдохнуть где-нибудь в порядочном трактире, – продолжал не менее плачевно Иван Васильевич, – меня так растрясло, что все кости так и ломит. Ведь мы уже третий день как выехали, Василий Иванович.
– Четвертый день.
– В самом деле?
– Да; зато, брат, на почтовых едем. Вольным мошенникам поживы от нас не было.
– Поскорее бы приехать нам во Владимир: Владимиром я могу прекрасно начать свои путевые впечатления. Владимир – древний город; в нем должно все дышать древней Русью. В нем-то отыскать, верно, всего лучше источник нашего народного православного быта. Я вам уже говорил, Василий Иванович, что я… и не я один, а нас много, мы хотим выпутаться из гнусного просвещения Запада и выдумать своебытное просвещение Востока.
– Это у вас в книге? – спросил Василий Иванович.
– Нет, в книге у меня еще ничего нет. Посудите сами: можно ли было что писать? Дорога, избы, смотрители – все это так неинтересно, так прозаически скучно. Право, записывать было нечего, даже если б и всю спину не ломало. Да вот мы доедем до Владимира…
– И пообедаем, – заметил Василий Иванович.
– Столица древней Руси.
– Порядочный трактир.
– Золотые ворота.
– Только дорого дерут.
– Ну, пошел же, кучер.
– Э, барин: видишь, как стараюсь. Вишь, дорогу как исковеркало. Ну, сивенькая… Ну, ну… вывези, матушка… Уважь господ… ну!., ну!..
Наконец вдали показался Владимир с куполами и колокольнями, верным признаком русского города.
Сердце Ивана Васильевича забилось. Василий Иванович улыбнулся.
– В гостиницу! – закричал он. Ямщик приосанился.
– Ну, сивенькая… теперь недалечко, эхма!
И ямщик ударил по чахлым клячам, которые по необъяснимому вдохновению, свойственному только русским почтовым лошадям, вдруг вздернули морды и понеслись, как вихрь. Тарантас прыгал по кочкам и рытвинам, подбрасывая улыбавшихся седоков. Ямщик, подобрав вожжи в левую руку и махая кнутом правой, покрикивал только, стоя на своем месте; казалось, что он весь забылся на быстром скаку и летел себе напропалую, не слушая ни Василия Ивановича, ни собственного опасения испортить лошадей. Такова уж езда русского народа.
Наконец показались ветряные мельницы, потянулись заборы, появились сперва избы, потом небольшие деревянные домики, потом каменные домы. Путники въехали во Владимир. Тарантас остановился у большого дома на главной улице.
– Гостиница, – сказал ямщик и бросил вожжи.
Бледный половой в запачканной белой рубашке и запачканном переднике встретил приезжих с разными поклонами и трактирными приветствиями и потом проводил их по грязной деревянной лестнице в большую комнату, тоже довольно нечистую, но с большими зеркалами в рамах красного дерева и с расписным потолком. Кругом стен стояли чинно стулья, и перед оборванным диваном возвышался стол, покрытый пожелтевшею скатертью.
– Что есть у вас? – спросил Иван Васильевич у полового.
– Все есть, – отвечал надменно половой.
– Постели есть?
– Никак нет-с.
Иван Васильевич нахмурился.
– А что есть обедать?
– Все есть.
– Как все?
– Щи-с, суп-с. Биштекс можно сделать. Да вот на столе записочка, – прибавил половой, гордо подавая серый лоскуток бумаги.
Иван Васильевич принялся читать:
Обет!
1. Суп. – Липотаж.
2. Говядина. – Телятина с циндроном.
3. Рыба – раки.
4. Соус – Патиша.
5. Жаркое. Курица с рысью.
6. Хлебенное. Желе сапельсинов.
– Ну, давай скорее! – закричал Василий Иванович. Тут половой принялся за разные распоряжения. Сперва снял он со стола скатерть, а на место ее принес другую, точно так же нечистую; потом он принес два прибора; потом принес он солонку; потом, через полчаса, когда проголодавшиеся путники уже брались за ложки, явился с графином с уксусом.
На все нетерпеливые требования Василия Ивановича отвечал он хладнокровно: «сейчас…», и сей час продолжался ровно полтора часа. Сейчас – великое слово на Руси. Наконец явилась вожделенная миска со щами. Василий Иванович открыл огромную пасть и начал упитываться. Иван Васильевич вытащил из тарелки разные несвойственные щам вещества, как-то: волосы, щепки и тому подобное, и принялся со вздохом за свой обед. Василий Иванович казался доволен и молча ел за троих.
Но Иван Васильевич, несмотря на свой голод, едва мог прикасаться к предлагаемым яствам.
На соус патиша и курицу с рысью взглянул он с истинным ужасом.
– Есть у вас вино? – спросил он у полового.
– Как не быть-с? Все вина есть: шампанское, полушампанское, дри-мадера, лафиты есть. Первейшие вина.
– Дай лафиту, – сказал Иван Васильевич.
Половой пропал на полчаса и наконец возвратился с бутылкой красного уксуса, который он торжественно поставил перед молодым человеком.
– Теперь, – сказал Василий Иванович, – пора на боковую. Сенька! – закричал он. Вошел Сенька.
– Ты обедал, Сенька?
– Похлебал, сударь, селянки.
– Ну, приготовь-ка мне спать. Расставь стулья да принеси перину мне, да подушки, да халат. Видишь, Иван Васильевич, что хорошо все с собой иметь. А ты как ляжешь?
– Да я попрошу, чтоб мне принесли сена, – сказал Иван Васильевич. – Сено есть у вас? – спросил он у полового.
– Никак нет-с.
– Ну достань, братец, я тебе дам на водку.
– Извольте-с, достать можно.
Началось приготовление походной спальни Василия Ивановича. Половина тарантаса перешла в трактирную комнату. Перина уложилась среди сдвинутых стульев.
Василий Иванович разоблачился до самой легкой одежды и тихо склонился на свое пуховое ложе.
Через несколько времени половой возвратился, задыхаясь, с целым возом сена, который он поверг в углу комнаты. Иван Васильевич начал грустно приготовляться к ночлегу. Сперва положил он бережно на окно девственную книгу путевых впечатлений вместе с часами и бумажником; потом растянул он свой макинтош на сено и бросился на него с отчаянием. О ужас! Под ним раздался писк, и из клочков сухой травы вдруг выпрыгнула разъяренная кошка, вероятно, заспавшаяся в сенном сарае. С сердитым фырканьем царапнула она раза два испуганного юношу, потом вдруг отскочила в сторону и, перепрыгнув через стулья и через Василия Ивановича, проскользнула в полуотворенную дверь.
– Батюшки светы!.. Что там такое? – кричал Василий Иванович.
– Я лег на кошку, – отвечал жалобно Иван Васильевич.
Василий Иванович засмеялся.
– Зато у тебя, брат, в кровати не будет мышей. Желаю покойной ночи.
Мышей точно не было, но появились животные другого рода, которые заставили наших путников с беспокойством ворочаться со стороны на сторону.
Оба молчали и старались заснуть.
В комнате было темно, и маятник стенных часов уныло стукал среди ночного безмолвия. Прошло полчаса.
– Василий Иванович!
– Что, батюшка?
– Вы спите?
– Нет, не спится что-то с дороги.
– Василий Иванович!
– Что, батюшка?
– Знаете ли, о чем я думаю?
– Нет, батюшка, не знаю.
– Я думаю, какая для меня в том польза, что здесь потолок исписан разными цветочками, персиками и амурами, а на стенах большие уродливые зеркала, в которых никогда никому глядеться не хотелось. Гостиница, кажется, для приезжающих, а о приезжающих никто не заботится. Не лучше ли бы, например, иметь просто чистую комнату без малейшей претензии на грязное щегольство, но где была бы теплая кровать с хорошим бельем и без тараканов; не лучше ли бы было иметь здоровый. чистый, хотя нехитрый русский стол, чем подавать соусы патиша, потчевать полушампанским и укладывать людей на сено, да еще с кошками?
– Правда ваша, – сказал Василий Иванович. – По-моему, хороший постоялый двор лучше всех этих трактиров на немецкий манер.
Иван Васильевич продолжал:
– Я говорил и вечно говорить буду одно: я ничего не ненавижу более полуобразованности. Все жалкие и грязные карикатуры несвойственного нам быта не только противны для меня, но даже отвратительны, как уродливая смесь мишуры с грязью.
– Эва! – заметил Василий Иванович.
– Гостиницы, – продолжал Иван Васильевич, – больше значат в народном быту, чем вы думаете: они выражают общие требования, общие привычки; они способствуют движению и взаимным сношениям различных сословий. Вот этому можно бы поучиться на Западе. Там сперва думают об удобстве, о чистоте, а украшение и потолки – последнее дело… Василий Иванович!
– Что, батюшка?
– Знаете ли, о чем я думаю?
– Нет, батюшка, не знаю.
– Я хотел бы устроить русскую гостиницу по своему вкусу.
– Что же, батюшка, за чем дело стало?
– Это так… предположение, Василий Иванович… но я уверен, что гостиница моя была бы хороша, потому что я старался бы соединить с первобытным характером русского жилья все потребности уюта и мелочной опрятности, без которых просвещенный человек теперь жить не может. Во-первых, все эти испитые, ободранные, пьяные половые – жалкое отродие дворовых, будут изгнаны без милосердия и заменятся услужливыми парнями на хорошем жалованье и под строгим надзором. Внутри комнат стены будут у меня дубовые, лакированные, с разными украшениями. На полу будут персидские ковры, а кругом стен мягкие диваны… Да, очень не худо, знаете, вот этак против кровати устроить большой восточный диван, – продолжал Иван Васильевич, переваливаясь с беспокойством на колючем сене. – Я очень люблю мягкие диваны. Вообще я думаю, что устройство комнат наших предков имело много сходства с устройством комнат на Востоке… Как вы об этом думаете?..
– Василий Иванович! Василий Иванович! А?.. Что?.. Как?.. Спит, – заключил с досадой Иван Васильевич, – ему хорошо на перине, а мне, пока моя гостиница не будет готова, все-таки должно проваляться всю ночь на сене!








