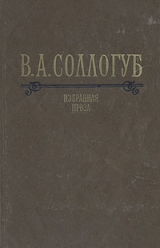
Текст книги "Избранная проза"
Автор книги: Владимир Соллогуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
VIII
Цыгане
Иван Васильевич сидел в уголке комнаты постоялого двора и грустно о чем-то размышлял. Книга путевых впечатлений лежала перед ним в неприкосновенной белизне.
«В самом деле, – думал он, – отчего в жизни ожидания наши, и желания, и надежды никогда не сбываются? Загадываешь одно, а выходит противное, и даже не противное, а что-то совершенно другое, неожиданное. В воображении все обрисовывается в ярких, приятных и резких красках, а на деле все сливается в какой-то мутный хаос скучной действительности. Вот, например, долго желал я погулять на Западе, подышать воздухом юга, поглядеть на мудрых людей нашего века, взглянуть поближе на европейское просвещение, на современную славу, на все, чем шумят и хвастают люди. И вот пошатался я по Европе, видел много трактиров, и пароходов, и железных дорог, осмотрел многие скучные коллекции и нигде не находил тех живых впечатлений, которых надеялся. В Германии удивила меня глупость ученых; в Италии страдал я от холода; во Франции опротивела мне безнравственность и нечистота. Везде нашел я подлую алчность к деньгам, грубое самодовольство, все признаки испорченности и смешные притязания на совершенство. И поневоле полюбил я тогда Россию и решился посвятить остаток дней на познание своей родины. И похвально бы, кажется, и нетрудно…
Только теперь вот вопрос: как ее узнаешь? Хватился я сперва за древности – древностей нет; думал изучить губернские общества – губернских обществ нет. Все они, как говорят, форменные. Столичная жизнь – жизнь не русская, а перенявшая у Европы и мелочное образование и крупные пороки. Где же искать Россию? Может быть, в простом народе, в простом вседневном быту русской жизни? Но вот я еду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и хоть что хочешь делай, ничего отметить и записать не могу. Окрестность мертвая; земли, земли, земли столько, что глаза устают смотреть; дорога скверная… по дороге идут обозы… мужики ругаются – вот и все… а там: то смотритель пьян, то тараканы по стене ползают, то щи сальными свечами пахнут… Ну можно ли порядочному человеку заниматься подобною дрянью?.. И всего безотраднее то, что на всем огромном пространстве господствует какое-то ужасное однообразие, которое утомляет до чрезвычайности и отдохнуть не дает… Нет ничего нового, ничего неожиданного. Все то же да то же… и завтра будет как нынче. Здесь станция, там опять та же станция, а там еще та же станция; здесь староста, который просит на водку, а там опять до бесконечности все старосты, которые просят на водку… Что же я стану писать? Теперь я понимаю Василия Ивановича: он в самом деле был прав, когда уверял, что мы не путешествуем и что в России путешествовать невозможно. Мы просто едем в Мордасы. Пропали мои впечатления!»
Тут Иван Васильевич остановился. В комнату вошел хозяин постоялого двора, красивый, высокий парень, обстриженный в кружок, с голубыми глазами, с русой бородкой, в гинем армяке, перетянутый красным кушаком. Иван Васильевич невольно им залюбовался, порадовался в душе красоте русского народа и немедленно вступил в любознательный разговор.
– Скажи-ка мне, приятель… здесь уездный город?
– Так точно-с.
– А что здесь любопытного?
– Да чему, батюшка, быть любопытному! Кажись, ничего нет.
– Древних строений нет?
– Никак нет-с… Да бишь… был точно деревянный острог, неча сказать, никуда не годился… Да и тот в прошедшем году сгорел.
– Давно, видно, был построен.
– Нет-с, не так давно, а лесом мошенник подрядчик надул совсем. Хорошо, что и сгорел, право-с.
Иван Васильевич взглянул на хозяина с отчаяньем.
– А много здесь живущих?
– Нашей братьи мещан довольно-с, а то служащие только.
– Городничий?
– Да-с, известное дело: городничий, судья, исправник и прочие – весь комплект.
– А как они время проводят?
– В присутствие ходят, пуншты пьют, картишками тешатся… Да бишь, – спохватился, улыбнувшись, хозяин, – теперь у нас за городом цыганский табор, так вот они повадились в табор таскаться. Словно московские баре али купецкие сынки. Такой кураж, что чудо! Судья на скрипке играет, Артамон Иванович, заседатель, отхватывает вприсядку; ну и хмельного-то тут не занимать стать… Гуляют себе, да и только. Эвтакая, знать, нация.
– Цыгане, цыгане! – воскликнул с радостью Иван Васильевич, вскочив со своего стула. – Цыгане, Василий Иванович, цыгане… Первая глава для моих впечатлений. Цыгане – народ дикий, необузданный, кочующий, которому душно в городе, который в лес хочет, в табор свой, в поле, в степь, на простор. Ему свобода первое благо, первая потребность. Свобода – вся жизнь его… Как они сюда попали?..
– Задержаны, батюшка, по приказанию начальства. Бают, будто секретарь просил с них по золотому с кибитки для пропуска. Видно, шататься не велено. Они, с дури, что ли, или точно денег у них не было, не дали; ну и сидят теперь голубчики, не прогневайся, шестой месяц никак под караулом.
Восторг Ивана Васильевича немножко утих. Однако он приготовил свою книгу и начал чинить карандаш.
В соседней комнате послышался тяжелый шорох, и улыбающийся лик Василия Ивановича показался в дверях.
– Цыгане, – сказал он, – га, га, цыганочки. Вишь какие проказники! Точно на ярмарке или в Москве… Цыган себе, изволите видеть, завели… Вот что!.. А есть ли хорошенькие? – прибавил он, прищуривая левый глаз и улыбаясь значительно.
– Всякие есть, – отвечал хозяин, – есть и хорошие. Стешка есть, такая лихая, чудо-баба, как выпьет… Стряпчий, что ни получит по месту, так к ней и несет. Совсем, говорят, издерживается. Ну, вот Матреша есть, исправничья, Наташка есть, голосистая и недотрога такая. Судья, бают, тысячи сулил. Не надо, – говорит, – мне ваших тысяч. Вот какая-с! А голос как у соловья. Нечего сказать, знатно поют… Ну, да если хотите, сами услышать можете. Они всего в полверсте отсюда… Коль вашим милостям угодно, я проводить могу.
Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича.
Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича.
– Пойдем, – сказал Василий Иванович.
– Пойдем, – сказал Иван Васильевич.
Они отправились.
Посреди дороги Иван Васильевич остановился.
– Однако, – сказал он, – надеюсь, мы никого из этих чиновников там не застанем?
– Никого, – отвечал проводник. – Теперь присутствие.
– Ну, так пойдем.
У самой опушки леса, около большого поля, цыганский табор рисовался в живописном беспорядке. Телеги с протянутыми к деревьям холстами в виде шатров, привязанные лошади, смуглые ребятишки на перинах, дымящиеся костры, безобразные старухи в оборванных мантиях, коричневые лица, всклокоченные волосы – все резко обозначалось в этой странной и дикой картине. Иван Васильевич был очень доволен, и хотя он и должен был зажать нос от цыганского запаха, однако заманчивость неожиданного приключения и надежда наконец начать книгу свою располагали дух его к самой приятной снисходительности.
Василий Иванович пыхтел и торопился.
– Эй вы, черномазые! – закричал проводник. – Вылезайте-ка, черти, живей! Вишь, господа к вам пожаловали.
Весь табор зашевелился. Старухи бегали между телегами и сзывали молодых. Молодые поспешно наряжались за холстами, ребятишки прыгали, мужчины низко кланялись и настраивали гитары. Живее, живее, бабы, господа дожидаются! – кричал атаман. И вот из-под навесов хлынула толпа цыганок, запачканных, растрепанных, в ситцевых грязных платьях, в оборванных розовых передниках.
Иван Васильевич остолбенел. Как, и у цыган водворились жалкие европейские моды! Как, и они не сумели удержать своей первобытной физиономии? Погибли Хитаны, Эсмеральды, Прециозы; Прециоза одета щеголихой Смоленского рынка; Эсмеральда в пегом газовом платье, украденном на Басманной. Но этого мало. Цыганки перемигнулись и вдруг с разными ужимками затянули в общем жалобном писке не кочевую цыганскую песнь, а русский водевильный романс. Где же тут своебытность и народность? Где найдешь их в Европе, когда и цыгане даже их утратили?
Книга путевых впечатлений выпала из рук Ивана Васильевича.
Зато Василий Иванович был в восхищении. Он шевелил плечами, притопывал ногой, даже подтягивал довольно хриплым голосом и утопал в удовольствии. Цыганки окружали его со всех сторон. Те, которые не пели, называли его красавцем, солнышком, гадали ему на ладони и сулили несметные богатства. Пьяная Стешка плясала, разводя руками. Матрена кричала, как будто ее режут, и вот все вдруг захлопали в ладоши и начали провозглашать многие лета Василию Ивановичу. И Василий Иванович улыбался и, забыв про Авдотью Петровну, сыпал двугривенными и четвертаками в жадную толпу.
– Вот так, вот так! – говорил он. – Лихо! Ну, теперь… Эй вы, уланы… или, знаешь, вот что: «Ты не поверишь, ты не поверишь». Хорошо!.. Ну-ка плясовую… Вот так! Хорошо! Славно!.. Молодцы!.. Лихо! Ну, потешили… Ай да спасибо!.. Иван Васильевич, а Иван Васильевич! что ты стоишь, как будто восемь в сюрах проиграл… Взгляни-ка направо… Видишь ли в красном платке? Как бишь ее, Наташа, что ли?.. Какова? А?..
Ивану Васильевичу сделалось сперва досадно, а потом грустно. Он взглянул на Наташу.
Наташа, несмотря на свой уродливый наряд, была точно хороша собой. Большие черные глаза сверкали как молния; смуглые черты были нежны и правильны, и белые, как сахар, зубы резко отделялись на малиновых устах.
Иван Васильевич вынул из галстуха золотую булавочку и подошел к красавице.
– Наташа, – сказал он, – ты родилась цыганкой, оставайся цыганкой, не носи глупых передников, не презирай своего народа, не пой русских романсов. Пой свои родные песни и в память обо мне возьми мою булавку.
Цыганка живо приколола булавку к платку, взглянула на молодого человека полувесело-полузадумчиво и сказала ему вполголоса:
– Я люблю наши песни, я стану носить твою булавку. Я тебя не забуду.
Иван Васильевич отошел в сторону, и, не знаю почему, ему стало еще грустнее. Так прошло несколько минут.
– А каково поют? – спросил за ним голос. Иван Васильевич обернулся. За ним стоял их проводник и лукаво на него поглядывал.
– Не правда ли, что хорошо поют? Барину никак нравится, – продолжал он, указывая на Василия Ивановича, умильно стоящего, среди цыганок, которые снова хлопали в ладоши, припевая многие лета Василию Ивановичу.
– Поют хорошо.
Ивану Васильевичу не хотелось ни говорить, ни оставаться. Он с трудом оттащил Василия Ивановича, который при диких восклицаниях насилу решился покинуть своих смуглых обольстительниц и в заключение бросил им с восторгом красную ассигнацию.
Наконец оба отправились молча к станционному двору.
– Недурно поют, – продолжал неугомонный проводник. – Жаль только, что бедняжки сидят под караулом. Ну да, впрочем, сидеть на чистом воздухе в лесу… не то что сидеть, как я, например, сидел, хоть бы сказать, в остроге…
IX
Перстень
– Ты сидел в остроге? – с любопытством спросил Иван Васильевич.
– Сидел, барин, неча греха таить, безвинно сидел.
– А за что?
Рослый детина провел рукой по русой бородке, поправил ус и улыбнулся. Голубые глаза его оживились огнем понятливости и веселья.
– За частниху, – сказал он.
– Как за частниху? – подхватил Василий Иванович, смеясь всем туловищем. – За жену частного пристава? Статочное ли это дело? Да ты, брат, я вижу, балагур. Потешь-ка, брат, расскажи, как это у вас было. Дай послушать твои проказы.
– Изволь, барин, расскажу, пожалуй… Изволишь ты видеть: у меня свой постоялый двор для проезжающих, и сарай есть, и сено держим. Милости просим кому угодно: самовар всегда готов, а настойка такая, я вам доложу, что только облизывайся. Это, знаешь, уж так, для угощения, по разнице продавать не велено… Ну, да кто богу не грешен, царю не виноват? Добрые люди, дай бог им здоровья, меня не забывают: так ко мне на двор и заворачивают. А внизу, изволишь ты видеть, барин, у меня лавка со всякой всячиной для крестьянского обихода. Тут и крупа всякая, и рукавицы, и кушаки, и хомуты, и бечевье, и чернослив – словом, что надо.
Года два, что ли, тому прислали нам из города нового частного. Собой такой маленький, круглый, словно бочка, не больно молодой, да и сказать-то надо правду, крепко испивал. «Что, – говорим мы, – ребята, ведь дрянного нам частного прислали. Ну а что же ты тут станешь делать? Даром, что дрянной, все-таки частный!» Делать нечего – пошли к нему на поклон; кто взял фунт чая, кто голову сахара, кто другого товара из лавки. Нельзя же и не поздравить с приездом. Вот пришли мы, купечество да мещанство, кто в мундирах, кто в новом платье, как водится, с хлебом с солью, и стоим себе у стенки. А частный-то павлином расхаживает себе в халате да только гостинцы подбирает. Как теперь помню, вот Федька Сидорин толкает меня в бок. «Смотри, – говорит, – в двери никак частниха выглядывает. О, да какая быстроглазая!» А отчего бы не посмотреть, в самом деле? Ну уж, частниха, сказать правду, маков цвет! Собой такая румяная, а глаза, что уголья, так и искрятся. Подстрекнул меня нелегкий, загляделся на красотку. Чай, она заметила, хлопнула дверью – и была такова.
Вот с того времени – греха таить нечего – нашла на (меня дурь несказанная: не сплю, не ем, свет постыл… Только и думаешь, как бы забраться к частному. Бежишь, бывало: «ваше благородие, соседние свиньи покоя не дают, прикажите хозяину держать их на привязи»; то, мол: «десятские, ваше благородие, дерутся и требуют, чтоб их водкой поили даром, говорят, что они люди казенные… Что прикажете с ними делать?» То, мол: «ваше благородие, в пожарном струменте колесо сломано, на какие суммы прикажете починить?» Мало ли что передумал. Да еще так приноровишь, когда знаешь, что частный лежит замертво. Стучишь себе, стучишь, Марья Петровна и выйдет в кацавеечке. «Кого вам угодно?» – «А что, его благородие дома-с?» – «Нездоров-с, голова болит, прилег маленько». – «Гм, дело известное… Ничего-с. Ужотка зайду. Доложите, что Иван Петров Фадеев приходил по своему делу».
Вот-с, недолго спустя Марья Петровна начала уже прогуливаться мимо моей лавки и заговаривать. «Что это, Иван Петров, как холодно нынче?» – «Видно, сударыня, морозило ночью». Или: «Каково торгуется, Иван Петров?» – «Ничего-с, изрядно, не можем жаловаться».
Наконец и самый частный начал ко мне похаживать в лавку. Придет, бывало, и отдувается. «Что это, братец, я озяб что-то? Нет ли водки, хоть бы согреться немного». – «Как не быть, ваше благородие! извольте кушать на здоровье». А водка точно знатная… Я ему рюмочку, другую, третью. Частный мой так нагреется, что еле до дома дойдет. Так по этакой-то-с оказии я и стал ему задушевным приятелем. Только и слышу, бывало: «Иван Петров, зайди закусить; Иван Петров, вечерком ко мне милости просим; пройдемся по пуншту». С утра до вечера все, бывало, зовет к себе. А мне то-то и надо. Частный за ворота… а я в дверь… словом…
Тут рассказчик улыбнулся и остановился опять.
– Словом… Ну да что тут много толковать! Прошел месяц, другой. Сижу я в своей лавке и торгую по обычаю. Вижу я, идет частный и отдувается. Я вскричал Сеньке: «Подай анисовой, частный идет». Вошел частный. «Здравствуйте, Иван Петров». – «Здравия желаю, ваше благородие». – «Что это, братец, я озяб что-то? Нет ли чем погреться?» – «Как не быть!» Вот я взял было рюмку и подношу ему с поклоном: прошу, мол, кушать на здоровье. А он как надуется вдруг весь красный, и глаза сделались у него словно оловянные ложки. Господи боже, что это с ним? Смотрит мне на руку и стоит как вкопанный. Я сам взглянул на руку… Ахти, грех какой, кольцо-то я забыл снять.
А надо тебе, барин, сказать, что частниха подарила мне колечко червонного золота с голубым цветочком и просила носить на память, только не показывать мужу.
Как только ушел он, я и смекнул, что дело-то плохо, да, давай бог ноги, задами, через заборы прямо к частнихе. «Беда, Марья Петровна, беда, возьмите ваш перстень».
Не успел я вернуться, а меня уже схватили трое десятских за шиворот, да и тащат в острог. «Помилуйте, я купеческий племянник, не смейте меня трогать». Ничуть не бывало, связали руки, да и посадили в острог, в темную, и наручники надели. Вор, дескать.
Не больно весело, барин, сидеть в остроге. Духота такая, что не вытерпишь. На руках железы. Хочешь руки поднять – нельзя. Хочешь лечь – негде. Хочешь есть – вода тебе да хлеб. Не приведи бог попасть в острог!
Вот разнеслась молва по городу, что Иван Петров Фадеев украл у частного перстень червонного золота. Меня, дай бог здоровья, добрые люди любили. Пошли просить городничего, чтоб он сам при себе сделал следствие. Городничий наш, добрый такой, служил в мушкетерском полку поручиком, сам отправился к частному и взял с собой секретаря правления и стряпчего. Да с горя частный так назюзился, что лыка не вязал. Послали за мною. Привели меня с инвалидами, как преступника. Стыдно было перед народом, а делать нечего.
«На тебя показывает частный пристав, – говорит мне городничий, – что ты украл у него в доме женино кольцо червонного золота с голубыми камешками».
«Я не крал никогда ничего, ваше высокоблагородие, – говорю я. – Была ли когда молва в народе, что Иван Петров Фадеев мошенник и вор?»
А частный так и мычит: «Вор, вор! Я вам говорю – вор. Еще вчера видел я у Марьи Петровны на правой руке это кольцо. Да извольте сами спросить». Частный позвал жену и привел ее к городничему. «Вот, говорит, хоть убейте… убей меня гром, еще вчера на этом пальце было… фу ты пропасть!.. Как же оно здесь опять очутилось?..»
«Какое кольцо? – спросила Марья Петровна. – У меня никакого кольца не крали. Вот сердоликовое, вот с супирчиком, вот золотое червонного золота с голубыми цветочками. Стыдно тебе, – говорит она мужу, – пить до того, что из ума выживаешь!»
Частный разинул рот, одурел совсем, а городничий, стряпчий и секретарь перемигнулись и смекнули дело. Да как прыснут разом, начнут, голубчики, хохотать… Животы себе надорвали…
Меня тут же и отпустили домой.
Так все и кончилось. Городничий сказал только: «А тебе, братец, урок. Не носить перстеньков да не ухаживать за барынями, а взять себе в дом хорошую хозяйку, которая смотрела бы у тебя за всем». – «Слушаю-с», – отвечал я, да и давай бог ноги домой, А радость-то какая! Сенька, Сидор, все соседи, все православные пировали у меня до утра. На другой день частный и частниха выехали из города, а я в первый мясоед взял себе жену у соседа Сидора, и вот третий год, – прибавил Фадеев, – живем себе… слава богу… нечего сказать… ладно.
X
Нечто о словесности
Путники едут по большой дороге. Дорога песчаная. Тарантас тянется шагом.
– Признаюсь, – сказал, зевая и потягиваясь, Василий Иванович, – скучненько немного, и виды по сторонам очень не замысловаты… Налево гладко… Направо гладко… Везде одно и то же. Хоть бы придумать чем-нибудь позаняться.
– Чтением, например, – сказал Иван Васильевич.
– Пожалуй, хоть бы и чтением. Я очень люблю иногда, как делать нечего, книжечки читать. Очень, иногда, забавные истории пишут. Да кстати, коли смею спросить, вы, может быть, сами сочиняете?
– Нет-с.
– И хорошо, брат, делаешь. Дворянину неприлично идти в писаки. И потом, – прибавил, вздохнув значительно, Василий Иванович, – не всякому дан talent…т.
– Для нынешней словесности не нужно таланта, – сказал Иван Васильевич.
– Не всякому дано дарование.
– Не нужно дарования!
Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича.
Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича.
– Да, – продолжал Иван Васильевич, – теперь не нужно дарованья – нужна одна смышленость. Теперь словесность – ремесло, как ремесло сапожника или токаря. Писатели не что иное, как литературных дел мастера, и скоро поделают они себе вывески, как в кондитерских и булочных.
– Ну уж, позволь, – прервал Василий Иванович, – это ты уж просто, кажется, аллегорию говоришь.
– Нет, я говорю правду. Неужели вы не знаете, какие жалкие и мелкие расчеты скрываются под громкими названиями? Вы еще верите, когда вам говорят, что словесность – выражение народного духа и бытия; вы веруете в высокое ее призвание научать людей, исправлять пороки и направлять душу к чистым наслаждениям. Все ведь это вздор. Словесность есть один из тысячи способов добывать себе деньги, и все прекрасные чувства, все глубокие мысли, которыми наполнены теперь книги, можно исчислить на ассигнации и серебро. Уничтожьте продажу книг – и словесность исчезнет. В наше продажное время поэзия разлагается на акции и восторг берется на откуп. Скоро заведут сочинительские фабрики, и готовые мысли и чувства будут продаваться по таксе, смотря по достоинству, как продаются теперь у портных фраки и панталоны.
– В прошедшем году, – заметил Василий Иванович, – я купил себе на Кузнецком мосту фланелевый сюртук. Как бы вы думали? Никуда не годился: француз-мошенник обманул.
– Так обманывают вас те, которых вы читаете с удовольствием, как добрый и честный человек. Вы с доверчивостью покупаете кафтан, а кафтан ваш сшит из тряпок, и то на живую нитку. Теперешние портные, или литераторы, славно себе набили руку для выкройки. У них все в дело идет: и политика, и религия, и нравственность, и юридические вопросы, и философские задачи, а паче всего любовные похождения всех возможных родов. Взгляните на современную европейскую литературу; взгляните в балаганные кулисы: вам, право, станет тошно. Перед вами все нарумянено, раскрашено, фальшиво; всюду мишура и фольга, всюду жадное стремление обобрать публику. Но публика не поддается, а проходит себе своим путем перед словесностью, как перед нищим, и лишь изредка бросает ей залежалую гривну. В самом деле, Европа до того стара и опытна, что уж не может более играть добросовестно в литературу. В Европе чистые чувства задушены пороками и расчетом. В ней нет более тех девственных призывов, которые необходимы для излияния девственных и неподдельных впечатлений. Кое-где встретятся еще, может быть, несколько людей, одушевленных благородным огнем, но они не воскресят погибшего: из лохмотьев не сделать им порфиры. Вот почему в стране, еще во многом девственной, в стране, еще не утратившей вполне святыни своей – первобытной народности, в стране могучей и доблестной, как Россия, должны быть свои родники, чистые, светлые, не смешанные с грязью испорченных народностей.
– Так-с, – сказал Василий Иванович, который слушал довольно небрежно и ничего не понимал. – Вы любите нашу русскую литературу?
– Сохрани меня бог! – с живостью прервал его товарищ. – Я не говорил такой глупости. И к тому же, о какой литературе вы говорите? Их две у нас.
– Какие две?
– Да! Одна даровитая, но усталая, которая показывается в люди редко, смиренно, иногда с улыбкой на лице, а всего чаще с тяжкою грустью на сердце; другая наша литература, напротив, кричит на всех перекрестках, чтоб только ее приняли за настоящую русскую литературу и не узнали про настоящую. Эта литература приводит мне всегда на память крикливых сидельцев Апраксина двора, которые чуть не хватают прохожих за горло, чтоб сбыть им свой гнилой товар. Признаюсь, я не видал ничего смешнее, удивительнее, уродливее и отвратительнее этой подложной литературы.
– Отчего это?
– Оттого, что в самом деле литературы тут нет, а одно только название. Оттого, что наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются от ее прикосновения, опасаясь быть замешанными в ее странную деятельность; оттого, что она, теперь в особенности, не что иное, как жалкий нарост на народной почве; оттого, что у нее нет ни цели, ни смысла. Впрочем, если хотите, у нас есть многое множество таких литератур: несколько петербургских, несколько московских, несколько губернских, и в каждой литературе есть несколько партий, которые в муравьиных кучках двигаются, и хлопочут, и суетятся, как лилипуты Юлливера. Ревностные члены разрозненного тела, они угощают святую Русь стишками на манер Ламартина, драмами на фасон Шиллера, повестями – жалкими пародиями заграничных и без того карикатурных повестей и, наконец, той чудовищной неблагопристойностию, которую называют, с позволенья сказать, журнальной критикой… Но все это, слава богу, не русское. Русский никогда не узнает своего родного гения в жалком фигляре, который коверкается, и пляшет перед ним в лохмотьях, и, поверьте, на толкучем рынке собирателей чужого ума русский человек не отзовется ни на один голос, ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо; ему давай родные звуки, родные картины, чтоб забилось сердце его, чтоб засветлело в его душе. Ему говори языком его о любимых его поверьях, о мудрых и простых обычаях его края, о живых его потребностях… Но – увы! поверья наши и обычаи исчезают. Все, что живет еще в памяти народной, все, что могло бы быть основой словесности народной, теряется с каждым днем с переменой наших нравов. Русский гений издыхает, задыхаясь от всего, что на него накидали. Бедный ребенок, он хотел только подрасти да приосаниться, чтоб молвить слово твердое по-своему, чтоб гаркнуть на всю вселенную по-нашему, по-нашенски, во всю богатырскую грудь; а мы на него навьючили французский парик да немецкий кафтан, да опутали его в ободранные ткани театрального гардероба – и не видим мы, не хотим видеть, что бедный мальчик чахнет и плачет неутешно. Но что делать? – спросите вы. Отвечать не трудно. Освободить ребенка, бросить в печку театральный хлам и обратиться снова к естественным, к родным началам. Просвещение отдалило нас от народа; через просвещение обратимся снова к нему. Кто знает: быть может, в простой избе таится зародыш будущего нашего величия, потому что еще в одной избе, и то где-нибудь в захолустье, хранится наша первоначальная, нетронутая народность.
Люди совестливые! Не ищите родных вдохновений в петербургских залах, где танцуют и говорят по-французски. Поверьте, вы найдете их скорее в бедной хате, заваленной снегом, на теплой лежанке, где слепой старик поведает вам нараспев чудные предания, полные огня и душевной молодости. Спешите вслушиваться в рассказы старика, потому что завтра старик умрет с своими напевами на устах и никто, никто не повторит их более за ним.
Многое уже погибло таким образом невозвратно. Многое пропадает с каждым днем. Старина наша исчезает и уносит народность с собой. А что же получаем мы взамен? Не свежую пищу, не румяные плоды, а душевную ветошь, тлеющую падаль. Скажите же, не лучше ли нам бросить в окно литературную дрянь и приняться с терпением подбирать все наше первобытное, слово к слову, где бы оно ни было, не брезгая, как модная графиня, простотою крестьянской, а дорожа, как русский, всем, что остается в нас русского. Познанием старины нашей дойдем мы до познания нашего языка, нашего народного духа, нашего народного требования.
И тогда будет у нас словесность своебытная, выражение не переимчивой, вялой бездарности, а полезного, трудолюбивого успеха, предмет народной гордости, народного наслаждения, народного усовершенствования… Я немного разгорячился, – продолжал Иван Васильевич, – но не прав ли я?.. Признайтесь, вы, кажется, размышляете?..
Василий Иванович не отвечал ни слова. Красноречивая выходка Ивана Васильевича, как вообще все, что касалось до русской литературы, произвела на него обычное свое действие: он спал сном праведного.








