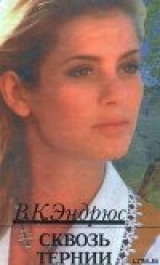
Текст книги "Сквозь тернии"
Автор книги: Вирджиния Эндрюс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Когда отец поднял голову, я увидел на нем незнакомые мне прежде глубокие морщины, морщины горя и усталости.
– Никогда, будучи в добром здравии и уме, я не смогу назвать вас снова Матерью, – глухо сказал он. – Если вы помогли поселиться здесь нам с Кэти, благодарю вас. Но завтра же на нашем доме будет вывешена табличка «Продается», и мы уедем отсюда навсегда, если только вы не уедете прежде. Я не позволю вам отвращать моих сыновей от их родителей.
– Их родительницы, – поправила она его.
– От их единственных родителей, – еще раз под-, черкнул он. – Мне надо было предусмотреть, что вы найдете нас. Я позвонил вашему врачу, и он ответил, что вас, отпустили, но куда вы уехали и когда, он отказался сказать.
– Но куда еще мне деваться? – жалобно вскрикнула она, ломая свои унизанные кольцами пальцы.
Я бы мог поклясться, что она любит его – об этом говорил каждый ее взгляд, каждое слово.
– Кристофер, – плача, умоляла она, – у меня нет друзей, нет семьи, даже дома; мне некуда поехать, кроме, как к тебе и твоей семье. Все, что мне осталось в жизни – это ты, Кэти и ее сыновья – мои внуки. Ты хочешь отнять у меня и это? Каждую ночь я на коленях молюсь, чтобы вы с Кэти простили меня, взяли меня к себе и любили, как когда-то ты любил меня.
Казалось, он сделан из нечеловеческого материала, так он был неумолим, а я вот-вот готов был заплакать.
– Сын мой, мой возлюбленный сын, возьми меня к себе, скажи, что ты любишь меня вновь. Но если ты не можешь этого, тогда позволь хотя бы мне остаться здесь и хоть изредка видеть моих внуков.
Она ждала его ответа. Он отказал ей молча. Тогда она продолжала:
– Я надеюсь, ты снизойдешь к моим мольбам, если я пообещаю никогда не показываться ей на глаза, поклянусь, что она не узнает, кто я такая. Ведь я видела ее, слышала ее голос; я пряталась за стеной и слушала ваши голоса. Мое сердце готово было разорваться, мне до боли хотелось обнять вас, быть с вами. Слезы душат меня, мне хочется закричать о том, как я виновата перед вами и как раскаиваюсь! Я так раскаиваюсь!
Он продолжал отчужденно молчать; взгляд его был холоден, как у профессионального медика перед больным.
– Кристофер, я с радостью бы отдала десять лет оставшейся мне жизни, если бы смогла исправить то зло, что причинила вам! Я отдала бы еще десять лет просто за то, чтобы быть в вашем доме и лелеять моих внуков!
Слезы стояли не только в ее глазах, но и в моих. Сердце мое разрывалось от жалости к ней, хотя из ее слов я понял, что мама с папой ненавидели ее не напрасно.
– Ах, Кристофер, неужели ты не понимаешь, что значат эти черные лохмотья? Я потеряла свое лицо, свою фигуру, я скрываю свои волосы, только чтобы она не узнала меня! Но все это время я молюсь и продолжаю надеяться, что когда-нибудь вы оба простите меня и примете меня в семью! Пожалуйста, умоляю, примите меня, как свою мать! Если ты снизойдешь ко мне, то и она когда-нибудь!
Как он мог спокойно слушать эти душераздирающие мольбы? Как можно было не почувствовать жалости к ней? Я и то плакал.
– Кэти никогда не простит вас, – бесцветным голосом ответил папа.
Мне стало странно, когда она радостно вскрикнула:
– Значит, ты меня прощаешь?! Пожалуйста, скажи мне это!
Я весь дрожал от ожидания: что он ответит?
– Мама, как я могу сказать, что прощаю вас? Значит, я предам Кэти, а я никогда не сделаю этого. Мы всю жизнь вместе, вместе нам и умирать, а если мы не правы, то и быть неправыми нам вместе. А вам судьбой суждено быть виноватой и поэтому – одинокой. Ничто не может извинить смерть; оживить вновь нельзя.
Каждый день, что вы проживете по соседству, нанесет еще больший урон будущности Барта. Вы знаете, что он уже угрожает нашей приемной дочери Синди?
– Нет! – вскрикнула она, так потрясая головой, что ее вуаль упала с лица. – Барт не сделает ничего дурного.
– Вы так уверены? Но он отрезал ребенку волосы ножом, понимаете это вы, миссис Уинслоу? И матери своей он тоже угрожает.
– Нет! – еще более страстно закричала она. – Барт любит ее! Я занимаюсь воспитанием Барта, потому что ему недостает внимания родителей; вы оба слишком заняты своей профессиональной жизнью, вы не видите, как он страдает. А я отвечаю на его любовь. Я стараюсь восполнить ему недостаток материнской любви и ласки. Я сделаю все, чтобы он был счастлив. И, если он счастлив от моей ласки и моих подарков, то какой вред я могу причинить ребенку? Кроме того, известно, что если у ребенка есть все сладости, которые он пожелает, то рано или поздно они ему надоедают. Когда-то я сама была в этом возрасте, любила мороженое, пирожные, пирожки, конфеты… а сейчас я могу и вовсе обходиться без них.
Папа встал и дал знак мне. Я встал около него, а он с жалостью смотрел на свою мать.
– Как поздно, – произнес он, – как непоправимо поздно вы осознали свою вину и стараетесь ее исправить. Когда-то одно слово из всех, сказанных вами теперь, могло растопить мое сердце. А теперь уже то, что вы настаиваете на том, чтобы остаться здесь, доказывает, как мало вы печетесь о благополучии нашей семьи.
– Ну, пожалуйста, Кристофер, – вновь взмолилась она, – у меня больше никого нет, и некому будет заплакать надо мной, когда я умру. Не отказывай мне в любви, ведь это убьет в тебе самом твою лучшую сторону. Ты всегда был иной, чем Кэти. В тебе всегда было сострадание – найди его теперь. Оживи в себе свои лучшие качества, сделай так, чтобы и Кэти через тебя смогла найти в себе любовь! – она разрыдалась и вконец ослабла. – Или пусть не любовь, а хотя бы прощение. Помоги ей простить меня; я признаю теперь, что была плохой матерью!
Казалось, теперь и папа растрогался, но ненадолго.
– Я обязан прежде всего думать о благополучии Барта. Он очень нестоек и раним. Ваши рассказы так подействовали на него, что у него начались ночные кошмары! Оставьте его в покое. Оставьте в покое нас. Уезжайте, или не появляйтесь, мы более не принадлежим вам. Когда-то у вас были все шансы доказать, что вы любите нас. Даже тогда, когда мы убежали, вы могли бы внять доводам суда и побеспокоиться о нашем будущем, но вы предпочли вычеркнуть нас из своей жизни.
Так мы вычеркиваем вас из своей жизни! Живите с богатством, которому вы пожертвовали своими детьми. А мы с Кэти заработали право на свою жизнь тяжкими испытаниями.
Я был вовсе ошеломлен: о чем это он? Что могла такого сделать мать против своих двух сыновей, и что общего имела с ними, Кристофером и Полом, моя мать в их далекой юности?
Она встала во весь рост, высокая, прямая. Затем медленно-медленно она открыла свое лицо и повернулась к нам. Я обомлел. Мне показалось, что обомлел и отец: я никогда еще не видел лицо, которое было бы так красиво и безобразно в одно и то же время. Ее морщины были столь глубоки, будто их процарапали когтями. Щеки ее ввалились. А красивые светлые волосы тронулись сединой. Когда-то мне безумно хотелось посмотреть на ее лицо, теперь я желал бы никогда его не видеть.
Папа опустил взгляд.
– Я хотела бы, чтобы ты знал, что я делаю, чтобы искупить свою вину. Я выгляжу так, что больше уже не походить на Кэти. Видишь это кресло? – Она указала рукой на деревянное кресло, на котором сидела. Остальные стулья в комнате были мягкие, с мягкими подлокотниками. – У меня стоит по одному такому креслу в каждой комнате. Я сижу только в них, чтобы наказать себя. Я каждый день одеваюсь в одно и то же черное платье. На всех стенах у меня висят зеркала, чтобы каждый день видеть, какая старая и безобразная я стала. Я делаю все это, чтобы искупить свои грехи перед детьми. Ненавижу эту вуаль, но ношу ее. Она мешает мне видеть, но я заслужила это наказание и терплю. Я убиваю свою плоть и кровь, я убиваю себя, продолжая надеяться, что придет час, когда вы с Кэти поймете, как я страдаю, как раскаиваюсь: тогда вы простите меня и вернетесь ко мне, мы снова будем жить одной семьей. А когда это время настанет, я смогу спокойно сойти в могилу. Тогда мы с твоим отцом вновь встретимся, на том свете, он не станет судить меня так сурово.
– Я прощаю вас! – не соображая ничего от жалости, закричал я. – Я прощаю вам все, что вы совершили! Мне жаль, что вы все время в черном и с вуалью на лице! Я обернулся к отцу и схватил его руку:
– Папа, скажи быстрее, что ты прощаешь ее! Не заставляй ее так страдать! Ведь она – твоя мать. Я бы простил свою мать, что бы она ни сделала.
Он заговорил так, будто и не слышал меня:
– Вы всегда добивались от нас всего, чего хотели. – Я никогда не слышал в его голосе таких жестоких нот. – Но я больше уже не мальчик. Теперь я знаю, как противостоять вашему лицемерию, потому что рядом со мною женщина, которая поддерживала меня во всех трудностях. Она научила меня не быть легковерным. Вы хотите заставить Барта подчиняться себе. Но он – наш. Мы его не отдадим. Я думал прежде, что Кэти была страшно неправа, когда она выкрала у вас Барта Уин-слоу. Но теперь я понял – она поступила правильно. Теперь зато у нас два сына, а не один.
– Кристофер, – закричала в отчаянии, ухватившись за последнее, миссис Уинслоу, – ты ведь не захочешь, чтобы мир узнал позорную правду, ведь так?
– Позорную правду и о вас также, – холодно ответил он. – Если вы опозорите нас, вы опозорите и себя одновременно. И помните: мы были всего лишь детьми. На чьей стороне, как вы думаете, будет суд и общественное мнение: на нашей или на вашей?
– Остановитесь для вашего же блага! – прокричала она, когда мы с отцом выходили из зала, причем отец уводил меня почти силой, я все время оглядывался, мучимый жалостью к ней. – Верни мне свою любовь, Кристофер! Дай мне искупить свою вину!
Папа резко обернулся, кровь бросилась ему в лицо.
– Я не смогу простить вас! Вы до сих пор думаете лишь о себе! Мы – чужие люди, миссис Уинслоу. Я бы с радостью забыл вас.
Ах, папа, думал я в это время, ты ведь будешь жалеть потом об этом. Пожалуйста, прости ее.
– Кристофер, – еще раз сказала она вслед; голос ее был тонок и слаб. – Если вы с Кэти снова полюбите меня, я буду помогать вам. Я обеспечу ваше существование. Я могу много сделать.
– Что, деньги? – со скорбной усмешкой произнес он. – Вы собираетесь откупиться от нас? У нас достаточно денег. У нас счастливая семья. Мы прошли через ад и выжили, сумели сохранить любовь, но мы никого не убивали для того, чтобы достичь всего того, что имеем.
Не убивали? А она – убивала?
Папа решительно направился к дверям и потянул меня за собой. По дороге я сказал ему:
– Пап, мне кажется, что все это время там прятался Барт. Он подслушивал и подглядывал. Я уверен, что он был там.
– Хорошо, – сказал отец усталым голосом. – Если ты так считаешь, иди и найди там его.
– Папа, почему ты не простишь ее? Я думаю, она искренне раскаивается в том, что сделала против тебя, и потом, что бы это ни было, она – твоя мать.
Я даже улыбнулся ему, так мне хотелось верить, что он передумает и пойдет со мною обратно, чтобы простить ее. Разве не здорово будет, если обе мои бабушки соберутся здесь на Рождество?
Он молча покачал головой, продолжая идти вперед, а я отстал, собираясь повернуть обратно. Внезапно он обернулся и позвал:
– Джори! Обещай ничего не говорить об этом маме.
Я пообещал, но в душе у меня поселились скорбь и беспокойство. Мне бы хотелось никогда не знать того, о чем я узнал неожиданно в тот вечер.
К тому же я не понимал, всю ли историю об отношениях папы с его матерью я услышал или только часть, а основная – и страшная – тайна еще скрыта от меня.
Мне бы хотелось спросить его, за что он так ненавидит ее, но отчего-то я понимал, что он мне не скажет.
Интуиция подсказывала мне, что лучше мне не знать всей правды.
– Если Барт и вправду там, приведи его домой и заставь лечь спать, Джори. Но Бога ради, умоляю, не говори ничего маме об этой женщине. Я позабочусь обо всем сам. Она скоро уедет, и мы будем жить так, как раньше.
Я поверил, потому что хотел поверить, что все пойдет по-прежнему, что все будет хорошо. Но в глубине души я носил печальную память об этой женщине. Конечно, папа был мне более дорог, чем она, но я не смог удержаться от вопроса:
– Папа, отчего ты так ненавидишь ее? Что она сделала? А если ты ее ненавидишь, то почему тогда ты раньше настаивал, чтобы мы навестили ее, а мама не хотела.
Папа долго смотрел куда-то вдаль, а потом, будто издалека, до меня дошел его голос:
– Джори, к сожалению, ты скоро сам узнаешь правду. Дай мне время, чтобы найти нужные и точные слова для объяснения всего, что случилось. Но поверь: мама и я всегда намеревались рассказать тебе правду. Мы ждали, когда ты и Барт достаточно подрастете, чтобы суметь понять, как можно одновременно и любить свою мать, и ненавидеть. Это грустно, но многие дети испытывают такие двойственные чувства к своим родителям.
Я обнял его, хотя это считалось «не по-мужски». Я любил его, но если это опять «не по-мужски», то тогда что остается мужчине?
– Не волнуйся за Барта, папа. Я приведу его домой сейчас же.
Мне удалось проскользнуть в еще не закрытые ворота как раз вовремя. Они клацнули за моей спиной. Наступила такая тишина, что, казалось, на земле все вымерло.
Я быстро спрятался за деревом. Навстречу мне вышли рука об руку Джон Эмос Джэксон и Барт. Старик провожал Барта.
– Теперь тебе ясно, что делать?
– Да, сэр, – проговорил, будто в ступоре, Барт.
– Тебе понятно, что произойдет, если ты поступишь по-другому?
– Да, сэр. Всем тогда придется плохо, и мне тоже.
– Да, плохо, плохо так, что ты пожалееш-ш-шь.
– Плохо так, что я пожалею, – тупо повторил Барт.
– Человек рожден в грехе…
– Человек рожден в грехе…
– …и рожденный в грехе…
– и рожденный в грехе…
– …должен страдать.
– А как они должны страдать?
– По-разному, всю жизнь, а смертью их грехи искупятся.
Я застыл на месте, скрученный суеверным страхом. Что делает этот человек? Зачем ему Барт?
Они прошли мимо меня, и я увидел, как Барт растворился в темноте. Пошел домой. Джон Эмос Джэксон прошаркал в дом, запер дверь. Вскоре все огни погасли.
Внезапно я вспомнил: я не слышу лая Эппла. Разве такая старая сторожевая собака, как Эппл, допустит, чтобы незнакомец ходил ночью по участку?
Я прокрался к сараю и позвал Эппла по имени. Но никто не бросился ко мне, чтобы лизнуть в лицо, и никто не завилял радостно хвостом. Я снова позвал, уже громче. Я знал, что на двери висит керосиновая лампа. Я зажег ее и вошел в стойло, где был с некоторых пор дом Эппла.
От того, что я увидел, прервалось дыхание. Нет, нет, нет!
Кто мог сделать это? Кто мог проткнуть вилами верную собаку, прекрасного лохматого друга?
Кровь, покрывавшая его густую шерсть, высохла и стала черной. Я выбежал и что есть духу пустился домой. Час спустя мы с папой вырыли могилу для огромного пса. Мы оба понимали, что «они» смогут навсегда отнять у нас Барта, если эта история выйдет наружу.
– Но Барт не мог сделать этого, – проговорил папа, когда мы были уже дома. – Нет, я не верю. Я уже мог поверить во все.
Рядом с нами живет старая женщина. Она всегда одета в черное и носит черную вуаль. Она – дважды свекровь мамы и вдвойне ненавидима.
Все, что оставалось мне – теряться в бесконечных догадках: что такого она сделала моим маме и папе? Отец так и не нашел слов, чтобы мне это объяснить.
Поэтому я решил, что она и моя бабушка тоже, ведь я так любил Криса, он был мне и в самом деле отец.
Но на самом деле она бабушка Барта, вот почему она так ласкала, так заманивала именно его, а не меня. Я же принадлежал мадам Марише, так же законно, как Барт – ей. Они любили друг друга по закону крови. Я даже позавидовал Барту: я был всего лишь приемный внук для этой таинственной женщины, которая наложила на себя такое жестокое искупление своих ошибок. Мне показалось, что я должен больше заботиться о воспитании Барта: защищать его, руководить им, не давать ему заблуждаться.
Мне захотелось взглянуть на Барта сейчас же. Он лежал в кровати, свернувшись калачиком, и сосал во сне большой палец. Он казался совсем ребенком. Я подумал, что он всю свою маленькую жизнь был как бы в моей тени. Ему всегда ставили в пример меня, достигшего таких успехов, о которых он в те же годы и помышлять не мог, он всегда запаздывал, не успевая за моим темпом, не имея таких же целей. Он даже позднее пошел, позднее заговорил в младенческом возрасте, и не улыбался до года. Выходило, будто бы он с рождения знал, что ему предназначено быть «номером два» в нашей семье, и никогда «номером один». А теперь, с появлением бабушки, он нашел человека, для которого он – главный, в нем смысл жизни. Я порадовался за Барта. Даже теперь, не видя под вуалью ее лица и под черным платьем ее фигуры, я знал, что когда-то она была очень красива. Гораздо красивее моей бабушки Мариши, которая вряд ли могла сравниться с ней даже в юности.
Но… темные места в этой истории не давали мне покоя.
Когда и почему появился Джон Эмос Джэксон? Почему любящая мать и бабушка, которая решила порвать с прошлым, воссоединиться с детьми и внуками, притащила сюда этого злобного, темного человека?
ПОЧИТАЙ МАТЬ СВОЮ
Конечно, он даже не оглянулся, чтобы удостовериться, сплю ли я на самом деле. Я лежал в той маленьком кровати, которая всегда была моя, и они нисколько не сомневались, что мне в ней удобно. Я увидел, как папа одетый вышел из дому. Отчего-то я догадался, что он идет к бабушке. Пусть бы у него ничего не вышло, и тогда бабушка будет, как прежде, моя. Только моя.
Эппл. Эппл ушел туда, где теперь прочие щенки и пони,
– Они пасутся на райских пастбищах, – говорил в таких случаях Джон Эмос со странным блеском в его водянистых глазах.
Он смотрел на меня так подозрительно, будто подозревал, что это я проткнул вилами Эппла.
– Ты и правда видел его мертвым? Эппл умер?
– Неподвижен, как чурбан. Правда умер.
Я крался по извилистым тропинкам, которые, казалось мне, ведут меня прямо к воротам ада. Вниз, вниз, вниз, через пещеры, каньоны и ямы, и рано или поздно придешь к этим вратам. Они красные. Ворота в ад должны быть красные или черные, в крайнем случае.
Черные ворота. Черные ворота бесшумно и широко открылись, пропуская папу. Да, она хотела, чтобы он пришел. Заботливый сын. Упек свою мать в сумасшедший дом, а следом за ней отправит меня в одно такое веселенькое заведение, где тебя связывают и надевают смирительные рубашки (интересно, как они выглядят?). Во всяком случае, все это ужасно.
Ворота захлопнулись, слегка клацнув петлями. Мама, наверное, в своей комнате, перепечатывает свою книгу, как будто она и в самом деле заменит ей танцы. Она как ни в чем не бывало сидела в своей инвалидной коляске и была поглощена книгой, когда Джори заиграл ту самую балетную музыку. Потом она подняла голову, стала глядеть куда-то в пространство, затем ноги ее задвигались, отбивая такт.
– Что такое хитросплетения, мама? – спросил я, когда однажды она заметила, что у Джори дар разбираться во всех хитросплетениях танца.
– Сложности, – ответила она сразу, как будто носила при себе словарь.
Словари всегда окружали ее: маленькие, большие, средние, и один толстенный словарь, который даже стоял на особой вертящейся подставке.
С тех пор я учил свои ноги разбираться в хитросплетениях. Вот и сейчас я незаметно проскользнул за спиной папы, который никогда не имел привычки оглядываться. Я всегда оглядывался, внимательно вглядываясь в обстановку, то направо, то налево, через плечо, всегда выслеживая, вынюхивая.
Проклятый шнурок! Я упал, зацепившись за него. В который уже раз! Если даже папа и услышал мой слабый вскрик, то он все равно не оглянулся. А ведь секретные дела надо делать тайно, как делали шпионы. Или воры, охотники за драгоценностями. У богатых леди всегда много драгоценностей. Надо бы попрактиковаться, пока она рассусоливает там со своим сыночком, таким уважаемым доктором, все плачет и умоляет простить ее, сжалиться, полюбить снова и взять к себе. Как это все противно. Я никогда не любил папу особенно, но теперь я вспомнил, как я к нему относился еще до того, как он спас мою ногу от «ампутации». Ага, папочка собирается отнять у меня единственную родную бабушку! У кого из мальчишек еще есть такая богатая бабушка, что, только заикнись, она тебе все отдаст?
– Куда это ты идешь, Барт? – Джон Эмос возник из ничего, блестя в темноте глазами.
– Не твое поганое дело! – сказал я так, как сделал бы Малькольм.
Дневник Малькольма был, как всегда, у меня с собой, под рубашкой. Красная кожа его обложки прилипла к моей груди. Я учился извлекать выгоду из ярости.
– Твой отец здесь, разговаривает с бабушкой. Спрячься-ка там и запоминай каждое сказанное ими слово, а потом все расскажешь мне. Ты понял?
Понял. Он-то, конечно, и сам будет подглядывать в дверь, я знаю. Но он ничего не услышит. А я не пропущу ни одного слова, будьте уверены. Не может сам ни нагнуться, ни поднять уроненного. А командует.
– Барт! Ты слышал, что я сказал? Какого черта ты пошел на черную лестницу?
Я обернулся и пристально поглядел на него. С высоты пятой ступени я был выше него.
– Сколько тебе лет, Джон Эмос?
Он пожал плечами и нахмурился:
– Зачем тебе знать?
– Просто не видел еще никого дряхлее тебя.
– Бог накажет того, кто не почитает старших. – Он щелкнул зубами. Звук был такой, как будто тарелки сбросили в раковину.
– Я сейчас даже выше, чем ты.
– – Во мне шесть футов роста – или было, во всяком случае. Тебе, малец, никогда не вырасти таким, разве что ты все время будешь стоять на лестнице.
Я прищурил глаза, чтобы сделать взгляд таким, как у Малькольма.
– Придет день, Джон Эмос, когда я перерасту тебя. Ты на коленях приползешь и будешь просить меня, пожалуйста, сэр, будьте добры, сэр, избавьте меня от этих проклятых мышей на чердаке. И я скажу: «Я не могу быть уверен в том, что ты достоин моего доверия?», а ты скажешь: «Я буду служить вам до последнего, даже когда вы сойдете в могилу».
Моя речь вызвала у него лукавую улыбку.
– Барт, ты вырастешь таким же умным, как твой великий дед, Малькольм. Отложи все, что ты собираешься делать, Барт. Иди к ним и выслушай все, что они скажут. Каждое слово. А потом приди и перескажи мне.
Я, как настоящий шпион, подлез под сервироваль-ный столик, замаскированный красивым восточным экраном. Оттуда я прокрался за кадушки с пальмами.
Ну, конечно же, я так и знал. Все одно и то же. Бабушка умоляла, папа отказывал. Я уселся поудобнее и достал пачку самокруток. Когда жизнь становится невыносимой, как сейчас, например, сигареты помогают. Ничего не делать, только слушать. А мне страшно хотелось действовать. Настоящие шпионы не говорят ни слова.
Папа хорошо выглядел в своем светло-сером костюме. Я бы хотел так выглядеть, когда вырасту, но я не смогу. У меня нет этого дара – хорошо выглядеть. Я вздохнул: на самом деле мне хотелось быть его сыном.
– Миссис Уинслоу, вы пообещали мне уехать, но я не вижу ни одной упакованной коробки. Прошу вас, для блага Барта, для его душевного здоровья; для блага Джори, если только вы правду говорите, что любите его тоже; и, главным образом, для Кэти – уезжайте. Уезжайте в Сан-Франциско. Это недалеко. Клянусь вам, что навещу, как только смогу. Я найду возможность посещать вас, так, чтобы Кэти и не заподозрила.
Надоело. Что он заладил об одном и том же? Какое ему дело, что мама думает и говорит о его матери? Если бы я был таким дураком, чтобы жениться, я бы велел своей жене принять мою мать или убираться ко всем чертям. Катись ко всем чертям, как сказал бы Малькольм.
– О, Кристофер, – снова расплакалась она, вытирая слезы бесчисленными шелковыми платочками. – Я бы хотела, чтобы Кэти простила меня, и чтобы я смогла занять какое-то место в вашей жизни. Я не уезжаю, потому что жду, когда она поймет, что я не причиню никому зла… я здесь для того, чтобы дать вам все, что смогу.
Папа горько усмехнулся:
– Предполагаю, о чем вы говорите, снова исключительно о деньгах и вещах. Но это не то, что нужно ребенку. Кэти и я сделали все, что в наших силах, чтобы Барт чувствовал, как его любят, как в нем нуждаются, но он не понимает моей ответственности за него. Он совершенно не ориентируется в жизни: что он в семье, кто он, куда он идет? У него нет никаких склонностей, он не сделает карьеры, как Джори, карьеры, которая обеспечила бы ему будущее. Сейчас он мечется, ищет себя, а вы не сможете ему в этом помочь. Он очень замкнут, никого не пускает в свой внутренний мир. Он и обожает, и мучает мать. Он ревнив: думает, что она любит Джори больше, чем его. Он осознает, что Джори более воспитан, красив, талантлив, а главное, более ловок в общении. Барт не преуспел же ни в чем, кроме больших претензий. Если бы он доверился бы нам или своему психиатру, ему можно было бы помочь, но он никому не доверяет.
Я сидел и молча вытирал злые слезы. Так горько слышать, как о тебе говорят: конечно, кое-что правда, я такой, но кое-что совсем не правда. Я не такой, а они так уверены, что знают меня. Ничего они не знают. Откуда им знать?
– Вы что-нибудь поняли из того, что я только что сказал, миссис Уинслоу? – закричал вдруг папа. – Барт ненавидит свой нынешний имидж беззащитного ребенка, а дело в том, что у него нет ни умения, ни ловкости, ни авторитета. Поэтому он черпает все, чего ему недостает, из книг, из телевизионных шоу, даже из наблюдений за животными: то он изображает волка, то собаку, то кошку.
– Но почему, почему? – стонала она. Он рассказал все мои секреты. А рассказанный секрет не имеет никакой ценности, вот так.
– Вы не понимаете? Даже не догадываетесь? В доме тысячи фотографий отца Джори, и ни одной – отца Барта. Ни одной.
Это так поразило ее, что она встала. И страшно рассердилась:
– А с какой стати ему иметь фотографии отца? Или это моя вина, что мой второй муж не дал ни одной фотографии своей любовнице?
Я был ошеломлен. Что она сказала? Джон Эмос, правда, рассказывал мне какие-то дурацкие истории, но я тогда думал, что он их выдумал, как я выдумываю всякие истории, чтобы развеять скуку. Может ли быть правдой то, что моя мама, моя собственная мама была порочной женщиной, совратившей второго мужа моей же бабушки? И что я – сын юриста по имени Бартоломью Уинслоу? Ах, мама, как же я теперь стану жить? Как мне не ненавидеть тебя теперь?
Папа снова хитро улыбнулся:
– Вероятно, вашему дорогому мужу не было в том нужды. Он полагал, что будет у Кэти всегда под рукой, в доме и в постели: он, живой, собственной персоной, в перспективе, как законный муж. Перед его смертью она ему призналась, что у нее будет от него ребенок; и я, по крайней мере, не сомневаюсь, что он развелся бы с вами и женился на Кэти, если бы не внезапная смерть.
Душевная боль скрутила меня в узел. Бедный, бедный мой отец, погибший в огне в Фоксворт Холле! Да, теперь я знаю: только Джон Эмос был мне настоящим другом, только он один относился ко мне, как ко взрослому, только он сказал мне правду. А дядя Пол, чья фотография хранилась у меня на ночном столике, был мне не более чем отчим, такой же, как и Кристофер. Я мысленно рыдал, ведь я потерял еще одного отца. Я из своего убежища переводил в отчаянии взгляд то на одного, то на другую, лихорадочно соображая, как же мне теперь относиться к ним и к маме. Как родители смеют распоряжаться так жизнями еще не рожденных своих детей: перекидывать их туда-сюда, так что я мог бы и не узнать, чей я сын?
И все же я был на стороне бабушки, которую, казалось, очень задели слова сына. Я с надеждой ждал, что она скажет. Ее тонкие белые руки коснулись лба, покрытого испариной, как будто она чувствовала головную боль. Как она переносит эту боль, если я не могу вынести?
– Ну что ж, Кристофер, – произнесла она, наконец, когда я было уже подумал, что она не оправится от этого шока, – ты свое сказал, позволь же сказать и мне. Если бы дело дошло до необходимости выбирать между Кэти, с ее неродившимся ребенком, и мною, с моим состоянием, Барт выбрал бы меня, свою жену. Возможно, они еще долго были бы любовниками, пока она бы не надоела ему, но я знаю его: он нашел бы легальный путь отобрать у Кэти своего ребенка, выбросив ее из своей жизни. Он бы остался со мной, не сомневаюсь, хотя каждый удобный момент он бы оглядывался на хорошенькие личики и более свежие тела.
Это мой собственный отец. Мой собственный кровный отец не захотел бы жить с моей матерью. Слезы навернулись на мои глаза. И эти слезы доказывали, что я был все еще человек, а не та выдуманная мной же химера. Я чувствовал боль. Но отчего я никогда не чувствовал счастья, простого человеческого счастья? И тут мне припомнились недавние слова бабушки, что мой отец нашел бы легальный путь отобрать меня у мамы… Что это означало: что он выкрал бы меня у нее? Эта мысль тоже не сделала меня счастливее.
Сказав свою речь, бабушка села и не двигалась. Я чувствовал себя маленьким и испуганным, больше всего испуганным тем, что я услышу дальше. Папа, я не могу больше слышать ваших грязных секретов, или, переполнившись ими, я начну действовать.
Джон Эмос вынудит меня действовать. Я даже обернулся: не подслушивает ли он, приставив стакан к стене?
– Вот еще что, – сказал отец. – Психиатр, наблюдающий Барта, проявляет странный интерес к вам. При этом он считает вас только моей матерью. Я не понимал раньше, отчего он снова и снова возвращается в разго-ворах к вам. Ему кажется, что вы – ключик к внутренней жизни Барта. Он полагает, что вы тоже всегда жили скрытой от всех внутренней жизнью – это так, мама? Когда ваш отец унижал вас, случалось ли так, что вы втайне обдумывали план мести?
А это еще о чем?
– Не надо, – умоляюще произнесла она. – Пожалуйста, не надо. Пожалей меня, Кристофер. В тех обстоятельствах я сделала, что могла, чтобы выжить. Клянусь, я сделала все, что могла!
– Все, что могли? – Он расхохотался, совсем как мама, когда она пыталась кого-то поддеть. – Не тогда ли, когда младший сводный брат вашего отца приехал в Фоксворт Холл, и вы сразу ухватили инициативу? Это был превосходный случай наказать вашего отца. А разве не вы подвели к тому, чтобы наш отец влюбился в вас? Разве не за то вы ненавидели его, что он был похож на Малькольма? Я полагаю, что так оно и было. Вы постоянно строили планы мести своему отцу, причем так, чтобы уязвить самое для него важное – его эго, и покарать его так, чтобы он не поднялся. Думаю, что вам это удалось! Вы убежали с ним, с младшим братом, которого он презирал, и вышли за него замуж, полагая, что выиграли вдвойне: отомстили самым болезненным образом отцу, да еще и отняли у него через младшего брата его огромное состояние. Но вы неожиданно проиграли, не правда ли? Я не забыл те дни, когда вы постоянно молили своего мужа, чтобы он через суд потребовал у брата законную часть состояния. Но наш отец отказался участвовать в заговоре с вами. Он любил вас, и женился на вас не ради денег, о которых вы только и мечтали, а ради того образа любимой женщины, который он из вас создал.








