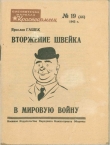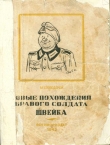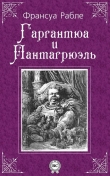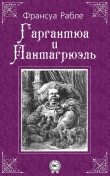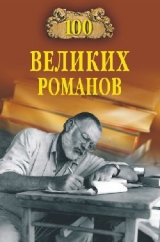
Текст книги "100 великих романов"
Автор книги: Виорэль Ломов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Иван Сергеевич Тургенев
(1818–1883)
«Отцы и дети» (1860–1861)
Четвертый (из шести)романов Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) – «Отцы и дети» – увидел свет в 1862 г., через год после крестьянской реформы, и вызвал яростные споры в русском обществе. Прекрасный стилист и тонкий психолог, Тургенев по большому счету создал великий роман не об обществе и не для общества, а для каждого отдельного читателя, изобразил очень личный, камерный мир своих героев, какие они есть в жизни и каких он сам придумал и скроил по своей мерке. И не его вина, а его беда, что общество узрело в них одновременно клевету и насмешку над молодым поколением, панегирик разночинцам-шестидесятникам и карикатуру на дворян. Значит, так все это и было. И не столько по чуткости писателя к общественным проблемам и участия в их решении, а сколько из-за его способности выхватывать буквально из воздуха носящиеся в нем слова и восклицания. Ивана Сергеевича тогда вообще занимали больше не общественные страсти, а личные, и воспевал он не столько действительность, сколько разрыв между нею и своею мечтой. Мечтал же он примирить самые разные силы – консерваторов, либералов и демократов. Вот только взирая на действительность России не из родовой усадьбы в Спасском-Лутовинове или на худой конец из российской столицы, а из столицы Франции и Баден-Бадена, это было сделать весьма непросто. Да и что можно было почерпнуть действительно глубокого в разговорах и переписке с другими «наблюдателями» жизни? Так и получилось, что судьба героев романа сложилась больше по законам литературы, нежели жизни, а их разговоры остались разговорами салонов и эпистол. Судьба же романа довольно типична – автор писал о своем, а публика увидела свое – нов целом сложилась удачно. Более того: по мнению литературоведов, «Отцы и дети» (как и остальные романы писателя) явились первыми истинно русскими романами в истории мировой литературы.
Роман писатель написал во Франции, затем после неудачной попытки провести реформы в своем крепостном хозяйстве передал рукопись редактору «Русского вестника» М. Каткову и вновь укатил за границу. Сразу же после выхода «Отцов и детей» в свет последовал литературный скандал и свирепые наскоки критиков со всех сторон, воспринявших очередное детище романиста не как художественное произведение, а как политический памфлет. Все «кухни» и СМИ спорили о произведении Тургенева, даже единомышленники писателя в демократических журналах «Современник» и «Русское слово». Спорили об отрицающем духовные основы бытия нигилизме, о новом типе революционера, одним словом – об очередном своем «могильщике». Носителем всего этого объявили (и не без оснований) главного героя романа – начинающего доктора из разночинцев Евгения Базарова.
Евгений гостил у своего друга Аркадия, выпускника университета, в поместье его отца Николая Петровича Кирсанова, вдовца, проживавшего со своим старшим братом Павлом Петровичем. Николай Петрович занимался преобразованием своего имения, сожительствовал с хорошенькой Фенечкой. Базаров и Павел Петрович, с первого же взгляда почувствовав взаимную антипатию, занялись словесными дуэлями, в которых вскрылась суть обоих «дуэлянтов» и непримиримость их позиций. Во всяком случае, безапелляционные заявления Базарова, что людьми в жизни движет только «польза» и им вовсе не нужна психология и искусство, не могли убедить его противника, консерватора по духу и образу жизни. А слова Евгения о том, что и в обществе «сперва надо место расчистить», и вовсе шокировали оппонента, весьма разочарованного в жизни и без Базарова. Гордившийся тем, что его дед землю пахал, Базаров не знал, к чему приложить ему свои «красные» от трудов руки. Вот и резал лягушек для подтверждения никем не оспариваемых выводов. В «лекаришке» Павел Петрович видел одну лишь сатанинскую гордость и глумление надо всем. Николай Петрович стремился, как мог, смягчить этот бессмысленный спор.
В губернском городе Аркадий познакомил приятеля с Анной Сергеевной Одинцовой, молодой вдовой, привлекшей Базарова не только красотой, но и своим богатством. Желание «поживиться» переросло у героя в сильное чувство, весьма смутившее его своим «романтизмом». Однако ничего серьезного между Одинцовой и Базаровым, несмотря на их взаимное тяготение, так и не случилось. Евгений бежал от грозящего ему «рабства», да его никто в него и не вовлекал. Поскучав пару дней у не сводящих с него глаз родителей, Базаров вернулся к Кирсановым, где с порога приударил за Фенечкой. Павел Петрович застал молодых за поцелуем и вызвал селадона на дуэль. Поступившись принципами, Базаров принял вызов. Они стрелялись, Евгений легко ранил противника. Все повели себя крайне благородно: Базаров оказал помощь раненому, Кирсанов-старший не только скрыл причину вызова от брата, но и стал уговаривать его поскорее жениться на Фенечке (хотя прежде категорически возражал против этого).
Потеряв надежду на взаимность Одинцовой, Базаров покинул Кирсановку, уединился в доме родителей, занимался всякой бестолковщиной, пока не поранил при вскрытии трупа себе палец и не получил заражение крови. Через несколько дней несчастный скончался, пребывая последние часы в горечи, что он совсем не нужен России…

Одинцова посещает умирающего Базарова. Иллюстрация к одному из изданий романа «Отцы и дети»
Аркадий нашел утешение в любви к младшей сестре Анны Сергеевны, Кате. Через полгода они обвенчались. Обвенчались и Николай Петрович с Фенечкой. Жизнь у всех героев романа как-то наладилась. И одни только родители Базарова не находили себе утешения, проливая горькие слезы и вознося молитвы за упокой души умершего, в которую тот совсем не верил. Начавшись майским днем 1859 г., события закончились вечностью. О ней подумал перед смертью Базаров и перед ней осознал «собственное ничтожество». Говорят, Тургенев плакал, когда писал эти строки…
По большому счету, Базаров, человек с большими задатками, неординарный, но не имевший духовного стержня, по-своему искавший смысл жизни, но больше только говоривший об этом и существовавший бессмысленно, пребывавший в непомерной гордыне, – весьма типичный представитель всякого молодого поколения, вступающего в жизнь в надежде «сделать» ее под себя. Увы, иногда «новым молодым хозяевам жизни» это удается, и с каждым годом все явнее и легче, но пока этого окончательно не произошло, до тех пор, наверное, и будет интерес у читателей к роману Тургенева, правдивому в главном – заключенному в самом его названии, представляющем антитезу, – «Отцы и дети».
Подводя черту под многолетними спорами вокруг романа в статье «По поводу "Отцов и детей"», писатель поведал историю своего замысла, этапы публикации романа и выступил со своими суждениями по поводу объективности воспроизведения действительности: «Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни – есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями… Никто, кажется, не подозревает, что я попытался в Базарове представить трагическое лицо, а все толкуют: зачем он так дурен? или – зачем он так хорош?»
Тургеневоведы долго пытались найти прообраз Базарова – то в некоем провинциальном враче Дмитриеве, то в соседе писателя по деревне В.И. Якушкине, то в случайном попутчике писателя, то в Чернышевском, Добролюбове и Белинском, пока все не успокоились на его собирательности.
Роман экранизировали в 1958 г. режиссеры А.С. Бергункер и Н.С. Рашевская; в 1983 г. В.А. Никифоров, который перенес на экран «слова, слова, слова», но вовсе не трагедию человека, ищущего свой путь в жизни.
Виктор Мари Гюго
(1802–1885)
«Отверженные»
(1829–1861)
Глава европейского романтизма, величайший французский поэт XIX в., обладатель 80-томного литературного наследия, кавалер ордена Почетного легиона, член Французской академии, великий магистр масонской ложи «Приорат Сиона», безраздельно принадлежавший ей не только душой, но и своим пером, член палаты Пэров, депутат Учредительного и Законодательного собраний и прочее и прочее Виктор Мари Гюго (1802–1885) завершил свой знаменитый роман-эпопею (роман-драму, роман-реку, роман-миф) «les miserables» – «Отверженные», над которой трудился с перерывами более 30лет, в 1861 г. Начав свою литературную деятельность с ошарашившего общественность описания любовной связи королевы с лакеем (драма «Рюи Влас»), Гюго в «Отверженных» главными героями сделал вора-каторжника и проститутку, любимых детищ сегодняшней масскультуры, чем, собственно, и снискал в истории мировой литературы себе прочное, хотя и далеко не эстетское место. Наибольшую популярность приобрели два отрывка из романа, переделанные в повести, – «Козетта» и «Гаврош».
Замысел романа из жизни низов возник у писателя в 1820-е гг., когда он стал собирать сведения о быте каторжников. Услышав историю о епископе Миоллисе, приютившем в 1806 г. освобожденного каторжника Морена и повлиявшего на его духовное перерождение, Гюго в 1829 г. набросал контуры будущего романа (даже написал одну главу), в центре которого был прообраз будущего главного героя – Жана Вольжана. «Важно не то, чтобы история была правдивой, но чтобы она была истинной», – записал писатель. И это стало его «сверхзадачей». В романе нет реальной правды французской жизни первой трети XIX в. Там правда романтика – разрушителя жизни. В последующие 20 лет писатель создал несколько произведений, в которых присутствовали мотивы и контуры будущей эпопеи. Роман под названием «Жан Трежан» (позднее «Нищета») Гюго закончил в Брюсселе в 1851 г. Через 9 лет он его переработал, и в 1862 г. «Отверженные» увидели свет. Его появление сопровождала беспрецедентная по тем временам рекламная кампания, вызванная исключительно политическими мотивами – критика власти, да еще политическим изгнанником, была на руку многочисленным противникам Наполеона III.
События, рассказанные на полутора тысячах страниц, охватывают период 1815–1833 гг. Епископ Мириэль приютил у себя только что освободившегося каторжника Жана Вальжана, 19 лет назад укравшего каравай хлеба для голодных детей своей сестры. Стащив серебряные столовые приборы, Вальжан ночью убежал из дома, но утром его схватили жандармы и привели к Мириэлю. Епископ не только не стал обвинять каторжника в краже, но еще и вручил ему два серебряных подсвечника, которые тот якобы забыл у него. Своим поступком монсеньор внес смятение в озлобленную душу Вальжана и направил его помыслы на благие дела. Правда, перед этим Жан успел ограбить (больше по инерции) встреченного мальчишку.

Козетта. Художник Э. Байяр
Поселившись в городке Монрейль, Вальжан (он же Мадлен) затри года усовершенствовал местный промысел – изготовление искусственного гагата, разбогател и помог разбогатеть другим. Вскоре он стал мэром, устраивавшим всех, кроме полицейского агента Жавера, который подозревал в нем бывшего каторжника. Когда в соседнем городке собрались судить некоего Жана Вальжана, некогда ограбившего мальчика, Жавер покаялся господину Мадлену в своих былых подозрениях. После тяжких раздумий мэр поехал на суд, где заявил, что подсудимый невиновен, а он сам и есть тот самый Жан Вальжан. Сосланный на галеры, Вальжан спас жизнь сорвавшемуся с реи матросу, а затем бросился в море. Газеты сообщили, что он утонул.
Через какое-то время Вальжан взял на себя заботу о дочери умершей проститутки Фантины – Козетте, забрав ее у хитрых и злобных трактирщиков Тенардье. Поселившись с малышкой в предместье Парижа, он воспитывал ее как родную дочь, благо, у него еще сохранились деньги, заработанные на производстве гагата. Во время ночной облавы, устроенной Жавером, Вальжан чудом спасся в женском монастыре. Козетту взяли в монастырский пансион, а его самого определили помощником садовника.
Внук буржуа, Мариус Понмерси, не желавший жить с дедом-роялистом, прозябал в нищете. Несколько раз он встречал в Люксембургском саду Вальжана с Козеттой, влюбился в девушку, но своим вниманием только спугнул старика. Вскоре юноша стал свидетелем сговора бандитов, руководимых Тенардье, которые собрались ограбить Вальжана, и сообщил о том полиции. Когда бандиты напали-таки на Вальжана и их схватили полицейские во главе с Жавером, Вальжан опять скрылся, выпрыгнув в окно.
В 1832 г. Мариус отыскал Козетту и признался ей в любви, оказавшейся взаимной. 4 июня в Париже вспыхнуло восстание. Мариус с друзьями подался на баррикаду. Следом отправился и Вальжан. Революционеры поймали переодетого Жавера, но пацифист Вальжан отпустил его. Правительственные войска очистили город от повстанцев. Погиб парижский сорванец Гаврош, был ранен Мариус. Вальжан вынес юношу с поля боя. Жавер, с которым он столкнулся по пути, в свою очередь также отпустил его. Сраженный благородством каторжника и еще более тем, что он сам впервые преступил закон, инспектор весьма картинно бросился с моста в воду.
Излечившийся Мариус встретился с Козеттой. Влюбленные, получив благословение Вальжана, обвенчались. Признавшись Мариусу в том, что он беглый каторжник, Вальжан вынужден был отдалиться от своей приемной дочери. Это лишило его всякого смысла в жизни и последних сил. Козетта стала забывать о нем, а ее супруг полагал, что каторжник получил то, что заслужил. Но тут Тенардье за вознаграждение открыл Мариусу, что Вальжан не преступник и что именно он вынес его с баррикады. Молодые люди отыскали Вальжана, упали к его ногам с мольбами простить их, после чего старик скончался, счастливый тем, что он любим.
Центральной идеей «Отверженных» стала излюбленная тема Гюго – борьба противоположностей: света и тьмы, милосердия и жестокости, сострадания и нетерпимости, добра, воплощенного в Вальжане, и зла, воплощенного в Жавере. По этому шаблону и был выкроен сюжет. Победило добро, как оно и следовало из первого предисловия автора: «Эта книга от начала до конца в целом и в подробностях представляет движение от злакдобру, от несправедливого к справедливому, от ложного к истинному, от мрака к свету, от алчности к совестливости, от гниения к жизни, от скотского состояния к чувству долга, от ада к небу, от ничтожества к Богу». Бога, прямо скажем, в романе нет, но само намерение заслуживает упоминания. Поучение, моральный урок полностью заслонили реалии действительной жизни.
«Отверженные» тем не менее были с восторгом приняты публикой, в которой еще не угас революционный пыл. Роман был сразу же переведен чуть ли не на все европейские языки. Ажиотаж подогревался многочисленными противоречивыми критическими отзывами – от восторженных до негодующих. Писатели были более осторожны в оценке романа и большей частью отвергли его. Флобер, например, недоумевал: «Все персонажи говорят очень хорошо, но говорят одинаково». Отпугивал литераторов и чрезмерный пафос произведения, который вообще был свойственен В. Гюго.
Русских писателей (А. Герцена, Н. Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского и др.) привлек гуманистический пафос романа Гюго. Л. Толстой вообще поставил его выше всего современного французского романа.
На русский язык «Отверженных» переводили К. Локс, М. Вахтерова, Д. Эфрос, М. Толмачёв, Д. Лившиц и др.
Первые фильмы по мотивам романа появились еще в немом варианте в 1907 г. – «На баррикадах Парижа» и «Рабочий». Роман (целиком и частями) экранизировался десятки раз не только в Старом и Новом Свете, но и в Японии, Египте, Индии, Мексике, Бразилии, Корее, Турции… Однако ни одна картина не стала явлением в мире кино.
Шарль Теодор Анри де Костер
(1827–1879)
«Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях»
(1867)
Бельгийский писатель, служащий в Брюссельском королевском архиве, автор двух сборников фольклора, путевых очерков, стихов, одной драмы и одного психологического романа, Шарль Теодор Анри де Костер (1827–1879) издал прославившую его «La legende et les aventures heroi'ques, joyeuses etglorieuses d'UIenspiegel et de Lamme Goedzak aupays de Flandres et ailleurs» – «Легенду об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» в 1867 г. Поначалу незамеченная, книга позднее стала первым бельгийским «бестселлером». Де Костер, всю жизнь проведший в нищете и безвестности и скончавшийся в 51 год от изнурения «трудом, лишениями, заботами, болезнью», ныне знаменит во всем мире, а его великий роман-поэму по праву называют «Энциклопедией Бельгии». Именно «Легенда об Уленшпигеле» возродила на родине писателя жанр легенды и положила начало национальной бельгийской литературе.
С именем Уленшпигеля де Костер сжился еще до того, как приступил к своему роману. В1856 – 1864 гг. онотименигероялиберального журнала «Уленшпигель» под псевдонимом «Карел» писал статьи о важнейших проблемах бельгийской и международной жизни.
Знаменитый герой средневековых нидерландских и немецких легенд, Уленшпигель, впервые представший в немецкой народной книге «Приятное чтение о Диле Уленшпигеле, рожденном в земле Брунцвика, как он проводил свою жизнь» (1511), переведенной позднее более чем на 280 языков, был любим во всех странах и во все века. Прозвище персонажа, состоящее из двух слов: «Ule» (сова) и «Spiegel» (зеркало) – «Совиное зеркало», воспринималось как мудрая насмешка над человеческой глупостью. Читателям был по нраву образ бродяги, плута и балагура, то и дело дурачившего горожан и крестьян.
Де Костер, взяв за основу народную лубочную книгу, старинные песни, документы из госархива времен Нидерландской революции, соединил исторические факты с легендами, романтически интерпретировал их и перенес из века XIV в век XVI.
Роман вышел в свет 31 декабря 1867 г., а еще через полвека, после оккупации Бельгии германскими войсками в 1914 г., бельгийцы увидели в Тиле Уленшпигеле не только символ народного сопротивления испанскому господству во Фландрии времен Нидерландской революции, но и выдающегося борца за национальную независимость вообще.
Тиля Уленшпигеля, сына угольщика Клааса и Сооткин, за еретические высказывания на три года изгнали из Фландрии, дабы он совершил паломничество в Рим и получил у папы отпущение грехов. После ряда приключений и отпущения грехов юноша вернулся домой и не застал там отца, которого по доносу соседа рыбника Грейпстювера, позарившегося на деньги угольщика, бросили в тюрьму. По приговору суда Клааса сожгли на костре. Горстку пепла мужа Сооткин зашила в мешочек, который Уленшпигель повесил себе на шею. «Пепел Клааса бьется о мою грудь», – то и дело повторял он. Жестоко обошлась судьба и с Катлиной, матерью подружки Тиля – Неле. Добрую знахарку Катлину обвинили в порче соседской коровы и пытками свели с ума. Ее любовник Дамман, которого Катлина в шутку называла «черным бесом», узнал у нее место, где Тиль с матерью спрятали деньги отца, и украл их. Сооткин от горя заболела и умерла.

Танцовщик Жан Бабиле в роли Тиля Уленшпигеля в одноименном балете
Желая «спасти землю Фландрскую» от испанцев, Тиль за советом пришел к Катлине. Колдунье изредка были видения, в одном из которых она видела, как душу Клааса матерь Божия вознесла в самую высокую из горних обителей, а душу жестокого императора Священной Римской империи Карла V, под игом которого долгие годы томилась родина Тиля, отправила в ад. По совету Катлины Тиль выпил чудодейственной жидкости и попал на весеннее празднество духов. Поведав духам, что он желает спасти свой край, Уленшпигель в ответ услышал, что он должен «в смерти, в крови, в разрухе, в слезах» искать таинственных Семерых (как прояснилось позднее, человеческие пороки). Вместе с о своим другом детства, добродушным толстяком-обжорой Ламме Гудзаком, которого бросила жена, Уленшпигель отправился на поиски. «Я и живописец, и крестьянин, я и дворянин, я и ваятель, – заявил он. – И странствую по белу свету, славя все доброе и прекрасное, а над глупостью хохоча до упаду».
В это время сын Карла король Филипп II учредил в Нидерландах испанскую инквизицию и сам злобно и бесстрастно расправлялся со всеми, кто хоть чем-то не угодил ему, будь то кошка, обезьянка или его собственная жена с сыном. В стране вспыхнуло народное восстание гёзов, т. е. нищих. Тиль и Ламме присоединились к ним. Уленшпигель поднимал народ против палачей, вербовал для принца Оранского Молчаливого, возглавившего восстание, солдат, сам сражался с испанцами. «Проснись, фламандец, схватись за свой топор, не зная жалости: вот наши радости, – призывал Уленшпигель. – Бей врага испанца и католика везде, где он попадется тебе. Забудь о своей жратве».
Когда в окрестностях Дамме появился оборотень, волк-человекоубийца, Уленшпигель поймал чудовище. Им оказался Грейпстювер. Рыбника по приговору суда сожгли на костре. Получил свое и «черный бес» Дамман. Правда, из-за него погибла и Катлина, а Неле осиротела.
Тиль и Ламме начали служить на корабле адмирала Долговязого. Уленшпигель стал искусным канониром и отличным воином. Заступившись за сдавшихся в плен монахов, которых пообещали отпустить, но не отпустили, Тиль едва не угодил на виселицу, от которой его спасла Неле, объявившая прилюдно, что берет Уленшпигеля в мужья – по местным обычаям обвиняемого в этом случае полагалось освободить. После ряда неудач гёзов Неле, Уленшпигель и Ламме попали в плен, но их вскоре освободили и Тиля сделали капитаном корабля. К Ламме, назначенному коком, вернулась жена, и семейная пара ушла домой.
Созванные в Гааге Генеральные штаты низложили Филиппа II, Нидерланды стали свободными. Уленшпигель и Неле, умастившись волшебным снадобьем, увидели преображенных Семерых в собственные противоположности. Гордыня стала Благородной гордостью, Скупость – Бережливостью, Гнев – Живостью, Чревоугодие – Аппетитом, Зависть – Соревнованием, Лень – Мечтой поэтов и мудрецов, Похоть – Любовью. Очнувшись от видения, Неле ужаснулась: муж не пришел в себя. Тиля похоронили, но он встал из могилы. «Никому не удастся похоронить Уленшпигеля, дух нашей Фландрии, и Неле, сердце ее! Фландрия тоже может уснуть, но умереть она никогда не умрет! Пойдем, Неле!» – с этими словами вечно молодой Уленшпигель, обняв вечно молодую и прекрасную Неле, ушел из романа в мировую литературу.
Выбрав эпоху национальной истории, уникальную по своим социальным урокамианалогиямвисториидругих народов, де Костер сделал «Легенду об Уленшпигеле» «своей» книгой в любой стране и у любого народа, пережившего и переживающего эпоху борьбы за национальную независимость.
Лучший перевод романа на русский язык принадлежит Н. М. Любимову.
По мотивам «Легенды» композитор Р. Штраус создал в 1895 г. симфоническую поэму «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля». Книга послужила основой для многих экранизаций. Упоминания заслуживают две: «Приключения Тиля Уленшпигеля», снятые в 1956 г. нидерландским кинорежиссером Й. Ивенсом совместно с Ж. Филипом, и советский фильм «Легенда о Тиле», созданный в 1974 г. А. Аловым и В. Наумовым.