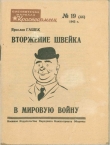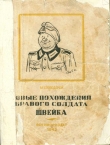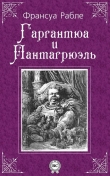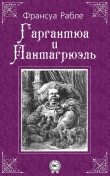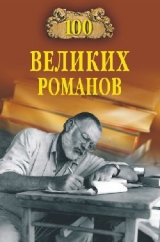
Текст книги "100 великих романов"
Автор книги: Виорэль Ломов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Гарриет Бичер-Стоу
(1811–1896)
«Хижина дяди Тома»
(1851–1852)
Роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) «Uncle Tom's Cabin» – «Хижина дяди Тома» (1851–1852), направленный против рабовладения в США, имел грандиозный успех во всем мире. Впервые два года издания книга вышла баснословным по тем временам тиражом: 300 000 экз. на родине автора и 2 500 000 – в странах Европы. За несколько лет она выдержала сотни изданий и множество переводов. Роман стал первым мировым бестселлером, привлекшим внимание Европы к Штатам, с которого «начался экспорт американской культуры и американской культурной продукции по всему миру», а в самих США он резко обострил конфликт вокруг проблемы рабства, что привело к Гражданской войне (1861–1865). По легенде, когда Бичер-Стоу была представлена президенту США А. Линкольну, тот воскликнул: «Так Вы та маленькая женщина, которая развязала эту великую войну!»
В 1850 г. конгресс США принял закон о беглых рабах, который давал рабовладельцам право преследовать сбежавших негров на всей территории страны, а также предусматривал наказание за их укрытие. Набожная сердобольная домохозяйка Бичер-Стоу, дочь пастора и жена профессора богословия, мать семерых детей, не раз укрывавшая у себя беглых рабов, неожиданно для себя решила написать роман об ужасах рабства. Толчком к написанию «Хижины дяди Тома» послужило видение, которое пришло Гарриет на собрании в церкви. «Вдруг… перед ее мысленным взором возникла сцена смерти дяди Тома. Она была так потрясена, что едва сдержала рыданья. Придя домой, она немедленно взяла ручку и бумагу и записала видение». 5 июня 1851 г. в газете «Национальная Эра» был опубликован первый фрагмент романа, вызвавший ажиотаж. Публика требовала продолжения, и оно следовало на протяжении 8 месяцев. В апреле 1852 г. в газете появилась заметка: «Миссис Стоу наконец завершила свое великое дело». Вскоре роман вышел отдельной книгой. В южных штатах тут же запретили ее, а писательницу обвинили в недостоверности сюжета. Писатели Юга опубликовали четырнадцать романов, пытавшихся опровергнуть «зловредную ложь» «Хижины дяди Тома». В ответ Бичер-Стоу в 1853 г. опубликовала «Ключ к хижине дяди Тома», где документально подтвердила все «ужасные» сцены, описанные в романе.
Прототипом дядюшки Тома стал проповедник Джосая Хенсон (1789–1883), который маленьким мальчиком был разлучен со своей семьей, был рабом на табачной плантации, где дослужился до управляющего, а в 1830 г. вместе с семьей бежал в Канаду и там основал приют и школу для беглых рабов.
Роман начинается с того, что плантатор Шелби в уплату долгов продал работорговцу Гей ли своего лучшего негра дядю Тома. Старший сын Шелби, Джордж, дал Тому на память серебряный доллар и поклялся, что никогда не будет заниматься работорговлей.
На аукционе Гейли купил еще несколько рабов, затем весь «товар» погрузили на нижнюю палубу парохода и повезли на юг. На том же пароходе путешествовал богатый и знатный джентльмен из Нового Орлеана Огюстен Сен-Клер с шестилетней дочерью Евангелиной (Евой). Неосторожно перегнувшись через борт, девочка свалилась в воду. Том спас ее, за что Сен-Клер выкупил Тома у Гейли.
Через два года выяснилось, что Ева больна чахоткой и обречена. Она мечтала отпустить всех негров на волю и дать им образование. Перед смертью она попросила отца отпустить дядю Тома на свободу. Сен Клер обещал ей это, но после смерти дочери он сам трагически погиб в пьяной драке.

Титульный лист первого издания романа «Хижина дяди Тома»
Вдова Сен-Клера, деспотичная Мари решила продать дом, рабов и уехать на отцовскую плантацию. Тома она, вопреки воле Евы, вместе с другими неграми отправила на аукцион.
Том попал к жестокому плантатору Саймону Легри. Тот, видя хорошую работу невольника, решил назначить его надсмотрщиком и для проверки заставил его выпороть нескольких рабов. Том решительно отказался, за что сам был избит.
Любовница Легри Касси имела большое влияние на хозяина и уговорила его оставить Тома в покое, а сама стала уговаривать Тома совершить побег. Она даже предложила ему убить плантатора, но Том не стал брать грех на душу. Бежать он тоже отказался. Касси скрылась. Легри заподозрил в организации ее побега Тома и приказал подручным жестоко избить его.
В это время в поместье приехал Джордж Шелби. На его руках дядя Том от побоев скончался. На могиле Тома Джордж, который после смерти отца стал владельцем поместья, поклялся, что у него никогда не будет рабов, и вскоре дал вольную всем своим рабам.
Роман Бичер-Стоу впервые заставил американскую публику посмотреть на проблему рабства не с абстрактных позиций гуманизма, а применительно к судьбе конкретных беззащитных людей. Описав многочисленные сцены продажи невольников, разрушения семей, насилий и убийств, Гарриет заставила читателей задуматься: а в христианской ли стране они живут? «Одним из самых страшных обстоятельств, связанных с рабством, является то, что негр… в любую минуту может попасть в руки жестокого и грубого тирана, – писала она, – точь-в-точь как стол, когда-то украшавший роскошную гостиную, доживает свой век в грязном трактире. Существенная разница состоит лишь в том, что стол ничего не чувствует, тогда как у человека… нельзя отнять его душу, воспоминания и привязанности, желания и страхи».
Еще при жизни Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» была повсеместно признана одной из лучших детских книг и выдержала в обработках для детей бессчетное число изданий.
Как ни странно, ряд критиков отказали книге в художественных достоинствах, хотя Ж. Санд, например, воскликнула: «Какая торжествующая защита вечного и неотъемлемого "права человека на свободу!"»
На русском языке роман впервые был напечатан в 18 57 г. в качестве приложения к некрасовскому «Современнику». Революционно-демократические круги использовали его в борьбе с крепостничеством. Л.Н. Толстой причислил роман к величайшим образцам искусства за горячую «любовь к ближнему». В советское время «Хижину дяди Тома» перевела НА. Волжина; роман издавался 59 раз на 21 языке народов СССР общим тиражом свыше 2 млн экз.
В английском языке имя плантатора Саймона Л егри стало нарицательным: simon legree – означает тиран, деспот, суровый хозяин, начальник. Выражение «он настоящий дядя Том» у американцев символизирует непротивление злу насилием и всепрощающую кротость.
Дом Бичер-Стоу в Брансуике, штат Мэн, где была написана «Хижина дяди Тома», находится в списке важнейших достопримечательностей США. А власти округа Монтгомери (штат Мэриленд) приобрели у частного владельца одноэтажный дом с бревенчатой пристройкой за 1 млн долларов. Эта пристройка по утверждениям историков и есть знаменитая хижина дяди Тома, упоминаемая в мемуарах Д. Хенсона.
В 1987 г. роман экранизировал режиссер С. Лэйтен (США).
Гюстав Флобер
(1821–1880)
«Госпожа Бовари. Провинциальные нравы»
(1851–1856)
Блестящий стилист, создатель т. н. объективного романа французский писатель Гюстав Флобер (1821–1880) прославился как автор шедевра мировой литературы – романа «Madame Bauvary. Mceurs deprovinse» – «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы» (1851–1856). Эта книга, которой писатель отдал пять лет наряженного, мучительнейшего труда, сделала Флобера признанным лидером нового художественного направления реализма и предтечей натурализма Э. Золя. Один из самых искусных и «искусственных», хотя и основанный на реальной истории и воспроизводящий провинциальную (и не только) жизнь всей Франции, по мнению литературно-художественного критика Л. Дюранти, роман «напоминает чертеж: – в такой мере он сделан при помощи циркуля, кропотливо, рассчитанно, обдуманно».
«Госпожа Бовари» вышла отдельной книгой в 1857 г. с посвящением парижскому адвокату, бывшему президенту Национального собрания и министру внутренних дел, Мари-Антуану-Жюлю Сенару: «Дорогой и знаменитый друг! Позвольте мне поставить Ваше имя на первой странице этой книги, ибо Вам главным образом я обязан ее выходом в свет. Ваша блестящая защитительная речь указала мне самому на ее значение, какого я не придавал ей раньше…»
Дело в том, что первая публикация романа в шести осенних выпусках журнала «Ревю де Пари» за 1856 г. вызвала возмущение общественности, и Флоберу было предъявлено обвинение в безнравственности, в «реализме», т. е. отсутствии положительного идеала, оскорблении религии и «откровенности», угрожающей общественной морали. Защищал писателя и его «сообщников» – главного редактора и типографа – господин Сенар. Суд оправдал обвиняемых и вошел в историю литературы и юриспруденции как первое открытое судилище над литератором и его произведением. Книга же, благодаря еще и этому судебному процессу, имела невероятный успех.

Кадр из фильма «Мадам Бовари». 1949 г.
Чем же она так проняла читателей, пленила критиков и «достала» блюстителей тогдашней нравственности?
«Госпожа Бовари» посвящена современной Флоберу французской действительности, периоду между двумя революциями: 1830 и 1848 гг., провинции, под которой писатель разумел всю Францию. Женатый лекарь Шарль Бовари увлекся (чисто платонически) хорошенькой Эммой Руо. После внезапной смерти своей уродливой супруги он женился на ней. Эмма оказалась прекрасной хозяйкой, но боготворивший супругу Бовари не догадывался о смятении, царившем в ее душе, плененной с отрочества романами, книжными страстями, мужчинами-рыцарями и прочей скудоумной романтикой. Добрый и трудолюбивый Шарль был, увы, не рыцарь, вел размеренный пошлый образ жизни. Мадам скучала… После единственного выхода в «свет» – бала в родовом замке маркиза, где Эмма вальсировала со столичным виконтом, она и вовсе засмурнела, затосковала, заболела. К тому же она уже ждала ребенка. Заботливый супруг поспешил сменить климат, и Бовари переехали в городок Ионвиль под Руаном.
На новом месте все было пошло, как и на старом. Среди постных физиономий обывателей выделялся двадцатилетний скромник-красавчик Леон, не чуждый музам. Беседы о «высоком» сблизили обоих и спасали от скуки. Когда у Эммы родилась Берта, ей тут же подыскали кормилицу. «Пошлая» жизнь шла своим чередом, и лишь общество Леона, с которым Эмма часто виделась, скрашивало ее одиночество. Молодой человек был пылко влюблен в нее, но так и не раскрыл ей своих чувств. Знал бы юноша, что и Эмма точно так же была обуреваема страстями! Вскоре Леон уехал в Париж продолжать образование, а Эмма, впав в черную меланхолию, накупила в долг обновок и незаметно для себя и мужа оказалась у лавочника в изрядном долгу.
Как-то Эмма познакомилась с помещиком Родольфом. Холостяк любовной болтовней и своей породой вскружил ей голову. Наделяя этого самцанекимромантическим ореолом, Эмма одаривала любовника подарками, чем залезлак лавочнику ещев большую кабалу. После того как Шарль неудачно провел операцию (заранее обреченную), Эмма окончательно убедилась, что ее муж – полное ничтожество, и оттого особо сладкими ей казались встречи с Родольфом, начавшим уже уставать от этой связи, грозившей его репутации. Возлюбленная стала уговаривать любовника бежать с ней из городка, тот было согласился, но в последний момент передумал и уехал один.
Эмма слегла, полторамесяцапровелавтрансе. Шарль не отходил от нее. После поправки госпожа увлеклась благотворительностью и обратилась к Богу. Шарль повел женушку в оперу, где в антракте она неожиданно встретила Леона, практиковавшего в Руане. Спустя три года после их разлуки они стали любовниками. Мадам с новой энергией любила, лгала мужу, сорила деньгами и все больше увязала в долговой яме у лавочника. Тот не раз говорил ей, что пора бы, милочка, и рассчитаться по векселям, дело дошло до описи имущества Бовари. Эмма бросилась к Леону, но тот оказался трусом. Родольф также не дал ей денег. Ни в ком из обывателей не найдя сочувствия, Эмма приняла мышьяк и через несколько дней скончалась в страшных мучениях. Полностью разоренный Шарль был убит горем. Найдя письма любовников к своей супруге, он в отчаянии умер, оставив маленькую Берту без средств существования и на произвол судьбы.
В образе Эммы Бовари отразились черты довольно легкомысленной Луизы Коле, любовницы Флобера, а сама история фактически повторила жизненную драмунекойДельфиныДеламар, вдевичестве Кутюрье. Та, правда, была прытче героини романа, почти десять лет дурачила мужу голову, меняя любовников как перчатки. Разорив супруга, она «на закуску» приняла смертельную дозу мышьяка. Супруг также покончил с собой, а его маленькая дочка оказалась одна в волчьем мире.
Этим описанием несостоявшегося «простого человеческого счастья» госпожи Бовари, заключенного для нее в формуле «веление плоти, жажда денег, томление страсти», и пронял Флобер общественность в разных странах и в разные времена. Судьба пошлой пустышки, предавшей своего мужа и ребенка и вместо покаяния наложившей на себя руки, оказалась близкой многим людям, живущим такойжеипочтитакойже жизнью. Во всяком случае, о трагедии тщедушного мирка героини говорить можно только с большой натяжкой, а все ее страсти на поверку оказались мыльным пузырем.
В середине XIX в. реализм для публики был внове и шокировал, поскольку все привыкли к романтике описаний. В XX в. читатели оказались не только в плену совершенного стиля произведения, но и в шорах литературной критики, для которой образ похотливой самочки стал стягом, которым размахивают сексуально озабоченные интеллектуалы, пытающиеся еще больше раскрыть «трагичность» образа госпожи Бовари. Увы, в сбитой ими пене не разглядеть тривиальности и пошлости их рассуждений – уж очень пена объемна, шипуча и искрится пустыми словами.
В 1864 г. Ватикан запретил «Госпожу Бовари» и внес ее в «Индекс запрещенных книг». Думается, не без оснований. Но, как мы сегодня понимаем, это не помогло бы и априори. Образом убийц и самоубийц уже никого не удивишь, не шокируешь в мире, перелицованном без Бога под них.
На русский язык роман перевел Н.М. Любимов.
Из множества экранизаций можно выделить две: американскую 1933 г. – «Порочная любовь» режиссера А. Рея, и французскую 1991 г. – «Госпожа Бовари» режиссера К. Шаброля.
Иван Александрович Гончаров
(1812–1891)
«Обломов»
(1847–1857)
Написанию своего знаменитого романа «Обломов» русский прозаик и литературный критик Иван Александрович Гончаров (1812–1891) отдал 10 лет (1847–1857). К старту этого стайерского литературного забега он уже прославился романом «Обыкновенная история», тепло принятым публикой и высоко оцененным критикой, в частности, В.Г. Белинским. Работу над новым произведением писатель совмещал суспешной службой на самых разных должностях: столоначальника Департамента внешней торговли министерства финансов, секретаря адмирала Е.В. Путятина на парусном военном фрегате «Паллада» в кругосветном плавании 1852–1854 гг., цензора Министерства народного образования. Выходу в свет «Обломова» предшествовала публикация путевых очерков «Фрегат "Паллада "», о которых Гончаров сказал, что они принесли ему «одно приятное, не причинив ни одного огорчения». Также ни одного огорчения не принес автору и его новый роман, о герое которого И.С. Тургенев сказал (постфактум – прозорливо и пессимистично): «Пока останется хоть один русский, – до тех пор будут помнить Обломова».
Первый отрывок «Сон Обломова», названный автором «увертюрой всего романа», был напечатан в феврале 1849 г. «Бесспорно, что «Сон» – необыкновенная вещь», – отозвался об этой главе М.Е. Салтыков-Щедрин. Завершил «Обломова» писатель в 1857 г. за границей, в Мариенбаде. Через два года роман был опубликован в журнале А.А. Краевского «Отечественные записки».
В романе нет обличений и протеста против социального устройства жизни, автор не зовет на баррикады, в душе главного героя произведения царят мир и согласие, но по прочтении много лет не оставляет мысль – а в чем истина? Может быть, в таких вот остановленных автором мгновениях: «Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы». Подобных перлов в романе множество.
Петербургский барин Илья Ильич Обломов, молодой человек лет за тридцать, не обремененный семьей, должностью и хозяйственными заботами, вел праздную уединенную жизнь на своем диване, чаще в полудреме или во сне. Обслуживал его, как умел и как хотел, слуга Захар. Илью Ильича не заботили ни проблемыродового имения 06-ломовки, которое усердно обирал староста, ни светская жизнь, ни даже прогулки на свежем воздухе. Жизнь в Петербурге была чужда Обломову, и он отгородился от нее стенами своего жилища. Илья Ильич стал отшельником больше не из-за лени, а потому что не нашел правды и смысла в службе и в обществе. Не принимая неискренность в отношениях людей («Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон… Зачемже они сходятся?»), Обломов изолировался от мира, чтобы «спастись», сохранить душу среди океана зла. Правда, тем самым он закопал и свой талант в землю. Обломов готов был увидеться лишь с другом детства, ровесником Андреем Ивановичем Штольцем, который помог бы разобраться ему в хозяйственных неурядицах.

Портрет писателя И.А. Гончарова. Художник И. Крамской
Илья Ильич попал в столицу из Обломовки, которую иногда видел в сладких снах, в которой «счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть». В ней, оставшейся в невозвратном прошлом, все дышало спокойствием, все мирно жили, ели, спали, беседовали. В ней была нега детства…
Но вот явился деятельный Штольц, наполовину русский, наполовину немец, полная противоположность Обломову, и сны и ничегонеделанье барина закончились. Друг вытащил ленивца из постели и повез его по гостям. Своей энергией Штольц заразил приятеля, тот стал интересоваться происходящим вокруг и даже влюбился – в Ольгу Ильинскую, обладавшую прекрасным голосом и довольно настырным характером. Пока барин пребывал в мечтах, Захар женился на Анисье, приведшей в порядок холостяцкую берлогу Обломова. Сам Илья Ильич не спешил кардинально менять образ жизни, переехал на другую квартиру, где его новая знакомая Агафья Матвеевна Пшеницына взяла управление хозяйством в свои руки, наладила быт, готовила вкусные блюда, и Илья Ильич был вполне счастлив. Почти как в детстве.
Регулярные встречи Обломова с Ольгой породили слухи об их свадьбе, но Ильинская все более разочаровывалась в своем бездеятельном избраннике, пока и вовсе не оставила его. Тем временем брат Агафьи Матвеевны, пройдоха Иван Матвеевич Мухояров стал прибирать к рукам Обломовку Штольц спас друга от разорения, разоблачив махинации Мухоярова, а Ильинской сделал предложение. Ольга дала ему согласие.
Через несколько лет Андрей Иванович навестил приятеля и убедился, что тот тоже нашел свое тихое счастье с Агафьей Матвеевной, родившей ему сына Андрюшу. Именно гражданская жена героя романа стала образцом бескорыстной любви к Богу и к своему ближнему. Совместная жизнь с Пшеницыной стала для Ильи Ильича не только продолжением его жизни в Обломовке, но и ее завершением – спустя еще несколько лет он умер от горячки. «А был не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло; благороден, нежен, и – пропал!» Но при этом на могиле героя, «кажется, сам ангел тишины охраняет сон его».
Андрюшу выпросили на воспитание Штольцы, аАгафья Матвеевна жила с памятью «о чистой, как хрусталь, душе покойника». Захар побирался на улицах.
Писатель И.Ф. Анненский, высоко оценивший «Обломова» и сказавший о его авторе: «Гончаров был писатель чисто русский, глубоко и безраздельно национальный», выразил только одну точку зрения. Другую высказал критик Д.И. Писарев: «В этом романе разрешается обширная, общечеловеческая задача». Действительно, Гончаров в образе Обломова явил не только России, но и всему миру чистого человека с доброй душой, который вместе с Дон Кихотом и Кола Брюньоном заслуженно занял литературный Олимп. У этих трех героев есть точка соприкосновения – каждый из них по-своему противостоит мировому злу. Обломов не берет его в голову, как если бы его и не было вовсе. Для него зло сосредоточено в основном в «напрасных хлопотах», связанных с житейской суетой и наживой денег. В этом он и не желает участвовать, благо, обстоятельства помогают ему жить безбедно и в душевном комфорте. (О чем мечтали и мечтают миллионы не только россиян, но и людей по всему свету.) Может, и впрямь, только в этом случае зло и исчезает вовсе, если каждый человек отказывается от него не только в границах своего существования, но и даже в мыслях? Но это уже за гранью литературных рассуждений.
Лет 50 назад (да и сейчас) в «средней» школе особое внимание учеников обращали на просторный восточный халат и туфли главного героя романа Ильи Ильича: «Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу». Такие акцентируемые учителями детали заслоняли главное в романе – его идею, а халатом и туфлями скрывали душу героя, которая «так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки». Ладно бы дело ограничивалось этими мелочами. Дело в том, что, сам того не желая, Гончаров накануне крепостной реформы приготовил своим романом демократической критике грандиозный подарок, которым она не преминула воспользоваться, с блеском проявив свой популизм. Выдрав «Обломова» из земли, отделив от него корни и крону, Н.А. Добролюбов и иже с ним стали размахивать «обломовщиной» как «дубиной интеллигентской войны». Начав гвоздить власть за поражение в Крымской кампании, за крепостничество, они передали своим преемникам право добивать уже и саму «ленивую» Россию. Конечно же трудно отрицать явление «обломовщины», подразумевая под ним не только барскую лень и паразитизм помещиков, но еще и взяточничество, и разные злоупотребления чиновников – вот только все это не имеет никакого отношения к самому Обломову. Ведь «обломовщина» вовсе не синоним мечты Ильи Ильича, а нечто прямо противоположное ей. Мечтой Обломова была «поэзия» жизни.
По мнению специалистов, название романа и фамилия главного героя имеют множество интерпретаций. В частности, в слове «обломок» находят ассоциацию: обособленный умиротворенный мирок Обломовки – «обломок патриархального Эдема». Наиболее верной представляется трактовка романа, как православного (В.И. Мельник) – о духовном сне человека, о попытке «воскресения» и, наконец, об окончательном погружении в «сон смертный».
В СССР «Обломова» неоднократно инсценировали и экранизировали, большей частью неудачно и предвзято, главный упор делая все на ту же пресловутую «обломовщину».