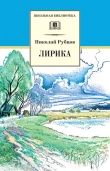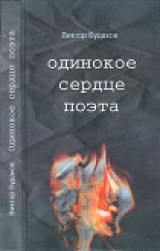
Текст книги "Одинокое сердце поэта"
Автор книги: Виктор Будаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
Еще в первой половине девятнадцатого века слышатся предостережения против всеобщей купли-продажи слова. Пушкин – «Было время, литература была благородное аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок». Пушкину вторит Шевырев – «Торговля теперь управляет нашей словесностью… Поэзия одна не покоряется спекуляции…». Боратынский видит безнравственную неразборчивость «торговой логики» и, тревожась, пишет:
«Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств… Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного».
Внимательно Прасоловым освоенный Заболоцкий, решительно не принявший НЭП, пишет о маклаке (он же маклер, сводчик, посредник при продаже-купле, прасол, базарник, биржевой плут), пишет как чуть ли не о главной фигуре вселенной, – разумеется, в стиле гротескного снижения и завышения: «Маклак – владыка всех штанов, Ему подвластен ход миров, Ему подвластно толп движенье».
А Прасолов? Рынок, торг, прагматически-синтетический мир, который «… жиреет, наглеет, становится деловитым и деловым до отвращения», – это не для него, и он об этом заявляет не раз. «На ярмарку никогда ни шагу», «Духовное… не для сегодняшнего рынка».
Тотальный рынок, спех и бег, скорость автострад и железных дорог, небо, иссеченное трассами, стрелы – следы реактивных, ушедшие деревни, сияющие города, эхо стрельбы, гул металла… «А мирозданье ищет выход из земного тупика», живущий ищет свой путь, и где и каков он – не нам судить.
Смотрю на лицо молодого Прасолова с пытливыми, строгими, искренними глазами. Глазами, не допускающими даже тени намека на позу, неправду, художественное лукавство. Как много эти глаза, это лицо обещают, как много выстрадают душа и сердце!
И ни к чему задаваться вопросами – почему равнодушен был к своему житейскому, почему сжигал себя, почему рано ушел.
Ушел он рано, но свой Путь прошел до конца.
И как завещание. Живи на земле так, чтоб видеть Небо!
«Дорога все к небу да к небу…»
Эпилог
Осенний день. Юго-западная окраина Воронежа. Кладбище.
Прасоловская могила – в удалении от печальных входных ворот – в глубине кладбища. Прямые дорожки, разделяющие квадраты, железные контейнеры, забросанные пришедшими в негодность венками, черными лентами, сухими ветками. Под кронами – пестрота оград.
В его ограде – чугунная плита-надгробье, на плите – фамилия, имя, отчество, даты жизни и смерти. В ограде – барбарис, острый, колючий, как образ-символ. Море сосны вокруг. Словно и сосна нездешняя, россошанская, в молодости им и высаженная на россошанских песках, сошлась здесь. В прощальном единении и сошлись. На придонской, воронежской, русской земле. На божьей ниве.
Городские гулы сюда почти не долетают. Редкие машины, тихие голоса скорбящих. Тишина – любимое, сокровенное прасоловское слово. «Дай тихо подойти и тихо назваться именем своим…»
Тишина.
«Ведешь записки, когда жизнь „благополучна“. Но сколько главного, большого осталось без записей!» – эти строки из прасоловского дневника лишь подтверждают, что письменные самосвидетельства раскрывают малую толику жизни и не могут поведать во всей полноте о драме творческой личности – в массе и вне массы, во времени и вне времени, в пространстве земли и неба.
Большая часть жизни каждого человека скрыта и для сторонних глаз, и даже для него самого. В каждом человеке – Вселенная. В талантливом, отмеченном даром Божьим, – тем более. Можем только догадываться, о чем помимо им сказанного мучительно думал поэт, что так и ушло думою, болью – не отданное листу бумаги. Видим большой Путь от проселочной дороги и в беспредельность, но сколько всего и разного было на этом пути, не расскажут и совокупно все, кто поэта знал, – даже объединись они в коллективного повествователя.
Писать книгу о таком человеке трудно. Внешняя сложность – в биографической обрывной краткости, в географической, событийной непротяженности и обыденности. Но есть внутренняя сторона – найти главный корень, почувствовать главный нерв, самое существенное в человеке, может, даже им самим не до конца рассказанное. Но в биографических изданиях подобное – редкость. Прочитай ушедшие, что пишут о них живущие, – иные бы, наверное, подали голос: «Сожгите книги о нас, это вполне справедливая защита наших посмертных прав!» Пишущие из лучших побуждений, преисполненные отзывчивой чуткости, и они обычно не являют всей глубины ни в понимании драмы творческой личности, ни в понимании драмы самого творчества.
И однако биографические книги были, есть и не прекратятся.
А имена, по духу близкие Прасолову, будут и впредь притягивать. И может – все крепче: чем ни ближе великие катастрофы, тем вернее люди чувствуют приближение их. И тем больше их волнует судьба предвестников катастроф, чаявших гармонии и света, но и видевших грозные знаки конца.
Муза
Лет за десять до ухода из жизни поэт говорил о неясности своего завтрашнего дня, но знал точно: «Одна муза будет скрашивать мою дикую судьбу».
А незадолго до ухода пишет чистое стихотворение «На рассвете». У Прасолова редкие стихи предваряются названиями. Здесь название говорящее: рассвет – пробуждение, восход поэтического начала в отроческом сердце. Мальчик словно бы вдруг увидел окрестный мир непривычным, преображенным. Странная – не веселая, не печальная – захватывает его дума. Ему словно кто-то подсказывает слова, и на молодом снегу он вычерчивает: «Этот снег не белый – розовый, он от снегиря. На рассвете из Березова проходил здесь я…» Проходил да и проходил! Но переполняющие мальчика чувства выливаются в стих, в котором – и радость, и боль. И дерзость, которую пытается в зародыше усмирить некий препятствующий ДУХ.
Стихотворение рассветно-чистое. Но и трагическое. Что ждет отроческую поэтическую душу? В какой ее замкнет житейский круг? Упомянутое выше Березово – реальность: главное село Березового района, а район – с двумя тюрьмами, где выпало испытать неволи и Прасолову, и, быть может, еще не одному, пусть из безвестных, но награжденных даром видеть мир поэтически.
Разумеется, муза может являться человеку, независимо под каким небом, солнечным или пасмурным, независимо, где он находится – в чистом поле или за колючей проволокой. Муза забирает поэта полностью, поэт и не противится ее ревнивой власти. «Уходи, я с ней один побуду», – такие слова, надо думать, едва ли в радость возлюбленной, другу, кому бы то ни было из близких, но тут ничего не поделать: диктует муза. Заболоцкий, внимательно и благодарно прочитанный Прасоловым, остро чувствовал этот диктат: «И куда ты влечешь меня, темная грозная муза, по великим дорогам необъятной отчизны моей?» Она, как душа: единственна, неповторима в каждом носителе поэтического. У нее есть друзья, недруги, попутчики, есть злоба дня, но и величавая вечность.
Музе непосредственно поэт приносит, словно дань, посвятительные строки. В ней, музе, в ней, поэзии, – и незримая сила, и тайна, и ясность. Поэзия уводит в даль, кажется, что на ее необозримых полях можно в избытке взять доброй свободы. Поэзия повелевает взойти столь высоко, что свет видишь так, как видят только в смертный час. Но это одна ее ипостась. Должно отдать житейскую свободу, как только она является. Вознесение с нею к «солнечному входу» требует великой цены. Муза не дает обольстить себя словесными побрякушками, ей надобно слово – «судьбой рожденной твоей».
В поэте всегда есть некий доверенный посланец музы, таинственный двойник – или дремлющий, или бурно вдохновенный. И когда он вдохновенен – в нем всегда «чувство дали». А что за даль, и как слово отзовется – он не ведает: «И сам он думает едва ль, что вдруг услышат близь и даль то, что сейчас он шепчет».
Ревнива муза, ревнивы и поэты, когда о ней речь.
У Боратынского нераздельное – «Любовь камен с враждой фортуны». И дабы вечерний час выдался мирный, тихий, спокойный, от музы ласковой отрываться приходится мучительно.
Некрасов однажды горько сетует, что рука его «у лиры звук неверный исторгала», хотя он – не из торгующих лирою.
Есенин о «милой лире» своей пишет: «Я не отдам ее в чужие руки, ни матери, ни другу, ни жене. Лишь только мне она свои вверяла звуки и песни нежные лишь только пела мне».
Твардовский был убежден, что «вся суть в одном-единственном завете» – сказать свое вызнанное, выстраданное слово, не передоверяя его никому, даже Льву Толстому.
Анатолий Передреев в одно время с Прасоловым писал: «Пусть девочка русая – муза не изменит тебе никогда»; не изменит, если хранят Пушкин и Блок честно пишущего.
Когда-то русский мыслитель Николай Страхов тонко почувствовал причину, по которой тургеневский Базаров отрицает искусства, враждебен музе и лире. В мелодиях Шуберта и в стихах Пушкина «он чует их всеувлекающую силу и потому вооружается против них». Но в мелодиях Шуберта, в стихах Пушкина – словно бы музыка Бога, чаемый идеал гармонии, их власть и сила пронизаны высшим светом. А как быть с музами, эхо которых – из бездны? Или с музами, которые то возносят ввысь, то низвергают в пропасть?
Задача прасоловской музы посерьезней, нежели по всякому поводу «заявляться» и срывать шумные восторги.
Поэт – против подмен во всем. Истинно – «Хочу обманчивое смыть, чтобы единственное имя могло на каждом проступить». Миг, что «безлик и безымянен», – страшен.
Здесь невольно вспомнишь и Рембо, который задал поэзии непосильные задачи, и, видя неосуществимость их, ушел из поэзии. Прасолов поступил еще жестче.
Не заботясь о том, сколь неудобна, тяжела дорога, муза Прасолова идет в одиночестве, но высокие лучи классики пронизывают ее, как ангелы света.
С детства Прасолову родные – Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Еще – «Кобзарь» Шевченко. Еще – Кольцов. Позже – Бунин, Блок, Ахматова, Есенин. И тогда же – Боратынский, Тютчев, Заболоцкий, Шолохов, Луговской. И, разумеется, Твардовский. Их имена мелькают в письмах, дневниках, стихотворных эпиграфах, и все они овеяны пушкинской строкой, прописанной по России и миру.
Пушкин сопровождает Прасолова, как всякого человека, взыскующего идеального, гармонического, жизнеравного, от первого сознательного дня до последнего. В прасоловской строке он присутствует незримо и зримо. От прямых цитирований и ссылок, весьма ответственных, вроде «И я, как Пимен, говорю» до стихотворения с названием «Пушкин», в котором автору никогда не виденное им «…море теплое шумит, Но сквозь михайловские вьюги…»
Пушкин для Прасолова – мера всего истинного. У него народное, платоновское отношение к нашему национальному гению – читать его бережно, возвращаться к нему постоянно.
Пушкин – явление золотого века России: «Там Пушкин встал у основанья, у изголовья – Лев Толстой». Но Пушкин – и современник всех веков, всех поколений.
Впервые попав в Москву, Прасолов, прежде чем появиться у Твардовского, идет к бронзовому Пушкину – великому опекушинскому памятнику, и этот зигзаг как бы подчеркивает преемственность отечественного поэтического слова.
В снежную буранную полночь в Репьевке, одном из райцентров Воронежской области, Прасолов читает хозяйке квартиры «Руслана и Людмилу», читает в один присест от начала до конца. И записывает в дневнике:
«О, Пушкин! Будет метель. Будет Россия, и будет голос твой!»
Память
Необходимо сказать слова благодарности ушедшим и живущим, всем, кто так или иначе был соучастником прасоловского мира, кто понимал и понимает поэта, – его честное сердце, строгую душу, проницательный разум. Его высокий дух. Первое и великое спасибо – матери поэта. И малой родине. Спасибо всем проселкам и местам, где он побывал, – пусть даже и горестным, – поэт и там жил жизнью живой! Спасибо тем, кто помог ему на первых порах литературной деятельности, кто родственно и душевно был с ним рядом в трудные и горькие годины жизни, кто проводил его в последний путь.
После ухода поэта из жизни в Воронеже издаются сборники его произведений, все более полные. Их последовательность: 1976 – «Алексей Прасолов. Осенний свет. Стихи.» Предисловие В. Скобелева; 1984 – «Алексей Прасолов. Стихотворения, поэмы, повесть, статьи, письма.» Составление Р. Андреевой-Прасоловой, послесловие А. Абрамова; 2000 – «Алексей Прасолов. „И душу я несу сквозь годы…“». Составление Р. Андреевой-Прасоловой, послесловие В. Акаткина. Этот последний, наиболее полный сборник прасоловских произведений издан Центром духовного возрождения Черноземного края, переиздан Центрально-Черноземным книжным издательством.
Выходят книги поэта и в Москве. Их последовательность: 1978 – «Алексей Прасолов. Стихотворения». «Советская Россия». Составление и вступительная статья В. Кожинова; 1983 – «Алексей Прасолов. Стихотворения, фрагменты из писем». «Советская Россия». Составление В. Кожинова, И. Ростовцевой, вступительная статья В. Кожинова; 1988 – «Алексей Прасолов. Стихотворения». «Современник». Составление Р. Андреевой-Прасоловой, послесловие Ю. Кузнецова, рецензенты И. Ростовцева, Ю. Кузнецов, художник С. Косенков.
Прасоловское творческое наследие открывается все новыми гранями – в газетах, журналах, альманахах, ежегодниках в разные годы появляются прежде неизвестные широкому читателю поэтические и прозаические произведения Алексея Прасолова («Жестокие глаголы», «Подъем», 1980, № 3; «Безымянные», маленькая трагедия, «Литературное обозрение», 1984, № 2; «Ранняя строка», «Коммуна», 1988, 30 апреля; «Неизвестные стихи Алексея Прасолова», «Дон», 1988, № 8).
В разные годы, в разных изданиях много опубликовала и о поэте, и непосредственно прасоловских строк И. Ростовцева, хранительница богатейшей переписки с А. Прасоловым.
Не так давно вышла в свет подготовленная ею большая книга – «Алексей Прасолов. Я встретил ночь твою.» (Роман в письмах. М., Хроника, 2003), где широко представлены прасоловские письма, неизвестная проза, рисунки.
Существует большой корпус сказанного, написанного о поэте учеными-литературоведами, критиками, писателями, поэтами – А. Абрамовым, В. Акаткиным, Л. Аннинским, Вл. Гусевым, А. Жигулиным, В. Кожиновым, Ю. Кузнецовым, В. Кулиничевым, С. Риммаром, Н. Банк, В. Скобелевым, В. Семеновым, А. Вольданом, О. Ласунским, А. Поповым, О. Разводовой… О поэте вспоминают хорошо знавшие его М. Шевченко, И. Татаренко, Е. Новичихин, В. Белов, В. Самойлов, В. Шуваев… Есть большой «венок» памяти – из поэтических строк.
На седьмом съезде писателей СССР 1 июля 1983 года Ст. Куняев свое выступление посвятил Прасолову, его стихотворению «Еще метет во мне метель…» – одному из лучших о Великой Отечественной войне.
К пятидесятилетию поэта Воронежская областная научная библиотека имени И. С. Никитина подготовила библиографический указатель литературы – «Алексей Тимофеевич Прасолов» с послесловием Вл. Гусева.
С 1987 года работает комиссия по литературному наследию Алексея Прасолова.
Путь в будущее
Творчество Алексея Прасолова, как всякое значительное, не застывшее в своем часе явление, духовно соучаствует в нынешней нашей жизни и продолжает путь в будущее.
Очевидное: без поэтического слова Алексея Прасолова, которого в свое время заметил, высоко оценил и представил читающей России ее великий поэт Александр Твардовский, немыслимо во всей полноте увидеть и понять образ отечественной поэзии двадцатого века. Столь же очевидное: творчество поэта по-своему не только отобразило сложное, драматическое движение личности, народа, страны и мира в двадцатом веке, но в чем-то оказалось пророческим, адресованным будущему: в контрастах, разломах, противоборствах как человеческих судеб, так и земных да и космических сфер, запечатленных в его слове, угадан век двадцать первый, в самом начале которого замаячили тени и сполохи новых социальных, религиозно-этнических, техногенных всемирных потрясений.
Хочу повторить свои слова о Прасолове, сказанные давно: чем дальше он от нас в своем часе физического ухода, тем ближе духовно. Тем ближе его поэтическое наследие, ибо свойство истинной, серьезной поэзии – укрупняться со временем, становиться необходимой многим.
Уходит неглавное, мелкособытийное, плоскобытовое, случайное. Остается Слово. Прасолов никогда не гремел речами, не спешил к микрофону и на телеэкран, не спешил «заявиться». Не размениваясь на суетное, он пронес свое слово по жизни верно и строго.
Ныне о нем говорят провинция и столица, к его творчеству обращаются за рубежом. А у нас, в Воронеже?
Есть мемориальная доска на бывшем доме губернатора (проспект Революции, 22), где после войны располагался «Молодой коммунар» и где Прасолов работал в 1953–1955 годах. Мемориальная доска – как бы свидетельство того, что город взял поэта в свои верные и вечные спутники. Есть улица имени Алексея Прасолова. Проходят прасоловские встречи, появляются статьи о творчестве поэта, строка Прасолова не редкость на страницах местных изданий. К семидесятилетию поэта его имя присвоено одной из воронежских библиотек. Администрация области помогла выпустить в свет объемный сборник прасоловских произведений.
И все же… Как творческий мир неисчерпаем и не имеет последней точки, так и человеческая память завершающего шага не имеет: она живет и углубляется в каждом новом поколении. По крайней мере, так должно быть.
«Смерть живая – не ужас, Ужас – мертвая жизнь», – сказал поэт перед своим уходом, и трагические эти строки заключают многое: философское и бытийное, личностное и национальное. Не здесь углубляться в них. Но если есть «мертвая жизнь», – беспамятная, обесчеловеченная, обезбоженная, – то есть и живая жизнь, и она не может осуществить себя вне честной памяти – в сердце, в слове, в делах рукотворных.
Убежден, пришло время поставить памятник Алексею Прасолову на воронежской земле. Другие литературные края нашего Отечества благодарно воздали должное своим рано ушедшим сыновьям-поэтам. На вологодской земле воздвигнут памятник Николаю Рубцову, на владимирской – Алексею Фатьянову, на близкой к нам черноземной Орловщине – Дмитрию Блынскому.
Не обязательно это должен быть монумент, скульптурное изваяние во весь рост. Еще в позапрошлом веке из мрамора высеченный бюст Кольцова, небольшой, исполненный изящества, радует взоры уже стольких поколений воронежцев и гостей города. Художественная убедительность достигается вовсе не массой камня или бронзы.
У Прасолова было сложное отношение к цивилизации, прогрессу, городу. И все же о нашем городе он (не сторонник конкретного, предметного, краеведческого в поэтической строке) сказал в стихотворениях «Вечный огонь», «Чернявский мост», «Аэропорт перенесли…».
О Воронеже он писал:
И вел нас город, вставший на холмах,
В торжественной раскованности русской…
Должен быть (и, верю, будет) на нашей земле памятник Алексею Прасолову. Поэту-гражданину. Поэту-лирику. Поэту-философу, достойно продолжившему традицию высокой поэзии мысли – традицию Боратынского, Тютчева, Заболоцкого.
1980—2001

Алексей Прасолов. Фото 1956 года.
Из архива А. Т. Прасолова (хранится у вдовы поэта Р. В. Андреевой-Прасоловой).

Автограф стихотворения А. Прасолова «Ладоней темные морщины».
Из архива А. Т. Прасолова.

Мать поэта Вера Ивановна Гринева (урожденная Литвинова) у дома в селе Морозовка. 1988 год. Фото В. В. Будакова.

Автограф стихотворения А. Прасолова «Криница».
Из архива А. Т. Прасолова.

«Прасоловская» криница в селе Ивановка – на родине поэта. 1986 год. Фото В. В. Будакова.

Вера Опенько, первая любовь А. Прасолова.
Фотокопия из архива В. В. Будакова.
Памяти В. Опенько поэт посвятил стихотворение «Я не слыхал высокой скорби труб».

Автограф стихотворения А. Прасолова «Я не слыхал высокой скорби труб».
Из архива А. Т. Прасолова.

Станция Россошь в начале Великой Отечественной войны.
Фотокопия из архива В. В. Будакова.

Алексей Прасолов среди учащихся Россошанского педагогического училища. Фото 1951 года.
Из архива А. Т. Прасолова.

Алексей Прасолов. Фото предположительно конца 1950-х годов.
Из архива А. Т. Прасолова.

Борис Иванович Стукалин

Алексей Прасолов. Точная дата фотографии не установлена.
Из архива А. Т. Прасолова.

Александр Трифонович Твардовский

Анатолий Михайлович Абрамов.
Фото из архива В. В. Будакова.

А. В. Жигулин, В. В. Семенов, А. Т. Прасолов. 1966 год. Фото А. М. Костина.
Из архива В. В. Будакова.

Воронеж, пр. Революции, 22. Здесь размещалась редакция газеты «Молодой коммунар», в которой в 1953—1955 годах работал А. Т. Прасолов.
На этом доме в 1996 году установлена мемориальная доска.
Фото В. В. Будакова.


Воронеж, ул. Беговая. Дом, в котором прошли последние дни жизни поэта. Фото В. В. Будакова.

Алексей Прасолов на Дону. Фото предположительно 1971 года.
Из архива А. Т. Прасолова.

А. Т. Прасолов с женой Р. В. Андреевой. Село Хохол. 1970 год. Фото Н. С. Молотовой.
Из архива А. Т. Прасолова.

Рисунок А. Т. Прасолова и его автограф посвящения на макете книги «Во имя твое». 1970 год.
Из архива А. Т. Прасолова. Публикуются впервые.

С. С. Косенков. Портрет А. Прасолова. Из серии иллюстраций к поэзии А. Прасолова. 1985—1988 годы.
Из архива Р. В. Андреевой-Прасоловой.

Суперобложка книги Алексея Прасолова «Стихотворения», изданной в Москве в 1988 году издательством «Современник» с иллюстрациями художника С. С. Косенкова и послесловием поэта Ю. П. Кузнецова.

Прижизненные издания Алексея Прасолова: «Лирика» (1966) – в Москве; «День и ночь» (1966), «Земля и зенит» (1968), «Во имя твое» (1971) – в Воронеже.

На вечере памяти А. Прасолова в Воронеже в Центре духовного возрождения Черноземного края. 2000 год. Фото Н. В. Стребкова.

Алексей Тимофеевич Прасолов. Середина 1960-х годов. Фото А. М. Костина.