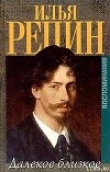Текст книги "Юность Куинджи"
Автор книги: Виктор Шутов
Соавторы: Семен Илюшин
Жанры:
Повесть
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
За два дня до ярмарки на улицах Мариуполя, прилегающих к базарной площади, стоял колесный скрип телег и арб, огромных возов и повозок, слышались понукание лошадей и покрикивание на волов, ругань мужиков и причитания баб. Свистели бичи погонщиков, мычал и блеял скот. Ехали и шли крестьяне из близлежащих сел и хуторов. Купцы и мещане из Таганрога и Павлограда, Орехова и Александровска, даже из самого Екатеринослава везли железные, бакалейные, мануфактурные товары. Тянулись груженые подводы из Бахмутского уезда с сосновым и дубовым лесом, с каменным углем и Зкелезом, с шерстью и солью, с яровым и озимым хлебом. Из‑за Кальмиуса с земли войска донского, а также из Черноморья шли обозы с таранью и рыбьим жиром, с икрой, с донскими и судакскими винами. Из Чугуева пригоняли отменных рысаков.
Местные обыватели уставляли торговые ряды свечами и мылом, макаронами и кожей, коврами и полстями[47]47
Покрывало для ног в экипаже.
[Закрыть], седлами и сбруей, сафьяновыми сапожками и туфлями, расшитыми различными узорами, отделанные серебром и золотом головные уборы и рубахи. Однако над всем преобладала рыба разных сортов и копчения. Аппетитный дух поднимался не только над тысячеголосой ярмаркой, ко и висел над всем городом, словно в каждом дворе отворили враз погреба и сараи, амбары и коморки, засеки и схроны, где всю зиму пребывали летние и осенние дары Азовского моря, Кальмиуса и Кальчика. Тающая во рту чуть солоноватая красная рыба, просвечивающийся на свету, солнечного цвета рыбец, истекающая жиром скумбрия, белая и мягкая сула, отливающий розовым сазан, звенящая серебристая таранка, живое золото копченой тюльки, и тут же весеннего улова зубастая щука и головастые сахарные бычки.
Владельцы черепичных и кирпичных заводов предлагали свою продукцию.
Аморети на ярмарке не торговал, но зато неистово торговался. Имел привычку ходить один от воза к возу, из одного ряда в другой и прицениваться к пшенице. В новом темно–синем костюме с жилетом, в коричневом котелке, пахнущий духами, он вместе с Архипом пришел на заре к своим амбарам. Ярмарка проснулась и готовилась к предстоящему торгу.
– До обеда ты свободен. Вот, возьми на сладости, – сказал Спиро Серафимович и протянул двугривенный. – В полдень возвращайся сюда.
Архип, одетый по–праздничному в красную рубашку навыпуск, в жилете, в клетчатых штанах и в мягких кожаных чувяках, бродил от палатки к палатке, выстроенных по кругу на базарной площади. В центре, в несколько рядов, расположились брички и возы. Ярмарка гудела, как густой пчелиный рой. В его монотонность врывались то протяжные, то резкие крики торговцев–лотошников:
– Подходи, молодцы, есть для вас леденцы!
– Бублики–пряники с яблочным наваром – отдаю даром!
Им вторили продавцы–коробейники:
– Сережки и намиста[48]48
Монисто (укр.).
[Закрыть] сработаны чисто! Девице понравится – бесплатно достанется!
– Кому гребешки – для волос и для души!
Взлетали звонкие голоса трактирных зазывал:
– У нас чебуреки – сделали греки! На копейку три, хочешь – ешь, хочешь – смотри!
– Стар и мал, заходи на пилав!
Откуда‑то доносилась тоскующая мелодия шарманки. Невдалеке всплескивалась разудалая игра гармони. А у груженной мешками подводы разгорался горячий спор:
– Уступи по гривне на пуд.
– За такой товар?
– Не лучше, чем у других.
– А чего со мной торгуешься?
Вдруг по–соседству взорвался бабий крик:
– Ах ты ирод! Та щоб тэбэ разирвало на шматкы[49]49
Куски (укр.).
[Закрыть]!
Дородная молодайка в длинной юбке и белой кофточке с красным большим платком на плечах стояла на возу и кому‑то грозила кулаком, выговаривая:
– Та подавысь тою цыбулею![50]50
Лук (укр.).
[Закрыть] Ворюга треклятый!
Ярмарка с каждым часом становилась звонче и голосистее, она кричала, пела, смеялась, гудела, плакала, плясала, спорила; казалось, что поднявшееся в безоблачное небо теплое солнце апреля разогревало ее и наполняло неудержимой удалью. Уже у кое–кого состоялись выгодные сделки, кое‑кто отторговался и поднимал чарку за удачу. Совсем недавно незнакомые люди ныне обменивались новостями, судачили о видах на урожай, делились радостями и бедами.
Возле пустого воза на корзинах, охапках сена и мешках сидели кружком мужики. Посредине стояла бутыль с брагой, лежала домашняя снедь – сало, соленые огурцы, таранка, лук, нарезанный большими ломтями черный хлеб. Мужики смачно ели, то и дело поглядывая на седоусого напарника, который что‑то рассказывал, прерываемый взрывами хохота.
Архип стал позади воза, прислушался.
– А то еще мужик пану досадил, – говорил седоусый. – Раз, как мы ныне, поехал пан с кучером на ярмарку. Когда видит: ведет мужик на ярмарку козу. Ну, пан и спрашивает: «Что за эту козу?» Мужик отвечает: «Дайте коня одного, бо эта коза волков ловит»…
Слушатели засмеялись. Рассказчик минуту подождал и продолжил:
– Пан тогда говорит кучеру: «Ванька, отдадим коня, одним будем ехать, а коза будет волков ловить». Вот, значит, едут они дорогой, видят: стоят два волка. Пан и говорит: «Ванька, видишь волков? Они наши будут». Пустил козу, волки поймали козу и съели.
Громкий смех прервал рассказчика. Он улыбнулся, взял кусок хлеба, положил на него сало и лук, но есть не стал. Заговорил снова:
– Пан и обращается к кучеру: «Ванька, это не та коза, что волков ловит, а волки ее ловят. Мужик обманул нас. Ты стой, а я пойду догоню его и отберу коня».
Долгий, заразительный хохот подвыпивших мужиков привлек других слушателей. Они столпились возле седоусого, закрыли его от Архипа, и ему пришлось протиснуться поближе.
– А мужик тот, что взял коня за козу, завел его в лес и поставил там, – продолжал рассказчик. – Сам вышел на дорогу и видит – едет пан. «Здорово, мужичок! – говорит, – Не видел ли ты – тут не ехал на коне мужик?» «Видел. Он поехал в лес. Дайте мне своего коня, и я догоню его». Пан дал коня, мужик взял того, что в лесу был, и убежал. А пан ждал, ждал его и ни с чем вернулся к Ваньке.
– Так ему и надо, толстопузому! – сказал кто‑то в толпе со злостью.
Седоусый поднял голову и заговорил громче:
– Вот пан и жалуется своему кучеру: «Эй, Ванька, мужик опять обманул меня, взял и другого коня. Ну, как теперь будем ехать? Давай, ты вези, а я буду ехать».
– Они, живодеры, все такие, – тихо сказал сосед Архипа. – Всю жизнь ездят на нашем брате.
Парнишка поднял голову. Рядом с ним стоял в сером заплатанном зипуне бородатый мужик. Архип вздрогнул – ему почудилось, что это Карпов, которого забрали жандармы из строящейся церкви… А рассказчик вел дальше:
– Запрягся Ванька, везет. Вот уже ночь. Доехали они до скирды сена. Стали ложиться спать. Пан в шубе, ему тепло, а Ванька только в жакете, хлопцу холодно. Пан лег в бричку, а кучер залез в мешок и лег под скирду. В полночь Ванька встал, разделся донага и говорит: «Фу, упрел!» «Да ты что? – удивился пан. – Я в шубе замерз, а ты упрел». «Так я в мешке был», – отвечает Ванька. Тогда пан говорит: «На тебе шубу, а меня завяжи в мешке». Ванька завязал пана в мешок, а сам надел шубу, а потом взял кнут да как начал колотить по мешку…
Договорить не дали. Смеялись не только мужики, сидевшие у воза, но и те, что окружили их тесным кольцом.
– То дайте ж закончить, – попросил седоусый. – Ото ж Ванька выпустил пана из мешка, а сам начал стонать и причитать: «Ой, матирь родная, ой боже мой, как побило меня». А пан его поучает: «Потому побило, что ты глупый. Вот я: как меня ударит по одному боку, я сразу на другой повернусь». «Вот видишь, пан, – отвечает Ванька, – ты здоровый, а я побитый, идти не могу». Тогда пан запрягся в оглобли и начал тащить Ивана. А тот тихонько говорит: «Битый небитого везет. Битый небитого везет…»
Снова смех взлетел над толпой, а бородатый мужик, стоявший рядом с Архипом, недовольно прогудел:
– На них бы, проклятых, землю пахать. Совсем кровя наши выпили.
Он отошел от толпы и затерялся среди густой ярмарочной толкучки… Воспоминания о Карпове омрачили настроение Архипа. Ему стало скучно среди шумной ярмарки, и он решил пойти к амбарам.
Неожиданно его окликнули:
– Архип! Постой!
Он повернулся и увидел Настеньку. В красном сарафане, надетом поверх полотняной вышитой кофточки с длинными рукавами, с розовыми лентами в смоляных косичках, восторженная, она подскочила к Архипу.
– Ой, как хорошо, что я тебя встретила! – торопливо заговорила девочка. – Мой папа здесь, продает чувяки. Отпустил меня походить по…
– Здравствуй, Настенька, – перебил Куинджи и взял ее за руку.
– Вот, мне папа дал три копейки, – похвалилась она, разжимая ладонь, – Разрешил купить намисто.
Они выбрались из толкучки и пошли вдоль палаток. Архип не отпускал руку подружки, маленькую и теплую. Ему с Настенькой легко, как в степи. Он немного стыдится девчонки, но в то же время чувствует прилив сил, ибо знает, что может в любую минуту сделать для нее что‑нибудь доброе: защитить от мальчишек–обидчиков или подарить свой рисунок, а придет лето – сплести венок из полевых цветов.
– Навались, бедовые, на пряники медовые! – раздался веселый крик лотошника. – Во рту тают, в животе играют! Как в раю – на копейку два даю!
Навстречу ребятам шел парень в серой поддевке; фуражка с глянцевым козырьком – набекрень, из‑под нее выбивается рыжий чуб. У живота он поддерживал ящик, висевший на ремешке, перекинутом через плечо. Архип, не отпуская Настю, остановил продавца, протянул ему пятак.
– Эт‑то, два пряника, – попросил он.
– Можно и на все, сударь, – отозвался парень и щедро подмигнул: – Для такой мадамы…
Куинджи исподлобья посмотрел на лотошника. То ли не по–детски серьезный взгляд, то ли выразительные черные глаза удивили парня. Он стал серьезным, молча отсчитал сдачу и подал два пряника со словами:
– На здоровьице, сударь!
Архип отпустил Настенькину руку, вложил в нее пряник. Зардевшись, она опустила голову и прошептала:
– Спасибо.
– А ты ешь, ешь.
Стеснительно откусив мягкий пряник, радостно проговорила:
– Ой, какой вкусный! Я таких еще не ела. Ты попробуй свой.
Архип начал есть, поглядывая на Настю. Потом они беспричинно засмеялись, взялись за руки и, покачивая ими, пошли, не замечая вокруг ни многоликой толпы, ни звонкоголосицы ярмарки.
У церковной ограды, где проходила граница торговых рядов, сидели нищие и калеки. Невдалеке от входа во двор храма толпились люди. К ним направились Архип и Настя, пробрались вперед и увидели сидевшего на маленьком пустом бочонке длинноволосого седого старика в белых полотняных шароварах и рубахе. На коленях он держал бандуру, под ее аккомпанемент пел чуть хриплым, но сильным голосом:
Менший брат теє зачуває,
словами промовляє:
«Брати мої милії,
Як голубоньки сивії!
Чи не ті ж мене саблі турецькі порубали, що і вас?
Як вам, братця, не можна на ноги козацькії вставати,
Так же і мені.
Хоч я, братця, буду в тонкії суренки жалібно грати,
То будуть турки–яничари, безбожні бусурмани,
чистим полем гуляти,
Будуть наші ігри козацькі зачувати,
Будуть до нас приїжджати,
Будуть нам живйом каторгу завдавати.
Лучше нам, братця, отут у чистім полі помирати,
Отця і паніматки, і родини сердечної в очі не видати».
Стала чорна хмара на небі наступати,
Стали козаки в чистім полі помирати,
Стали свої голови козацькії в річці Самарці покладати.
Чим тая Самарка стала славна,
Що вона много войска козацького у себе видала.
Бандурист на низкой ноте закончил пение и опустил седую голову. Слушатели стояли, не шелохнувшись. Крестьянка с маленьким морщинистым лицом держала у глаз хусточку[51]51
Платочек (укр.).
[Закрыть] и вытирала слезы. Блестели глаза у полногрудой молодицы, державшей на руках младенца. Над головой Архипа и Насти раздался печальный шепот:
– Та це ж про нашего Миколу вин спивав. Забралы бидолагу на войну з туркамы. Може, вже загынув десь, – и женщина заплакала.
– Пишлы, пишлы звидцы, Ярыно, – отозвался глухой голос, видимо ее мужа. – Годи сэрцэ рваты.
– Нэхай ще заспивае, – всхлипывая, сказала Ярина. – Дай сердешному копийку, дай.
Крестьянин оттеснил ребят и подошел к старику, поклонился и положил медный грош в шапку. Из толпы вышли еще несколько человек и направились к кобзарю.
– Спасыби, люды добри. Спасыби, – сказал он, склоняя голову. – А тэпэр послухайтэ писню нашого батька–заступныка Тараса Шевченка…
Тяжко, важко в світі жити Сироті без роду:
Нема куди прихилиться, – хоч з гори та в воду.
Добре тому багатому: його люди знають:
А зі мною зустрінуться —
Мов недобачають.
Архип все сильнее сжимал руку Насте, но не замечал этого. Неотрывно смотрел на кобзаря, мысленно повторяя за ним горькие слова, будто они ведали и о его сиротской доле. Ему тоже бывает тяжело и трудно. Никто не приласкает, не приголубит. Один, всегда один… Нет, есть Настенька, она – верный товарищ. Парнишка вздрогнул и разжал руку. Виновато посмотрел на девочку. Лицо ее побледнело, на глазах выступили слезы. Он снова схватил тоненькую руку, стал потирать, гладить ее маленькие, посиневшие пальцы.
– И совсем, совсем не больно, – храбро прошептала она.
– Зачем терпела? – спросил Архип взволнованно. – Эт‑то, я… Он поет, – и виновато замолчал, снова уставясь на седого бандуриста, а тот продолжал:
А я піду на край світа…
На чужій сторонці
Найду кращу або згину,
Як той лист на сонці.
Пішов козак, сумуючи.
Нікого не кинув.
Шукав долі в чужім полі,
Та там і загинув…
Не понимая, что с ним происходит, Архип медленно направился к старику, вытаскивая из кармана клетчатых штанов оставшиеся после пряника деньги. Молча положил их в шапку бандуриста и возвратился к Насте. Взял ее за руку и вышел из толпы. Через минуту заговорил твердо, будто кому‑то возражая:
– Эт‑то, я все одно уеду… учиться на художника.
– Уедешь? – упавшим голосом переспросила девочка и вдруг отрешенно, по–взрослому, повторила: – Уедешь… Забудешь меня. Люди становятся большими и забывают.
– Нет, Настенька, – горячо возразил он, – Эт‑то, я тебя никогда не забуду. Стану на–а-астоящим художником, на–а-арисую картину: широкая–широкая степь, вся в цветах. Ты посредине… Красивый венок на голове…
– И пусть гуси рядом, – шепотом попросила Настя. – Белые, белые…
– И наших гусей, – согласился Архип.
– Ой, – неожиданно воскликнула она, – Наверное, папа уже ищет меня. – Сорвалась с места и побежала. – Приходи к нам в гости! – прокричала уже из толпы и затерялась в ней.
Архип направился к амбарам, пересекая ярмарочную площадь. Он торопливо шел вдоль палаток, где толклись мужики и бабы, они торговались, кричали, спорили, переругивались. Только у одной палатки людей стояло немного. Архип приблизился к ней и застыл в изумлении – она с трех сторон была увешана лубочными картинками. Как же не увидел раньше? Сдерживая нахлынувшее волнение, он подошел поближе. На деревянных полках покоились церковные позолоченные книги «Библия» и «Евангелие», попроще – «Житие святых». Рядом в скромных политурках лежали различные переводные романы. Толстые, солидные, в сафьяновых переплетах, находились отдельно, возле них стоял хозяин палатки – жилистый бритоголовый старичок с умными глазами, успевший уже где‑то загореть до черноты.
На отдельных столах были раскрыты листы с гравюрами Густава Дорэ к «Божественной комедии» Данте. Необычайное изображение людей и каких‑то чудовищ заворожило Архипа. В них было что‑то пугающее и в то же время притягивающее. Он перевел взгляд на старика, увидел за его спиной иконы и прикрытые слюдой пейзажи – оттиски гравюр Рембрандта. Но имя великого голландца ничего не говорило Куинджи.
Кто‑то спросил о цене гравюр. Старик назвал, и Архип машинально сунул руку в карман. В нем зазвенели медяки. Достал их и пересчитал – целых пятнадцать копеек. Посмотрел, как покупатели перекладывают и и рассматривают монохромные гравюры, и себе принялся выбирать оттиск. Хозяин увидел его и сказал строго:
– Мальчик, руками не трогай.
– Эт‑то, я хочу купить, – твердо ответил Архип. – Вот эту. – Он показал на небольшой лист с изображением корявого старого дерева, стоящего у самого озера. На противоположном берегу виднелись постройки и две ветряные мельницы.
– А у тебя губа не дура. Понимаешь!
– Сколько стоит? – по–прежнему серьезно спросил Куинджи и вытащил из кармана деньги. – Йт‑то, все у меня, – сказал он и добавил уже стеснительно: – Я люблю рисовать.
– М–да… Маловато у тебя, – проговорил хозяин и погладил загоревшую лысину. Потом с прищуром изучающе посмотрел на парнишку и сказал: – Хотя и знатная картина, да особенно не наживешься на ней. Так и быть – бери. Не часто такие юнцы, как ты, покупают мой товар… Чей же ты будешь?
– Архип я. Живу на Карасевке, – ответил Куинджи и улыбнулся.
– Ну что ж, Архип из Карасевки, желаю тебе нарисовать когда‑нибудь такую же картину, – сказал старик и похлопал его по плечу.
Не чуя под собой ног, счастливый Архип бегом отнес гравюру в свою коморку и положил на тумбочку. Запыхавшийся, возвратился к амбарам. Аморети стоял в кругу подвыпивших мужиков и говорил покровительственным тоном:
– Я вам всегда плачу больше других. Помните это… Даст бог, будет урожай, к покрову богородицы привозите прямо сюда. Не обижу.
Хмельные мужики вразнобой заговорили:
– Благодетель наш…
– Ды–к мы… Мы того…
– Ну, со всей душой…
Аморети не отпускал от себя Архипа до самого вечера. Мужики на возах и арбах везли к амбару мешки с пшеницей. Спиро Серафимович ходил от подводы к подводе, просил развязать то один, то другой мешок, набирал горсть янтарного зерна и пересыпал его с ладони на ладонь.
– Не изволь сумлеваться, хозяин, – говорил мужик.
Но Аморети не отвечал, отходил от подводы и шел в амбар. Здесь он приказывал Архипу:
– Не ошибись, точно записывай.
Солнце уже опустилось на мариупольские крыши, когда они возвращались домой. У ворот дома их повстречал восторженными восклицаниями и всплеском рук расфранченный господин чуть выше среднего роста, годов тридцати пяти.
– Бог мой! Вы ли это, Спиро Серафимович! Похудел в заботах торговых, совсем похудел. Здравствуйте, дорогой мой. Вот снова приехал к вам, и не с пустыми руками!
Слова из него выкатывались гладкие, как морские камешки. И сам он сиял словно новенькая копейка. Круглолицый, с тонкими черными усиками стрелочкой, каштановые волосы до самых плеч симпатично вились из‑под высокого черного котелка. Узкие светлые в голубой отлив и в синюю клетку брюки, дымчатый длинный сюртук с зеленой прожилкой, застегнутый на две верхние пуговицы, на шее красная косынка, повязанная огромным бантом. Остроносые штиблеты, начищенные до блеска, казалось, отражали весь мир. Архип сразу понял: знакомый Аморети не мариуполец.
– Вам кланяется мой любезнейший родственник Дуранте, – продолжал элегантно одетый господин. – Пожалует к вам через три дня.
– Буду рад повидать его, – наконец сумел произне–сти Аморети, – Так же искренне рад видеть вас. Что же мы на улице?
Архип пошел сзади них и слышал отдельные фразы разговора: «Только от Айвазовского…» «Закончил новую»… «Привез новую»… «Хотел бы осчастливить»… Раздался громкий смех гостя и сдержанный Аморети. Потом хозяин повернулся к парнишке и приказал:
– Ступай на кухню, поешь. Понадобишься – позову.
После ужина Архип забился в свою коморку, зажег керосиновую лампу и стал рассматривать купленный оттиск гравюры. В мигающем свете рисунок приобрел таинственность: зашелестела крона дерева, зашевелились крылья мельниц. Прищурив глаза, Куинджи то приближал, то отстранял от себя гравюру, и пейзаж на ней оживал.
Увлеченный, не заметил, как в дверях коморки остановились хозяин и гость. Они несколько секунд постояли молча, затем Аморети спросил:
– Откуда это у тебя?
От неожиданности Архип на мгновенье застыл, держа в вытянутой руке гравюру. Но, узнав голос, медленно повернул голову и ответил:
– Купил на ярмарке.
– Небось, все деньги истратил, что я дал тебе утром?
– Простите, Спиро Серафимович, – прервал гость и обратился к Архипу: – А зачем она тебе?
Парнишка пожал плечами, наклонил голову, исподлобья поглядывая на незнакомца. Тот снова спросил:
– А там были другие картины?
– Были… Эт–та нравится мне.
– Ты прав, – согласился гость и повернулся к Аморети. – Настоящий Рембрандт, великий живописец. У вашего помощника, Спиро Серафимович, отменный художественный вкус.
– У него, по–моему, природные задатки, он рисует, – ответил Аморети. – Архип, этого господина зовуг Феселер, он художник. Помнишь, я тебе говорил.
Куинджи вскочил с топчана и, волнуясь, еле выдавил из себя:
– Эт‑то, вы – на–а-астоящий…
– Успокойся, Архип, – попросил Феселер. – Ты давно рисуешь?
– Не знаю…
– Его брат говорил, что стены пачкает с пяти лет, – отозвался, улыбаясь, Спиро Серафимович. – Как только побелят печь, так и разрисует ее.
– От бога, – задумчиво сказал Феселер. – Но как этого мало для совершенства. Учиться бы таким, но негде. Пока до академии дорастут, все выветрится. – Он вдруг оживился, обратился к Архипу: – Пойдем со мною.
Опережая Аморети, Феселер открыл двери его кабинета. За ним стеснительно вошел Куинджи и растерянно остановился. Ему почудилось, что в комнате исчезла стена и перед ним открылось огромное светящееся море. На берегу, слева, стоял маяк, невдалеке от него – лодка с убранными парусами. Вокруг плавные фиолетово–синие волны. Из‑за желто–оранжевых густых облаков выглядывает солнце. Его розовато–золотистый свет разливается под самый горизонт на водной глади, которую бороздят несколько парусников.
Архип, не веря увиденному, закрыл глаза. Встряхнул головой и снова уставился на картину и тут только заметил, что рядом с ней стоит другая. Мирное ночное море у отвесных скал освещено низкой луной. Ее отраженный свет рябит на темной воде. Насупившиеся густые тучи, просветленные луной, плыли над одиноким корабликом, мирно стоявшим невдалеке от угрюмого берега.
Парнишка пересилил робость, подошел к картине и протянул было руку, чтобы потрогать живые блики на воде, но тотчас с испугом отдернул ее. Попятясь назад, остановился у двери. Начал переводить взгляд с одного полотна на другое и ощутил, как все большее чувство беспокойства и душевного трепета охватывает его. Красками можно было сотворить чудо, юноша подсознательно верил в него, и вот перед ним открылось это чудо, хотя он смотрел на добротные копии, сделанные Феселером с картин Айвазовского «У маяка» и «Мыс Фиолент».
Художник–копиист все время наблюдал за Архипом. Сначала по лицу мальчишки разлилась бледность, глаза заблестели, выражая изумление и взволнованность. Затем они заискрились любопытством, а через некоторое время прищуренный взгляд Куинджи уже оценивал увиденное. Восторг, ошеломление постепенно переходили в естественное восприятие того, что сделал человек своими руками. Наконец, уже совсем спокойный, он обратился к Феселеру:
– Эт‑то вы нарисовали?
– Картины, сделанные с оригиналов, не рисуют, любезный, а пишут. И вообще, красками только пишут, а не рисуют. Вот и я попытался в какой‑то мере приобщиться к оригиналам Айвазовского…
– Не скромничайте, дорогой, – прервал Аморети. – Вот эту, – он показал на «Мыс Фиолент». – Ночное море… Я покупаю. Она станет самым большим богатством в моем доме.
– Нет, нет! – запротестовал Феселер. – Полотно не имеет цены, а потому никаких денег, – Он сделал паузу и патетически закончил: – Я его дарю вам! Считайте, что от самого Ивана Константиновича получили.
– Эт‑то, тоже художник? – спросил Архип.
– Любезный юноша, Айвазовский – гениальный живописец. В России… Больше – во всем мире не бы–ло, нет и не будет ему равного. Оригиналы этих картин создал он. Самое удивительное то, что Иван Константинович почти никогда не пишет с натуры. Он много наблюдает, запоминает или записывает и зарисовывает карандашом.
– Я тоже напишу такие, – неожиданно твердо сказал Куинджи, – Мне бы поучиться у него.
Феселер снисходительно улыбнулся.
– Стремление похвально, – сказал он и с грустью добавил: – Я тоже мечтал стать генералом в живописи, а подвизаюсь в адъютантах.
– Ну, полноте. Такие деньги, как у вас, не каждому даются, – проговорил Аморети.
– Не в одних деньгах счастье, – все так же грустно – отозвался художник. Потом спросил Архипа: – Ты мне можешь показать свои рисунки?
Парнишка сорвался с места, но его остановил Аморети.
– Это не к спеху, – сказал он. – Завтра, а сейчас уже поздно, пора спать.
Выпроводил Архипа за дверь, прикрыл ее, подошел к Феселеру, обхватил за плечи и, довольный, проговорил:
– А мы, с вашего разрешения, за стол сядем. Он давно ждет нас. За ваши картины не грех и по маленькой пропустить. Да и у меня нынче чудесно получилось…