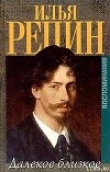Текст книги "Юность Куинджи"
Автор книги: Виктор Шутов
Соавторы: Семен Илюшин
Жанры:
Повесть
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
– Здравствуй, юноша, – заговорил художник. – Вижу, здоров, крепок. Митрич сказывал – рисуешь, ходишь на натуру. Похвально. По дому не откажи, любезный. Вокруг сада выкраси забор. Митрич покажет, как тереть краску.
И снова растерявшийся Куинджи проводил недоуменным взглядом Айвазовского. А тот сел в дилижанс и уехал. Однако не выполнить просьбу художника он не мог. Вместе с дворником притащили под навес ступицу, сурик, вареное масло и принялись за дело. Три дня толкли, перетирали краску, растирали с маслом и перемешивали. Архип, соскучившийся по физической работе, старался изо всех сил. Голый по пояс, он лоснился от пота, часто подбегал к рукомойнику и ополаскивал разгоряченное лицо студеной водой.
Утром, как всегда неожиданно, появился Иван Константинович в сопровождении Митрича. Взял на кисть краску, поглядел, как она стекает в ведро, и велел добавить масла. Сам размешал ее и обратился к Архипу:
– Ну‑ка, любезный, попробуй на заборе.
Они втроем подошли к ограде. Куинджи поставил у ног тяжелое ведро. Митрич подал ему большую круглую кисть–рушник. Он макнул ее в краску и твердой рукой, размашисто положил на доски несколько мазков. Айвазовский улыбнулся.
– Цвет приятный… А ты, юноша, если будешь так широко писать и картины, то со временем станешь знаменитостью, – сказал он, повернулся и ушел.
За покраскою забора Куинджи не замечал времени. Увлеченный делом, он вдруг останавливался, опускал кисть и в который раз пытался вникнуть в смысл сказанной художником фразы. Что было общего между покраской забора и писанием картин? Смущала и его улыбка. Может быть, он хотел скрыть ею насмешку, заключенную в словах: «станешь знаменитостью»?
Вскоре Митрич сказал, что его превосходительство Иван Константинович уехал в Петербург. Архип окончательно понял, что теперь в Феодосии делать ему нечего. Он сложил свои работы в котомку, попрощался с дворником и на заре в конце августа покинул усадьбу Айвазовского.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Брату Спиридону Архип только и сказал:
– Айвазовский уехал в Петербург.
– Ладно, – ответил тот, —Дел по дому хватит. Рыба пошла, будем ловить.
Куинджи даже обрадовался этому. Не нужно будет идти в город, наниматься к Чабаненко или Аморети. Не дай бог, еще встретится с Верой Кетчерджи. Вспоминал он ее весьма редко, но всякий раз чувствовал, как кровь приливала к лицу, вроде бы в чем‑то был виноват перед нею. А вернее, он боялся услышать из ее уст то, что уже мысленно сказал сам себе: взялся не за свое дело. Но потом, в долгих раздумьях, опроверг категорическое утверждение. Не может он жить без рисования, и Феселер не отрицал его способностей, помогал, рассказывал. А разве Айвазовский выгнал со двора? Добрые слова говорил. Но почему все‑таки ни разу не пустил в мастерскую?
Архип истинной причины знать не мог. А у Айвазовского, как у великого мастера, учились уже созревшие художники, прошедшие подготовительную стадию, познавшие азы искусства. У Куинджи был природный талант, но он не имел начальной подготовки, он ощупью шел по пути, который давно был открыт; элементарным художественным приемам обучали рядовые учителя рисования. Айвазовский же был творцом.
Куинджи угнетало неудачное пребывание в Феодосии. Однако постепенно первоначальные выводы утратили свою остроту, и он все больше утверждался в мысли, что посещение Айвазовского принесло ему пользу. С кем бы он охотно поговорил, так это с Шаловановым. Тот понял бы душевное состояние парня, но его наверняка в Мариуполе не было, а идти к Косогубову и спрашивать, когда приедет его кузен, значит, непременно говорить о Феодосии или объяснять причину быстрого возвращения. Ни того, ни другого Архип делать не хотел.
Благо подвернулась нелегкая работа с братьями. Началась осенняя путина. Спиридон, Елевферий и Архип на небольшом баркасе ушли верст за пять на запад от города. На дальних мелях вечером ставили сети, а на заре возвращались за ними. Архип сидел на веслах. На руках пружинились мускулы, становились чугунными, тяжелыми, лодка легко скользила по мелкой зыби. От воды подымалось тепло, и капли пота выступали на лбу.
Пока выбирали сети, бросали на дно лодки судаков, лещей и тарань, рассвет разгорался во все небо. Розоватые лучи падали на зеленоватую воду, перемешивались с нею, и Архипу хотелось порой потрогать их руками. Он помогал братьям, изредка поглядывал на них: обращают ли они внимание на расцвеченное море. Но те были увлечены работой, скупо переговариваясь, оценивали улов, прикидывали, какую выручку он принесет, долго ли продержится хорошая погода.
Зубатые судаки с матовой чешуей, блестящие, как лезвие широкого ножа, тарани и рыбцы трепыхались на дне баркаса, отсвечивая золотыми бликами начинающегося дня. Нагруженная лодка шла к берегу тяжело, на весла садились попеременно то Спиридон, то Елевферий, и Архип мог отдохнуть. Он смотрел на дымчатую кромку моря, над которым подымался вишневый диск солнца. В какие‑то доли секунды цвет волны менялся, исчезали изумрудные оттенки и появлялась голубизна. Никакие силы не могли удержать чудесные переливы природных красок, их можно было только запомнить, и Куинджи впитывал в себя цвета моря. Нет, даже изнуряющая работа не могла отвлечь его от наблюдений за природой, за таинственным превращением света. В нем жил художник, и он все больше убеждался, что рисование, одно рисование может принести ему удовлетворение.
Пока не начались осенние долгие дожди, братья ходили в море за рыбой. Ее сушили, вялили, коптили, во дворе Спиридона стоял запах дыма и пряностей. Под навесами, в сарае, в хате, на горище[56]56
Чердак (укр.).
[Закрыть] – везде была рыба. Архип тоже пропах ею. Несмотря на пасмурную погоду, ходил на Кальчик стирать свои портки и рубаху. Возвращался в Карасевку и, глядя на степь, поражался происшедшим переменам. Какой серой и унылой стала она! Пожухлая трава полегла на мокрую землю, одиноко торчал побуревший репейник, голые кусты терновника просвечивали насквозь. Над раскисшим шляхом медленно проплывали набухшие черные тучи. Вокруг ни птицы, ни зверя.
Сегодня с мокрыми мешками – попросила постирать сестра Екатерина – Архип не спеша возвращался домой. Начал накрапывать мелкий дождь. Потом ударил со всей силой – крупный, сердитый. Пришлось стать у куста шиповника и накрыться мешками. Но они быстро набрякли, одежда стала мокрой, тяжелой. Казалось, что тучи облокотились на плечи парня и прижимают его к земле. Перед ним не было ни степи, ни неба. Свинцовая пелена, густая и бесконечная, скрыла белый свет. Тоска подкатила к сердцу Куинджи, еще ни разу не чувствовал он себя таким одиноким. Вот ляжет в траву и останется здесь навсегда, никому не нужный, лишний в семье братьев, не умеющий ни сапожничать, ни шорничать, ни ловить рыбу. А рисунки его дохода не приносят. Тяжело еще и оттого, что никогда больше не увидит деда Юрка. Умер он летом, когда Архип был в Феодосии. Умер на завалинке, глядя на море, словно заснул сидя. И друга отняли у него – узнал от Екатерины, что Настеньку решили выдать замуж. «Она еще девчонка! – воскликнул тогда Архип. – Как можно?» «Исполнится пятнадцать – отдадут, – ответила сестра. – Теперь к тебе не придет».
Отягощенный грустными мыслями, Куинджи не заметил, как прекратился дождь и на востоке посветлело небо. Заставила его вздрогнуть необычайная тишина. Он сбросил с головы мешок и с удивлением оглянулся вокруг. Тучи уплывали на запад, низкие, угрюмые. Степь, насколько хватало глаз, выблескивала серыми, голубыми, серебряными лужами. Такого он еще не видел. Менялась холодная палитра неба, и дождевые озерца, будто огромные глаза земли, отражали ее.
Архип медленно пошел к дороге. Она где‑то далеко вилась вдоль Кальмиуса, сворачивала вправо, пересекала Кальчик и на виду у моря, а затем Карасевки, уходила в сторону Днепра. По тракту, битому подковами казачьих лошадей и копытами чумацких волов, везли рыб}7 и пшеницу, соль и уголь. Без него нельзя было представить ни приазовских холмов, ни украинской степи, ни жизни крестьянской. Когда‑то и Архип ехал по этому шляху с дядей Гарасем в село Александровку, где добывали черный горючий камень. А вот к Днепру парню еще никогда не приходилось добираться. Может, весной соберется, пристроится к чумакам и отправится в Екатеринослав. Говорят, большой город. Нет, лучше все‑таки в Одессу. Там Айвазовский дважды устраивал выставки своих картин, там, рассказывал Феселер, есть художники, обучающие за плату рисованию… «Придется наниматься, – подумал Архип. – Заработаю денег и подамся в Одессу».
Он перешел утонувший в воде шлях и облегченно вздохнул: до Карасевки рукой подать. Поглядел в сторону Кальмиуса и заметил черную движущуюся полосу. Должно быть, чумацкий обоз. Через полчаса стала отчетливо видна первая арба. За ней тянулось множество других, словно все чумаки Украины вдруг собрались разом и вытянулись на мариупольском тракте. Понурые волы натужно тащили за собою груженые возы, почти по ступицу колес утопающие в жидкой грязи. На некоторых возах сидели согбенные, понурые возчики. Другие, закатав по колено шаровары, шли рядом с быками и держались за деревянное ярмо.
И люди и быки, будто отрезанные от всего мира изгнанники, шли и шли, утопая в мутной жиже степного раскисшего шляха, шли в безвестную даль, где над горизонтом клубились тучи, а между ними и землей светлела полоса, как надежда на кров и тепло.
Уже начало темнеть, а Куинджи по–прежнему неподвижно стоял у раскисшего тракта. Он тоскливым взглядом провожал вереницу возов, словно на них лежали не соль и уголь, укрытые домоткаными ряднами, а тела чумаков, усопших на долгом бедняцком пути…
В начале декабря ударили небольшие морозы, выпал первый робкий снег. Утром Архип пошел в город. Краски, которые он принес из Феодосии, давно кончились, бумаги тоже не было. У него в потайном кармане лежали три рубля на самый крайний случай, и вот этот случай настал – к сердцу подступило такое желание рисовать, что он чуть ли не бежал по припорошенной тропинке, ведущей из Карасевки в Мариуполь.
У Харлампиевский церкви столкнулся с Чабаненко. Своего бывшего хозяина парень узнал сразу – он был в неизменных хромовых сапогах, белой шубе и высокой папахе. Куинджи остановился, увидев Чабаненко, но тот проскочил мимо. Затем замедлил шаги, оглянулся и радостно воскликнул:
– Архип! Никак ты!
Подошел к нему, широко расставив руки и улыбаясь во весь рот.
– Здравствуйте, Сидор Никифорович, – неуверенно проговорил Куинджи.
– Ну, конечно, ты! Батюшки, как вымахал! – снова восторженно заговорил Чабаненко. – Сколько же мы не виделись? Да, времечко летит. Я вот седой совсем стал. А ты – молодец, настоящий жених.
– Эт‑то, с пустыми карманами, – прогудел враз насупившийся парень.
– Не горюй, наживешь! Мне бы твою молодость, горы своротил бы. Где ты сейчас?
– У братьев, как нахлебник. Надо наниматься, – сказал Архип, не отрывая долгого взгляда от подрядчика. Судя по его радостному настроению и улыбке, у него дела шли неплохо. Куинджи стеснительно добавил: – Не знаю, к кому податься.
– У меня выгодный подряд. С весны сразу три здания закладываем, – отозвался Сидор Никифорович, – Но считать кирпичи, это, брат, теперь не по тебе. Знаешь, у меня дружба с фотографом Кантаржой. Из Таганрога он, салон фотографический строил ему, портреты делает.
– Портреты? – заинтересованно переспросил Архип. – Рисует?
– Нет, аппаратом специальным снимает. Обмолвился как‑то, что нуждается в смышленом помощнике по портретной части. Знаешь, это дело по тебе. Давай сосватаю…
– Нужно посмотреть, – нерешительно ответил Куинджи.
– Чего там смотреть? Я сам бы пошел к нему, да не гожусь, весьма тонкая работа у него. А дело прибыльное, новое… Ты не канителься, приходи завтра ко мне. Не забыл, где я живу?
Архип кивнул головой.
– Ну и лады! Жду. Глядишь, и мой портрет сделаешь по старой дружбе. Если подмалюешь даже, не обижусь, как Бибелли… Мир праху его.
– Умер?
– Упился… Минувшим летом схоронили.
Константин Кантаржа, мужчина средних лет, бритоголовый, с короткими черными усиками под длинным крючковатым носом, принял посетителей весьма любезно. При разговоре гнусавил и покашливал. Сутулый, с впалой грудью, он и в кресле не мог расправить плечи.
– К вашим услугам, уважаемый Сидор Никифорович, – сказал фотограф после приветствия. – Анфас, в профиль соизволите?
– Потом, потом, – ответил Чабаненко и предостерегающе поднял руку, будто боясь, что его насильно усадят перед большим, укрепленным на треноге чер–ным ящиком с мехами, как у гармошки, и с круглым стеклянным глазом. – Я по делу. Привел тебе помощника. – Он показал на Архипа. – Рисует с малых лет. Это у него от бога.
– Бог‑то бог, да сам не будь плох, – отозвался Кантаржа. – Нуждаюсь в ретушере.
– Попробуй, Константин Палыч.
– Зачем пробовать? Ваша протекция, Сидор Никифорович… – фотограф не договорил и закашлялся. Отдышавшись, сказал, прикрывая рот ладонью: – Простите. – Обратился к парню: – Как зовут?
– Архип, по прозвищу Куинджи, – ответил за него Чабаненко.
– Молодо–зелено, – снова заговорил в нос Кантаржа. – Всему можно научить. Было бы усердие… Положу восемь рублей на месяц. Как считаете, Сидор Никифорович?
– Добре! – воскликнул подрядчик. – Красная цена, сам бы за такую согласился. – Он похлопал Архипа по плечу. – Давай, хлопец, набивай руку…
– За усердие будет надбавка, – перебил Константин Павлович. – А там… В общем, поживем – увидим…
Фотографическое дело в России только–только становилось на ноги. Первым фотографом–портретистом был Алексей Греков. В Москве он имел «художественный кабинет». В 1847 году фотограф–любитель Сергей Левицкий изобрел камеру со складывающимся мехом, ездил в Париж со своими работами, а по возвращении открыл в Петербурге портретную фотографию «Светопись». Его примеру последовал студент Академии художеств Андрей Депьер. А ученик Венецианова – Лавр Плахов, получивший звание художника первого класса за успехи в живописи, настолько увлекся фотографией, что оставил рисование, приобрел камеру–обскурт и ездил с ней по Украине, фотографируя пейзажи, сцены народного быта, крестьян.
Обо всем этом Архипу рассказал Кантаржа, дал ему прочитать брошюру Грекова и некоторые номера журнала «Фотограф». Юношу увлекло ретуширование портретов как на негативах, так и на бумаге. Он быстро освоил его, за что хозяин добавил рубль к месячному жалованию.
Кантаржа считал себя учеником Левицкого и свой «портретный кабинет» также назвал «Светопись». Он уехал из Таганрога от конкурентов и был первооткрывателем фотографии в Мариуполе. Огромная вывеска с желтыми буквами привлекала к себе заказчиков, особенно во время весенней и летней ярмарок. Приезжали купцы и хлеботорговцы, с базара приходили бородатые подвыпившие мужики и мастеровые, заглядывали молодайки в расшитых кофточках. Зажиточные крестьяне–греки ехали к «кабинету» на возах. В центре Мариуполя порой выстраивалась длинная очередь из телег и арб, занимая почти всю проезжую часть улицы и захватывая соседние.
Константин Павлович выносил на улицу фотокамеру, вывешивал на освещенную стену дома «задник» с изображением древнего замка над прудом и аляповатого дуплистого дерева возле него. В окнах «кабинета» были выставлены готовые портреты. Возле них толпились горожане и крестьяне окрестных сел. Раздавались возгласы удивления, недоуменные вопросы, слышались наивные разговоры:
– Гляди! Никак наш Федько лупатый[57]57
Пучеглазый (укр.).
[Закрыть], – говорил парень в белой свитке, тыча пальцем в стекло.
– Та ни! Вин лупатый, а тут – красень, – отзывался сосед.
– С чертом снюхаешься, он и кривого на патрете паном сделает, – вставлял третий.
– Смотрите на него – он панив не видел кривых! – восклицал кто‑то, и над толпой взлетал громкий смех.
– Нет, что не кажить, а без нечистой силы тут не обходится, – глубокомысленно рассуждал стриженный «под горшок» мужик. – Оно так: незаметно с твоей рожи тоненькую кожу сдирают и ляпают на бумагу.
– А ты, дядько, спробуй!
– Тю на тебя, бусурман! – испуганно говорил мужик, взмахивал руками и, крестясь, отходил в сторону.
К Архипу разговоры долетали через открытое окно, и он чуть не прыскал со смеху. Сидел за столом, заваленный пластинками и портретами, с кисточкой в руках, а то с мягким карандашом или маленьким угольком, устраняя фотографические огрехи – царапины на эмульсии, пятна, нечеткость. Хозяин в первые два месяца показывал, как стушевывать естественные дефекты на портрете заказчика: морщины, бородавки, косоглазость, неровные или короткие усы, косматые бороды. Девицам и состоятельным дамам пририсовывал на щеках черные «мушки» – симпатичные родинки, подправлял брови, делал губы «бантиком», «создавал» улыбки. Поначалу Архип все это воспринимал как должное.
Кантаржа изготавливал не только портреты, но снимал желающих в полный рост. Фоном на снимке служил замок с неестественным деревом. Куинджи никак не мог привыкнуть к нему. Наконец сказал хозяину:
– Эт‑то, я нарисую другое…
Он показал на «задник», подошел к нему, провел рукой по замку и дереву. Заговорил снова:
– Ненатурально. Я видел в Феодосии настоящий.
– Сойдет, – ответил Кантаржа.
– Нужна пра–а-авда. Я сделаю натуру, – стоял на своем Архип.
– Что именно?
– За два утра эскиз в красках. Отработаю…
– Ладно, ладно, – согласился хозяин.
С рассветом Куинджи шел через весь город к обрывам, где два года назад был свидетелем уничтожения торговых судов англо–французской военной эскадрой. Теперь весеннее море беспокойно выкатывалось на берег, поднимало пенистые буруны, угрюмо шумело, раскачивая на своей серо–зеленой груди заморские суда купцов и легкие баркасы мариупольских рыбаков.
Рисовал он легко и увлеченно, будто краски сами просились на холст. Мягкий свет выглянувшего из‑за тучи солнца упал на бушующую воду, выхватил белый парусник, поднявшийся на гребне волны.
На третий день Архип поставил перед Кантаржой этюд. У того округлились глаза, бритая голова залоснилась. Он долго не мог выговорить и слова, даже ни разу не кашлянул. Затем забегал по комнате, хлопая по карманам растопыренными пальцами, коричневыми от растворов, потом вытащил из пиджака бумажник.
– Черт, забыл, сколько стоит холст, – наконец сказал он. – Да, еще белила, краски. Вот, – и протянул Архипу десятку. – Купи, что надо…
Молодой художник рисовал задник дней десять. Получился он хуже этюда, но Кантаржа был в восторге. В день святой и равнопрестольной Марии Магдалины, 22 июля, открылась ярмарка. Константин Павлович вышел для работы на улицу. Теперь на стене висели два «задника». Мещане, ремесленники, крестьяне желали запечатлеть себя на фоне бурного моря с белым парусником и чайками. На фотографии оно выходило настоящим. Девицы предпочитали становиться у таинственного стилизованного замка и аляповато–экзотического дерева.
Тихая осень подкралась к окну комнаты, где ретушировал портреты Куинджи. Обычно на работе он появлялся по возвращении из степи, где с рассвета рисовал пейзажи. Ныне в полдень налетевший ветерок бросил ему на стол желтый кленовый лист. Он лег на большой портрет какого‑то купца и, как пятерней в густых прожилках, закрыл половину лица. Архип поднял голову и посмотрел в окно. Дерево стояло в янтарно–зеленом наряде, словно его за ночь переодели. Когда оно успело так измениться? До чего же быстро летит время, он прожил еще один год, но по–прежнему далек от осуществления своей мечты – учиться живописи у художника. Раньше хоть Феселер давал пояснения, а ныне – один со своими этюдами, эскизами, набросками. Конечно, уроки копииста даром не прошли – Куинджи сам чувствует появившуюся уверенность в руке. И все же чего‑то очень важного он делать не умеет. Стала надоедать ему и однообразная ретушь. Правда, хозяин не обижает, платит уже десять рублей, а это деньги большие, хватает на еду, одежду и краски. Пожалуй, надо бы понемногу откладывать про запас: мысль о поездке в Одессу, а может, и в Петербург ни на минуту не покидала его. Вспоминались слова Шалованова об Академии художеств – туда принимают всех, не глядя на сословия и ранги, у кого есть талант к рисованию.
Подперев рукой подбородок, Куинджи тоскливо глядел на присмиревший клен. В комнату вошел Кантаржа. Дела его «Светописи» процветали, и он был доволен своим помощником. Но иногда жаловался на здоровье, в последнее время сильно кашлял – сказывалось приближение осени. Он поглядел на задумчивого Архипа и участливо спросил:
– Не захворал ли ты, парень? Да и то сказать, загонял я тебя, и себя тоже. – Подошел поближе, тронул Куинджи за плечо. – Пожалуй, хватит на сегодня. Можешь идти домой, и завтра занимайся своими делами. Пойду к доктору, совсем ослаб я.
– Эт‑то, спасибо, – ответил Архип и, попрощавшись, поспешно покинул комнату.
Лавка с москательными товарами и книгами, мимо которой ходил Куинджи, оказалась открытой. Он купил по коробке масляных и акварельных красок, несколько кистей.
В Карасевку пришел засветло. В хате сидела Екатерина и разговаривала со Спиридоном. Увидев младшего брата с покупками, он недовольно пробурчал:
– Опять выбросил деньги на ветер.
– Свои, – ответил Архип и с сожалением посмотрел на старшего брата. Про себя подумал: «Ничего не понимает».
– Не обижайся на него, Спиридон, – сказала Екатерина. – Нам уж на роду написано черную работу делать до самой могилы. Пусть хоть он выбьется в люди. Потом и нам поможет.
– Пускай, я против, что ли?
– Вот и хорошо. Архип, а тебя Настин жених на свадьбу приглашает, – снова заговорила сестра. – Просил поиграть на скрипке.
Куинджи побледнел, даже почувствовал, как от лица отхлынула кровь. Сам не ожидал, что так больно ударят по сердцу Екатеринины слова, ответил раздраженно:
– Не пойду!
Положил на стол краски и почти бегом выскочил из хаты. В глаза ударили неяркие лучи заходящего солнца, они будто притягивали его к себе, и он пошел в их сторону. Ни о чем не хотелось думать, глядел на затухающий в небе дневной свет, боясь упустить момент, когда яркая гамма перейдет в мягкую, вечернюю… Потом пересек шлях и побрел к Кальчику. Спокойная вода отражала еще не погасшее высокое небо. Бесконечное и таинственное, оно утопало в реке. В кустах чирикнула запоздалая птица, вспорхнула над ними и низко пролетела над рекой к морю. Через полчаса выплыла багровая ущербная луна. Вода, как при пожаре, зловеще сверкнула и заиграла пурпурными блестками.
Архип возвращался в Карасевку в темноте, а перед ним явственно вставали краски недавнего заката.
Утром Спиридон напомнил брату о приглашении играть на свадьбе.
– Эт‑то, не могу, – ответил Архип, пересиливая чувство обиды. – Вот, на подарок На–а-астеньке, – проговорил срывающимся голосом и протянул Спиридону семь рублей, повернулся и быстро пошел со двора.
Долго стоял над Карасевским обрывом и всматривался в утреннее спокойное море. Необъятное, свободное, независимое от людских побуждений и желаний, лишь вступающее в союз с ветром и солнцем, оно звало, манило к себе, и юноша пошел, побежал на его зов, надеясь поверить ему свое горе и мысли, свои мечты.
Тихо плескавшаяся вода что‑то шершаво нашептывала прибрежному песку, перекатывая мелкие камешки и легкие ракушки. Архип слушал вечный разговор ныне спокойного моря и глядел на приближающуюся лодку. За веслами сидел Елевферий. У самого берега он повернулся и деловито спросил:
– Пришел помогать? На жаль[58]58
К сожалению (укр.).
[Закрыть], ничего нема. Ушла рыба. Непогоду чует.
– Эт‑то, не убирай весла, – попросил Архип.
– Поразмяться хочешь? – проговорил брат, усмехнувшись. – Давай, давай. Это не красками мазать.
Архип не обратил внимания на иронию, как Елевферий не заметил грустного настроения младшего брата. Он выпрыгнул на песок, столкнул с мели лодку, и она, подчиняясь веслам в сильных руках юноши, стала быстро удаляться от берега.
– Далеко не заплывай! – крикнул вдогонку Елевферий.
Но Куинджи слышал только скрип уключин, всплески воды при взмахивании весел да легкий посвист ветерка за спиной. Чем дальше уплывал он в море, тем шире становился берег, и в то же время уменьшались кручи, сливались в одну темную линию дома Мариуполя, Марьино и Карасевки. Где‑то там ведут под венец Настю. Почему? Зачем?.. Он еще мальчишкой дал слово, что никогда не забудет ее. И она совсем недавно умоляла его поскорее возвращаться из Феодосии… А теперь – выходит замуж, и не по своей воле. «Не по своей, – прошептал Архип. – Да как можно неволить человека? Неволить…»
Он задержал весла на весу, пораженный неожиданными воспоминаниями. Ожила далекая зима, отец и сын Карповы, жандармы, заковавшие в кандалы плотников. Они были крепостные, собственность помещика… И Шевченко тоже был подневольным. Его выкупили хорошие люди… Заплатили деньги, как платят за краски и бумагу… А разве Настю не продают богатому жениху? Только прикрывают это свадьбой. Продают из‑за бедности. У сапожника Дико большая семья, его заработка не хватает даже на хлеб… Ну чем Архип может помочь Настеньке, чем? У него тоже нет денег, он как бедный родственник живет у братьев.
Удрученный нелегкими мыслями, парень перестал грести, опустил весла в лодку и сам устроился на жесткой сети, подложив под голову натруженные руки. Глядел на высиненное небо, прислушивался к неустанному плеску воды, ощущал убаюкивающее покачивание легких волн. За высокими бортами лодки скрылся мир, где‑то далеко, будто внизу, остался лиловый берег, на котором приютился город, а здесь вершина – и он один на один с морем и безоблачным сентябрьским небом.
Можно бы забыться, отойти хоть на время от повседневных забот, но мысли о Настеньке не покидают юношу. Вспоминается разговор с Шаловановым, его рассказ о горькой доле великих людей России… Незаметно в рассуждениях Архипа становятся рядом убитые на дуэлях Пушкин и Лермонтов, отданный в солдаты Шевченко, горемычная девочка Настя и он сам со своим неуемным желанием стать живописцем. Однако его устремлений братья не понимают, все их желания сводятся к деньгам. «Они сила, —думает Куинджи, —Они есть у Аморети – и он нанимает людей, живет в достатке, уважаемый человек в городе. Такие же Кетчерджи, Чабаненко и его хозяин Кантаржа. И у Спиридона веселое лицо, когда выгодно продаст чувяки, сапожки или рыбу… У меня тоже будут деньги. Обязательно будут! Я стану настоящим художником, как Айвазовский. Построю дом и начну учить талантливых. И деньги им давать буду. Пусть не знают нужды…»
В борт ударила волна и сильно качнула лодку. Она накренилась. Куинджи перевернулся на бок и вскочил, едва удерживаясь на ногах. Море, еще недавно зеркально отражавшее высокую голубизну, помутилось, забеспокоилось, загудело, будто кто‑то разгневанный забрался в его пучину и колобродил в ней.
Архип схватился за весла и с трудом повернул лодку кормой к бегущим волнам. Ее вознесло на пенистый гребень и резко бросило в провал. Парню показалось, что лодку отбросило назад, и он со всей силой налег на весла. По ним били волны, и вскоре пот стал заливать глаза. Соленые капельки стекали по губам, скатывались по шее и расплывались на груди под рубахой.
С каждой минутой море все больше пенилось и ярилось. Высокие буруны мчались к лодке, подхватывали ее на свои зелено–мыльные плечи и проносили, будто по воздуху, вперед. Невдалеке, вздыбившись из самой пучины, поднялась огромная волна и понеслась на одинокое суденышко… Архип на мгновение замер, пригнул голову и наклонился, ожидая страшного удара разъяренной воды. Но она подняла лодку и прошла под ней, и только брызги повисли в воздухе. Опомнившийся Куинджи во все глаза смотрел на возникшую дымку, отливающую всеми цветами радуги. Видение длилось какую‑то долю секунды, но он уловил его в этом неудержимом неистовстве стихии.
Он оглянулся назад и еще сильнее, будто в исступлении, заработал веслами: до берега было с версту, а шторм усиливался. Вода перехлестывала через борт лодки и доходила уже до щиколоток. Серые, желтые, черные, зеленые и даже оранжевые волны – а может, ему просто чудилось – кривлялись, дразнились, корчили рожи и, обгоняя лодку, мчались к берегу. В их реве слышалась насмешка, злорадство и неуемная бесшабашность: мы вольны и свободны, распоряжаемся собою, как хотим, и никто не может запретить нам шуметь и реветь, быть грозными и ласковыми. Мы – сама природа, и нет прекраснее ее в любом состоянии – спокойном или разгневанном.
Силы Архипа были на исходе, когда лодку подбросило волной и днище заскрежетало по песку. Он бросил весла и выпрыгнул в кипящую воду. Огромные черные буруны, словно ожидая этого, развернули неуправляемую лодку, подняли набок и перевернули.
Шатаясь, он вышел на берег, распластав руки, плюхнулся на песок. До него смутно дошла ругань прибежавшего Елевферия. Затем появился Спиридон. Они выволокли лодку на берег.
Куинджи по–прежнему лежал лицом вниз. В ушах стоял тяжелый гул моря, а перед закрытыми глазами плясали неистовые волны. Он видел их живыми и готов был поклясться, что сможет изобразить на полотне.
Утром, когда умывался, перед ним вдруг опять явственно встала цветовая гамма пляшущих волн… Он прикрыл рукой глаза – и все повторилось снова. Ошеломленный и возбужденный, Архип схватил краски и холст и уединился за сараем. Рисовал, как в горячке, по памяти, изредка закрывая глаза. Мысленно представлял себя внутри вздымающихся бурунов и наносил точные цвета бушующего моря. Оно было серым, желтым, черным и оранжевым одновременно, таким, каким видел его лишь доли секунды. Но движение стихии неуловимо для кисти. Его нужно запоминать, как свет и тени. Так наставлял Айвазовский, и об этом говорил Архипу Феселер.
Но одного запоминания мало, дать мгновению жизнь на холсте – удел талантливого живописца. Куинджи и раньше подмечал и запоминал цветовые оттенки, рождаемые природой, чувствовал их, воспринимал, а ныне он остановил мгновение. Оно в красках ожило на холсте. Произошло открытие, и молодой художник заплакал.
Затуманенными глазами смотрел на воссозданное бушующее море и не вытирал крупных слез, стекавших по смуглым щекам. В них было и прощание с отрочеством, и боль за Настю, и чувство гордости за человека, выдержавшего схватку со стихией. Он плакал от предчувствия творческого счастья…
Зиму, бесснежную, промозглую, с надоедливыми туманами, выползавшими из моря, Архип не замечал. Для него не существовало ни города с его мещанской скукой, с пустыми унылыми от грязи улицами, ни престольных праздников с тягучим колокольным звоном и богослужениями, ни театра с местными и приезжими актерами. Только один раз он позволил себе не сесть за ретушерский стол. Екатерина сообщила грустную новость: при переправе через замерзший Кальмиус погиб дядя Гарась. Под тяжелой бричкой провалился лед, и он утонул… Архип целый день не находил себе места. Затем еще с большим рвением принялся за работу, словно хотел заглушить в себе щемящую боль. Ранними утрами, до ухода в фотографическое заведение, и по вечерам при свете лампы он рисовал. Спиридон, как всегда, бурчал: