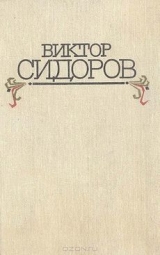
Текст книги "Я хочу жить"
Автор книги: Виктор Сидоров
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Запись двенадцатая
В нашем классе (это еще дома) учился Колька Царьков – хлипкий тощенький мальчишка с вечно перебинтованной шеей. Не то у него всегда была ангина, не то еще что-то. Говорил он тихо и хрипловато. За это его прозвали Сиплым.
Учился Колька хорошо, на уроках сидел смирно, уставившись в учителя выпуклыми глазами. На переменах не бегал – стоял где-нибудь в уголке и, как сова, пялил оттуда глаза. На уроки физкультуры он не ходил – был освобожден.
С ним никто не дружил, а били его все, кому охота. Даже пацаны из четвертого класса. Подбегут, трахнут кулаком по голове или спине и со смехом снова мчатся по коридору. А Колька стоит и плачет, совсем беззвучно, только видно, как плечи дергаются да по щекам слезы катятся.
Однажды после уроков иду я домой, гляжу: в проулке четверо ребят колотят одного сумками. Подбежал ближе – Кольку. Он согнулся, закрыл руками голову и только охал. Жалко мне стало его и обидно, что он такой слюнтяй и бессильный. Бросился ему на выручку, растолкал ребят, кому-то в зубы дал. Они сначала растерялись, но увидели, что я один, оставили Кольку и кинулись на меня.
Трудно одному против четырех: я один раз ударю, а меня сразу четыре, только успевай увертываться. Но как я ни защищался, они крепко мне надавали: глаз подбили, нос и губу расквасили. Чего скрывать, я тогда оробел даже. Ну, думаю, изобьют в дым. Устал сильно, руки тяжелые, будто чужие, хоть убегай.
И вдруг, трудно поверить, Колька, этот слабосильный тихоня и плаксун, с каким-то щенячьим визгом бросился мне на помощь. Ребята, наверное, тоже здорово удивились, потому что враз перестали колотить меня и бросились врассыпную. Я вздохнул облегченно, оглянулся и чуть не сел: позади стоял мой папка и смотрел на нас с Колькой.
Вот, думаю, влип! Откуда он взялся? Теперь попадет – не обрадуешься. Я уже открыл рот, чтобы оправдываться, но папка положил свою большую ладонь мне на плечо, сказал негромко: «Не надо. Я все видел. Молодец, сынок. Ты все правильно сделал».
Я невольно тронул вспухшую губу, папка заметил это. «Ничего, брат. Синяки пройдут, а вера в себя, в свои силы останется». Потом повернулся к Кольке:
«И ты молодец. Запомни: никогда не трусь и в обиду себя не давай. Пришлось драться – дерись. Ничего, что ты слабее, что тебя побьют, но ведь и твои кулаки не из ваты, а? А робкому все равно достанется, причем всегда больше, чем другим, ясно?»
Обо всем об этом я, может быть, и не вспомнил бы и, конечно, не стал бы писать, но сегодня получил письмо от Кольки. Вот оно:
«Вчера у нас закончились городские школьные соревнования по боксу, о которых я тебе уже писал. Можешь поздравить: я завоевал второе место и вышел в финал краевого первенства. Здорово? То-то же!
Но это все пустяки! У нас другая радость, самая большая, какую можно придумать: вернулся из госпиталя мой папа. Ты же знаешь, что он почти год пролежал в Москве. Ему сделали там четыре операции, пока не повытаскивали все осколки. Теперь он совсем здоровый, веселый, только очень худой. И у него нет правой ноги…
Ты знаешь, что он рассказал мне? Он служил с твоим отцом в одном батальоне – в особом лыжном. В разведке. В последнем бою они были тоже вместе.
Однажды они наскочили на белофинскую засаду. И если бы не твой отец, разведчики погибли бы. Он приказал всем отступать, а сам с двумя товарищами засел с пулеметом и задержал врагов. До последнего патрона, до последней гранаты дрались они…
Папа сказал: «Это был удивительный человек, настоящий товарищ».
Я сам знаю это. И никогда не забуду его слов, которые сказал он мне тогда, в проулке. Помнишь? Спасибо ему…»
Прочел я письмо и – дышать трудно. Папка, родной папка!..
Больше года прошло, как погиб он, – 12 февраля 1940 года. Когда мы получили это известие, мама чуть не померла, три недели в больнице отлежала. Мы с Димкой совсем ошалели, с утра до вечера бродили то по городу, то по реке. И плакали… Эх, не вспоминать бы все это, да хочешь не хочешь, а думается.
И другое еще перед глазами: митинг на перроне вокзала, когда из нашего городка уезжали добровольцы на войну с белофиннами. Это были лучшие лыжники и ворошиловские стрелки. Среди них стоял и мой отец.
Мама, я, Димка, Таня и много других провожающих смотрели на ровные недвижные ряды красноармейцев. Я видел только папу – высокого, сурового, совсем незнакомого в военной форме. Я стоял, радовался и совсем не думал, что в последний раз вижу его.
Когда прощались, он притиснул меня к груди, сказал: «Ну, Саша, теперь ты за старшего в доме. Гляди, приеду – за все спрошу».
Не спросил. И не узнал, что я вот аж куда попал без него…
Запись тринадцатая
Раскрыл вчера газету. Заголовки: «Война в Абиссинии», «Разрушения в Лондоне», «Военные операции на Балканах», «Воздушные налеты на Мальту», «Наступление англичан в Ливии», «Военные действия в Сирии и Ливане»…
От одних заголовков жуть берет.
Сегодня опять то же самое, только еще одна война прибавилась: Германия и Италия напали на Грецию.
Пашка Шиман написал стихотворение – «Греки, вперед!» У него уже полно таких, как он говорит, «антивоенных баллад», но названия их почти все одинаковые: «Абиссинцы, на бой!», «Вставай, югославы!»
Мишка Клепиков давился смехом, приставал к Пашке.
– Давай вместе сочинять: ты стишки, а я заголовки. У меня уже есть несколько. Вот послушай: «Бей самурая!», «Дави фашиста!», «Эй, итальянцы, назад!» Хорошо ведь, а?
Пашка злился:
– Дурачок ты, большие уши! У людей горе, где-то кровь льется, а ему все смешки… Смазать бы тебе по шее, может поумнел бы.
Клепикову только дай зацепку – не отвязнет.
– Это ты мне смажешь? Да? Эх ты, писарь волостной. Кому они нужны, твои стишки, а? Кому? Ты думаешь, этим грекам твоим? Думаешь, им легче станет, что ты эти паршивые стишки в свой альбомчик написал?
Пашка от обиды привскочил на локти, будто его ошпарили.
– Паршивые стишки?! Паршивые? Да ты знаешь…
Клепиков хихикнул от удовольствия, что крепко поддел Пашку, сказал вдруг ласково:
– Знаю, знаю, Паша: паршивые. Хорошие печатают в журналах разных и газетах. А паршивые переписывают во всякие там альбомчики. Их никакие греки не прочтут и никогда не пойдут за тобой.
Пашка захлопнул рот и растерянно уставился на Клепикова. А тот веселился:
– Ну что, Паша, съел? Вкусно?
Пашка молча лег и, наверное, с полчаса совсем не двигался. Потом вздохнул, сказал угрюмо, ни к кому не обращаясь:
– Ладно, увидим. Я вам докажу.
Фимочка подмигнул Клепикову, спросил Пашку:
– Ты это о чем?
Пашка не ответил. До самого вечера он что-то остервенело писал и запаковывал в конверты.
Потом мы узнали: он решил послать свои стихи в журналы и газеты.
Запись четырнадцатая
Сегодня мы писали контрольную по алгебре. Ну и попотел же я над примерами и особенно над задачей! Едва уложился до звонка. Так и думал: не успею.
А Ленька шутя, за какие-то пять минут, все сделал и листок отдал Самуилу Юрьевичу. Тот даже не заглянул туда – ясно, что все в порядке. И Зойка быстро решила. Наверное, глядела на меня, как я парюсь, и думала: «Ну и балбес этот Чеканов! Зачем только записку ему написала».
Подумал я так, и чуть последние мысли не поотшибло. В первый раз Рогачеву позавидовал.
Когда Самуил Юрьевич собрал наши контрольные и принялся укладывать их в портфель, Зойка (вот ведь отчаюга!) спросила:
– Самуил Юрьевич, вы почему-то сегодня грустный. Может, мы что не так сделали?
Самуил Юрьевич настолько растерялся, что в начале ее не понял, выпрямился, уставился на Зойку.
– Кто грустный?! Что вы не так сделали? Контрольную? Почему молчали?
Мы даже малость струхнули – уж больно грозно насел он на Зойку, и ей самой, видать, стало не по себе, потому что заговорила торопливо и жалобно:
– Да нет, Самуил Юрьевич, никакую не контрольную… Мне показалось, что вы немножко какой-то печальный… Вот и опросила. Вы меня извините, пожалуйста. Я не хотела…
Наконец до Самуила Юрьевича, должно быть, что-то дошло. Он со всего маха ухнул на стул и вдруг тонко и заливисто захохотал. Смеялся долго, до слез. Глядя на него, стали смеяться и мы. Клепиков обрадовался, что можно продрать глотку, так закатился, что лицо побагровело и глаза выпучились.
– А я подумал… Ах ты, заботливая… Ну, спасибо. Утешила…
Говорит это Самуил Юрьевич, а сам слезы вытирает платком. Потом оглядел нас непривычно веселыми и ласковыми глазами, сказал, что сегодня в самом деле у него «грустный» день: день его рождения. Ровно сорок лет.
Мы наперебой принялись поздравлять Самуила Юрьевича. А он, прижав руки к груди, кланялся нам и смущенно говорил:
– Благодарю вас, большое спасибо, ребята.
Зойка успела подписать поздравительную открытку и, когда вручала ее, опросила:
– Неужели это так грустно, когда сорок?
Самуил Юрьевич снова засмеялся и неожиданно поцеловал Зойкину руку. Мы обалдели: вот так да! Ну, теперь Зойка совсем возомнит о себе – не подступишься. Не всякий раз и не каждый дождется поцелуя Самуила Юрьевича.
А он сказал:
– Нет, не потому грустно, что сорок. В этот день, пять лет назад, погиб мой испанский друг Педро Рамон… Вы, наверное, помните войну испанского народа против фашистов?
Еще бы не помнить! Я тогда в первом или во втором классе учился и мы несколько раз собирали деньги в помощь борющейся Испании. Помню и другое: когда стали на пароходах привозить в нашу страну испанских детей, спасая от фашистов. Мы тогда здорово жалели, что живем так далеко, в Сибири, и не увидим ребят-испанцев.
– А вы… вы что, были в Испании?.. – недоверчиво проговорил Пашка Шиман.
– Да, был… Воевал за Испанскую Республику. Я командовал артиллерийской батареей.
Мы все так и открыли рты – Энная степень воевал в Испании! Этот длинный, гривастый, какой-то чудаковатый человек и вдруг – командир батареи! Сказка, бред, ерунда какая-то.
Пока мы переваривали услышанное, Зойка снова выскочила вперед:
– Расскажите, Самуил Юрьевич! Расскажите. Пожалуйста!..
И он рассказал нам, как добровольцем вступил в интернациональную бригаду, как дрался с фашистами, как однажды познакомился и подружился с рабочим из барселонских каменоломен Районом.
Этот Педро Рамон был смелым революционером и настоящим коммунистом. Он много месяцев провел в тюрьмах, а его жена, тоже коммунистка, так и умерла в застенках, замученная фашистами. Когда началась война, Педро Рамон ушел на фронт, там в одном из боев Самуил Юрьевич и познакомился с ним.
Погиб Педро Рамон геройски: его окружили фашисты, он отстреливался до последнего патрона, а потом вызвал на себя артиллерийский огонь. А стреляла батарея Самуила Юрьевича…
Долго молчал Самуил Юрьевич. И мы тоже молчали. Потом он тряхнул головой, закончил:
– Не смогли мы отстоять Испанскую Республику – мало сил у нас было, да и оружия… Мы уплыли домой, на Родину. Я увез с собой единственную дочь Педро Района Клаудию. Она сейчас уже большая, ваша ровесница, живет и учится в Киеве.
Ленка спросила:
– Вы с ней переписываетесь?
Глаза у Самуила Юрьевича снова стали веселыми и ласковыми.
– Конечно. А на летние каникулы Клаудия со своими друзьями всегда приезжает ко мне. Ленка снова:
– Правда?! Ой, как хорошо! Вы с ней придете к нам, когда она приедет?
– Если хотите – придем.
Мы чуть ли не хором крикнули, что хотим. А Пашка Шиман адрес Клаудии попросил.
– Мы ей письмо напишем. Вот черт, это он здорово придумал.
До самого вечера я все думал об услышанном. Вот тебе и Самуил Юрьевич! А мы его – «Энная степень»…
Запись пятнадцатая
Поздно вечером разразилась гроза, какой я сроду не видел: непроглядная темень, ветер, оглушительный гром и беспрерывные молнии то ослепительно белыми стрелами, то красноватыми вспышками в половину неба. Море словно взбесилось. Когда сверкали молнии, я видел огромные волны с белесыми горбами. Они катились одна за другой, с грохотом выбрасывались на берег, достигая чуть ли не середины пляжа.
Всю ночь бушевала гроза, и всю ночь я не спал. Нет, не потому, что она мешала мне. Я смотрел на полыхающее небо, на грохочущее море и думал. Обо всем. Я вдруг представил себя в грозу на корабле. На старинном паруснике. Страшновато. Огромные запененные волны перехлестывают через палубу, ломают мачты, заливают трюм. Корабль все больше и больше кренится, может еще одна – две волны, и он пойдет ко дну… Выдержал бы я такое? Струсил бы или нет?
А гроза все продолжалась, море гремело и ярилось. Я снова был там, в море. Но уже не на корабле, а на каких-то обломках, среди кипящих волн. Один спасся после кораблекрушения… Нет, не хочу так. Лучше по-другому: я, усталый, но еще сильный, спасаю женщин, детей и… Зойку…
Зойка… Я уже получил от нее восемь записок, маленьких, правда, в пять – шесть строчек, но от этого радость моя не меньше. Она спрашивает, как я к ней отношусь, что мне в ней нравится, как я представляю настоящую дружбу. Я отвечаю, как могу. Но Зойке, видимо, не очень нравится. Вчера написала, что мои записки «какие-то безжизненные, скучные и не интересные».
Смешная! Неужели я возьму и напишу про то, как волнуюсь, когда нас свозят на занятия, как скучаю, когда приходит выходной… Что бы я теперь ни придумал или ни сделал хорошего – все для нее!
А она? Не пойму я ее. Никак. На занятиях почти не смотрит в мою сторону, спокойно решает задачи, перешептывается с Леной и Ирой, на переменах болтает то с Фимочкой, то с Пашкой. Только иногда вдруг метнет в меня быстрый лукавый взгляд, улыбнется как-то по-особенному, одними краешками губ, и снова как ни в чем не бывало занимается своими делами.
Не нравлюсь я ей, наверное. Вот если бы у меня какой-нибудь талант, оказался – пел бы красиво или, например, здорово играл на баяне, – тогда, пожалуй, все было бы по-другому.
Но, я думаю, петь или играть все-таки маловато. Вот если бы стать каким-нибудь великим ученым или врачом… Тут же представил, как я, уже знаменитый врач, за несколько дней вылечиваю Зойку от болезни, как она, со слезами на глазах, благодарит меня: «Ты настоящий друг, Санька».
Недавно прочел книгу «Охотники за микробами». Теперь только и вижу себя среди микроскопов, колб, пробирок. Да, я твердо решил стать врачом. Долой из головы летчиков, моряков и пожарников. Не быть мне и писателем. Буду врачом. Хирургом. Как Сергей Львович. Только… Только я обязательно найду такое лекарство или вакцину, чтобы навсегда уничтожить проклятые туберкулезные палочки.
…Совсем не заметил, как ушла гроза. Звезды сверкают особенно ярко, будто их дождь промыл. Только море продолжает шуметь и биться о берег – оно теперь долго не успокоится.
Тетрадь вторая
Запись первая
Вот уже три месяца, как я в санатории. Почти привык к своей «лежачей» жизни. Научился не хуже «старичков» есть, пить, писать и даже выпиливать лобзиком из фанеры разные забавные штуки.
Сдружился с ребятами, особенно с Ванькой Боковым, и, как ни странно, с рыжим Рогачевым. Он, оказывается, совсем неплохой парень. А если бы ему еще и характер получше, тогда пацан совсем что надо.
Разговаривать с ним тошно. Рассказываешь ему что-нибудь а он только сопит да очками водит. И не поймешь: то ли слушает он тебя, то ли о чем-то другом думает. Махнешь рукой и умолкнешь на полуслове. А ему хоть бы что; кивнет башкой будто спасибо скажет, и снова берется за книгу или за свою тетрадь со злосчастным биномом. Окажись вот с таким где-нибудь на необитаемом острове, быстро в макаку превратишься.
И другое: мямля он, что ли? Ест, словно жвачку жует: медленно, уныло. Смотреть – аппетит пропадет. Уж какой я едок, и то его обгоняю: пока он за второе берется, я уже с третьим разделаюсь. А письма как пишет. Умора! Смешнее не придумаешь. Недели но две: в день по нескольку строчек то чернилами, то простым карандашом, то цветными. Словом, что попадет под руку. За это время он так измусолит, истреплет, зацапает листок, что первых строчек уже нельзя прочесть.
Когда я впервые увидел эту Ленькину разноцветную мазню, спросил, зачем ему понадобился флажок и почему он так паршиво его разукрашивает. Ленька хмыкнул.
– Какой же это флажок? Это – письмо.
Я удивился: зачем, мол, он его так рисует и по стольку дней? Ленька еще раз поправил очки и, словно страдая за мою глупость, ответил: какая, дескать, разница, чем писать и как? Было бы что писать. А у нас событий не так уж густо. За полмесяца едва-едва наберется на одно письмо. Вот он и пишет свои письма по полмесяца…
Но несмотря на все это, Ленька настоящий парень. Почему? А вот почему.
Два дня назад меня увозили в кабинет главврача показывать какому-то знаменитому профессору-костнику. В это время няня принесла записку от Зойки. Принесла испрашивает: кто Чеканов? Она новенькая и еще плохо нас знает. Мишка Клепиков, расспросив, в чем дело, сказал, что, дескать, Чеканов – это он. Няня и отдала ему записку. Клепиков прямо в восторг пришел. Как же, чужая тайна в руки попала: будет над чем позубоскалить. И Фимочка обрадовался, торопит: «Ну-ка, читай, Клепа, что Зойка пишет нашему влюбленному Сусленышу».
Клепиков принялся разворачивать записку, да вдруг Ленька как закричит на него: «Не смей!» А Клепиков хоть бы что: улыбается во всю рожу и спокойно продолжает свое дело. Ленька побледнел, губы дрожат, глаза совсем темными стали. Схватил с тумбочки графин, замахнулся им, как гранатой: «Передай, – кричит, – записку сюда или я башку тебе расколю». А тут и Пашка Шиман, хоть он и злобится на меня из-за Зойки, тоже поднялся на Клепикова. Ну, тот и струсил, отдал записку.
Обо всем этом рассказал мне Ванька Боков.
– Ну, Саньша, – шептал он, качая головой, – и страшон был Рогачев! Я даже забоялся, что он на ноги вскочит от злости. Сроду бы не подумал…
Вот так и бывает: думаешь о человеке одно, а оказывается совсем другое…
Очень рад, что и среди рыжих есть стоящие ребята,
Запись вторая
К Фимочке на свидание приехала мать. Эту новость принес дядя Сюська. Фимочка от неожиданности и счастья растерялся и расплакался. Сюська стоял и довольно посмеивался: крепко обрадовал Травкина.
Странный он какой-то, этот дядя Кеша: тощий, узкоплечий, причем одно плечо ниже другого. Одет всегда одинаково: серый колпак, серые брюки и большой серый халат, который висит на нем, как на огородном пугале. Он все знает, что делается в санатории, всюду успевает. Нянечки поругаются между собой – он тут как тут: выясняет, из-за чего они ссорятся, кто прав, кто виноват. Бывает, Сергей Львович возьмется «распекать» кого-нибудь из ребят за то, что плохо лежит или балуется, и Сюська рядом, хмурится, поддакивает. Он и на обходах часто бывает, ходит среди врачей важный, как профессор, слушает внимательно, кто о чем говорит, и кивает одобрительно. А улыбка у него хитрая, будто он что-то про всех знает и только ждет случая, чтобы рассказать…
Фимочка малость успокоился, вытер глаза, попросил жалобно:
– Дядя Кеша, позовите маму… Или меня отвезите к ней… Пожалуйста.
Сюська убрал улыбочку, задумчиво нахмурился. Потом сказал решительно:
– Ладно, не реви. Так и быть, потолкую с Сергей Львовичем.
И ушел. А Фимочка нетерпеливо ерзал по койке, то и дело поглядывал на дверь, вздыхал. Он не видел матери уже год. И я понимал, как ему трудно сейчас. Тут любой изведется. Узнай я, что моя мама приехала, честное слово, ползком бы стал добираться к ней.
Наконец после обеда Сюська увез Фимочку к матери, а к вечеру старшая сестра Надежда Ивановна показывала ей наше отделение. Фимкина мать, разодетая, накрашенная, круглая, как колобок, ходила торопливо по палатам, по веранде, ахала и охала, глядя на нас большими и какими-то испуганными глазами: «Бедненькие, худенькие, бледненькие». Я даже засмеялся, глянув на «худенького и бледненького» Ваньку Бокова. Да и Клепиков с Пашкой Шиманом никак не напоминали «бедненьких».
Она понавезла Фимочке столько всякой всячины, что он не притрагивался к санаторной еде – только домашним питался. Три дня жила мать, и три дня Фимочка набивал тумбочку яблоками, грушами, шоколадом и конфетами. Она просто до смешного беспокоилась о Фимочке, будто он находился среди бездушных тварей. Няни говорили, что она все время бегала к Сергею Львовичу, к главному врачу, к начальнику санатория, узнавала, хорошо ли лечат Фимочку. А у Фимочки выспрашивала, не обижаем ли мы его.
Сегодня утром она уехала. Фимочка лежит молчаливый и грустный. Пришел Сюська и сразу же к нему:
– Обидели тебя, что ли?
Фимочка отрицательно покачал головой.
Сюська похлопал Фимочку по плечу.
– Ну, тогда нечего киснуть, а ежели кто обидит – скажи мне: наведу порядок. Ясно? Твоя мамаша попросила меня последить за тобой.
А Мишка Клепиков сказал по секрету:
– Фимкина мать за это дяде Кеше денег дала. Ну и смешная тетка.








