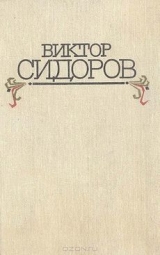
Текст книги "Я хочу жить"
Автор книги: Виктор Сидоров
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Запись седьмая
Пашка оказался прав: бомбежки почти каждый день. Со степи то на машинах, то на подводах везут раненых. Куда? Говорят, в соседние села.
Вчера фашист пробомбил станцию. Мы слышали, как взорвалась цистерна с горючим, видели, как горели раскиданные по путям вагоны.
Марья Гавриловна уговаривает нас, успокаивает: вагоны, дескать, вот-вот придут. Главврач уже получил сообщение об этом. И как только вагоны будут, нас погрузят и увезут в Ташкент, далеко-далеко от войны. Мы снова будем жить без тревог и страха. Будем учиться, потому что Красная Армия обязательно разобьет фашистов. И зря мы думаем, что о нас забыли, что мы никому не нужны. Вредная глупость. Больные мы или здоровые – мы все равно дети, самое дорогое, что есть у нашего народа.
После таких разговоров мы веселели. До первой бомбежки.
Сегодня перед обедом прибежал со двора Никита Кавун. Он уже получил свой корсет и теперь не вылазит с улицы. Остановился у порога бледней, с трясущимися губами, выкрикнул:
– Там в телеге лежит Галя… Та, черненькая… Куколка… У нее… у нее оторвало ногу…
Потом бросился к своей койке, упал ничком и зарыдал.
Запись восьмая
Сегодня много думал о доме, о маме. Я ей не писал ни про то, как нас бомбил фашист, ни о том, что здесь стало очень опасно. Если она узнает об этом – умрет от переживаний. В письмах и без того она все чаще и чаще тревожится обо мне: то фронт снова продвинулся к Харькову, то страшные слухи дошли о зверствах фашистов, которые бомбят мирных жителей, обстреливают санитарные поезда, больницы и даже детские сады.
Спрашивает: «Сашенька, а у вас на станции все спокойно? Напиши, не заставляй меня мучиться ужасными предположениями».
Эх, мама, мама… Милая моя, родная мама! Какие там слухи! Я все это уже увидел и испытал. Нет, не напишу я тебе обо всем этом. Прости меня. Да, на нашей станции все спокойно, все хорошо. Только не волнуйся, не страдай. Твои слезы для меня тяжелей, чем страх перед фашистами.
Запись девятая
Прискакал на своих костылях Никита Кавун, запыхавшийся, взбудораженный.
– Ребята, что скажу! К нам на легковушках много военных приехало и с ними какой-то главный командир. Сейчас он у главврача. Сердитый – ужас. По телефону кого-то в пух разделывает. Я у дверей стоял, все слышал. Он говорит: это преступление, что дети, мы то есть, до сих пор не вывезены в тыл, дескать, вы ответите за это по законам военного времени. Тот, с которым он разговаривает, оправдывается, что, мол, вагонов нет. А командир говорит тихо, но так, что у меня даже мороз по коже: «Чтобы вагоны были… Нет, не послезавтра, а завтра. Нам каждый час дорог, вы понимаете это? Выполняйте приказ и завтра доложите мне лично». Видали? А потом…
Никита не договорил, дверь вдруг открылась и к нам с Марьей Гавриловной, с главврачом, вошел в белом халате невысокий большелобый мужчина.
– Он!.. – прошептал Никита, страшно вытаращив глаза.
Ничего в нем сердитого и грозного не оказалось: глаза смотрели на нас внимательно и ласково, губы чуть приметно улыбались. Он оглядел нас неторопливо, спросил:
– Что, ребятки, попали вы, как говорят, из огня да в полымя? Нехорошо получилось – наша вина. Завтра – послезавтра увезем вас. Теперь совсем далеко от войны увезем.
Потом подошел поближе к нашим койкам, подмигнул как-то хитро и весело.
– А ну, откровенно: сильно трусите или нет?
Мы все заулыбались, кто смущенно, кто радостно: наконец-то, кажется, уберемся отсюда. Пашка Шиман ответил:
– Трусим, чего там… Да это оттого, что лежим, убежать не можем, а так бы… – И замолчал.
– Что «а так бы»?
Пашка замялся на секунду, потом решительно рубанул рукой воздух:
– На фронт бы убежал. Вот что!
Мужчина засмеялся, и у глаз его собралось много морщинок. Подошел к Пашке, положил ладонь на его голову.
– Что ж, желание понятное. Только у нас есть кому защищать нашу землю. Лечитесь, выздоравливайте и знайте, что ваши руки еще понадобятся Родине.
Они ушли, а мы смотрели на закрывшуюся дверь и улыбались. Мне почему-то показалось, что я уже видел этого человека. Где? Может быть, на портрете?
Запись десятая
Время тянется бесконечно. Это потому, что мы с нетерпением ждем вагоны. Мы больше ни о чем не можем говорить и думать. Одно: вагоны, вагоны, вагоны…
То, что они будут, мы верим твердо. Только скорей бы, скорей они приходили. Ведь в любой час они нам могут не понадобиться – фашисты сегодня совсем озверели.
Еще утром на станцию налетел «Юнкерс», хотел обстрелять воинский эшелон, да напоролся на зенитные пулеметы. Удрал, как заяц, сбросив несколько бомб мимо. Мы орали, свистели, смеялись: крепко всыпали фашисту, теперь будет летать с оглядкой.
Однако рано порадовались: эшелон ушел и увез свои пулеметы, а к обеду прилетели два «Юнкерса» и раздолбили станцию, как хотели: и пути и вокзальчик. От него, говорят, остались две стены и груда кирпича. До сих пор не могу понять, как фашисты нас не накрыли.
Мы перетрусили так, как никогда: ребята послетали на пол, под койки: хоть какая-то защита. Остались лежать лишь Ленька Рогачев да я. Ленька не знаю почему, а мне было стыдно прятаться. Неожиданно вспомнил Лену, представил, что она видит, как я ползу под койку, и… остался.
Сейчас у нас пока все спокойно. Надолго ли?
Кавун лежа напяливает на себя корсет: собирается на улицу за новостями. Он кряхтит, пыхтит, краснеет от натуги и ругается, что корсет сделали тесный – не вмещается живот.
Ленька и Сердюк неторопливо расставляют на доске шахматы, Фимочка накрыл голову подушкой и лежит, не шевелится. Мишка Клепиков переругивается с Шиманом из-за какого-то пустяка и обещает Пашке выбросить в окно тетрадь с его стихами.
Вдруг настежь распахнулась дверь, к нам влетел Сюська.
– Вагоны пришли! Уже загоняют в тупик. Я же говорил вам: не забудут нас. Спасут.
Я что-то не помнил, чтоб Сюська говорил такое, да черт с ним! Неужели уедем?
Запись одиннадцатая
Вот они, вагоны! Я нижу их, стоят в тупике: два пассажирских, теплушка и платформа.
В палатах шум, гам, веселье. Даже не верится, что завтра, а может быть, и сегодня мы уедем отсюда, и не будет над нами этих проклятых воющих самолетов. Пришли санитарки с носилками – сейчас начнем грузиться. Надо приготовиться. Допишу потом.
Запись двенадцатая
Я уже в вагоне, опять на нижней боковой полке – не везет, да и только!
Надо мной вертится, никак не может умоститься Пашка Шиман. На двух нижних полках Сердюк и Фимочка, на верхних – Ленька и Клепиков. Кавун попал в соседнее купе, и Сердюк нервничает и сердится. Кого ни увидит, требует, чтобы его, Сердюка, поместили вместе с Никитой. Вошла Марья Гавриловна.
– Ребята, не хватает мест для малышей. Ждали три вагона, пришло, видите, два, но и я а этом, как говорится, спасибо… Примите малышей к себе.
И смотрит на нас выжидательно, нетерпеливо.
– Пусть несут, – раздался сверху голос Леньки. – Приспособимся, авось.
Принесли сразу троих. Гляжу: мордочка знакомая, голубые глаза на меня уставились, губы улыбаются.
– А, тезка, здравствуй! Ко мне хочешь?
Мальчишка обрадовался:
– Хочу!.. – И умоляюще няне: – К тезке меня, к Саше, пожалуйста.
Уложил его к стенке, чтобы случайно не сбрякал.
– Ну, вот и встретились! Если б тогда не смотрел на тебя, не узнал бы.
– А я и так узнал.
Ребятишек быстро «расхватали». Принесли еще троих.
– Мне, мне давайте! – орал Клепиков. – Да который покрасивше. Вон того, лупоглазенького… Иди, иди, не бойся.
Второго забрал на свою «верхотуру» Пашка. Последнего няня поднесла к Фимочке.
– А мне не надо.
Няня опешила.
– Как не надо?
– Не надо и все. Не хочу. Мне и так тесно.
Няня переступила с ноги на ногу, не зная, что делать.
– Так как же, Фима? Все же взяли… Нехорошо…
– А мне наплевать, – закричал Фимочка. – Что я, всю дорогу должен мучиться, да? Спасибо! Уносите его, куда хотите. Без него тошно.
Няня молча повернулась и унесла мальчишку. Ленька свесился с полки, уставился на Фимочку не мигая.
– Эй ты, запомни: я тебя больше не знаю. Понял?
Запись тринадцатая
Вчера, засыпая, думал: проснусь завтра утром, а мы уже далеко-далеко, где-нибудь за Валуйками, куда не залетают фашисты.
И вот оно – утро. Еще глаза не открыл – прислушался: едем или нет? Тихо, вагон не качается, колеса не стучат. Стоим.
Где? Может, за ночь в самом деле до Валуек докатили? Привстал на руках, заглянул в окно – наша станция. Никуда мы не уехали!.. Торчим в том самом тупике, где грузились. На соседнем пути стоял воинский эшелон, за ним – Другой. Прямо против моего окна платформа с танком, накрытым брезентом. На танке четверо танкистов, один из них с гармошкой. Они разговаривали, смеялись, курили. Потом тот, что был с гармошкой, выбросил окурок и заиграл что-то незнакомое и грустное. А другой, рядом с ним, задумчиво запел:
Помню день последнего привала,
Сон бойцов у яркого костра.
Руку мне тогда забинтовала
Славная военная сестра…
Ребята заоборачивались, завытягивали шеи… Няня перестала мыть пол, прислонила швабру к стенке и, тихая, подошла к окну; присела на Фимочкину полку Ольга Федоровна… Даже Сюська, который чего-то суетился, бегал по вагону, перестал трясти обвисшими щеками. Ах, как мне друг захотелось быть сейчас на месте этих танкистов, ехать на фронт и вот так сидеть на танке и петь эту красивую песню! А Лена чтобы слушала меня…
…Стало сердцу радостно, не скрою,
В этот тихий вечер у огня…
Мы не дослушали песню до конца – эшелон ушел…
Только отстучали его колеса, только все принялись за свои дела, над станцией заметались частые и короткие гудки паровоза – воздушная тревога!
Мой тезка побледнел, заулыбался жалко, зрачки почти на весь глаз – уже научился бояться. Теперь не приходит в восторг, когда видит самолет или слышит его гул.
– Не трусь, Саша, – сказал я ему. – Фашистам не интересно бить по вагонам, которые в тупике стоят, да еще с красными крестами.
А паровоз продолжал гудеть все тревожней. По вагону побежала Марья Гавриловна.
– Товарищи, и сестры, и няни, всем быть на своих постах! Ребята, держитесь мужественно. Не волнуйтесь. Мы – с вами.
Гудки неожиданно оборвались, и мы услышали чуть различимый гул самолетов. Второй эшелон резко дернулся и, набирая скорость, стал уходить со станции. А рев самолетов все ближе и ближе… Сюська заметал глазами то вверх, то на уходящий поезд, голова его вжалась в плечи. Вдруг он издал какой-то диковатый вой и рванулся по вагону к выходу. Марья Гавриловна загородила дорогу, крикнула хрипло:
– Куда?! Не сметь! Назад!
Но Сюська лез напролом и орал:
– К черту! Всех вас к черту! Пропадайте тут сами!
Марья Гавриловна неожиданно развернулась и хлестанула его раз за разом по лицу. Он на секунду остановился, потом, сильно оттолкнув Марью Гавриловну, выскочил из вагона.
Я видел, как Сюська бежал через пути к уходящему поезду, к последнему вагону, как ухватился за поручень, чтобы вскочить на подножку площадки. Но часовой, что стоял рядом с кондуктором, ударом ноги сбил его на землю. Сюська вскочил, глянул вверх и, словно заяц, поскакал к лесу.
Пашка, который тоже все видел, произнес:
– Вот тебе и «нутряная сила»…
Запись четырнадцатая
Мы едем. Медленно, но все-таки едем. Наш поезд (я даже не знаю, к какому составу нас прицепили) часто останавливается на каких-то маленьких полустанках и разъездах, чтобы пропустить воинские эшелоны. Но мы ничего, не очень злимся, понимаем, что пушки и танки везти сейчас важнее, чем нас.
Немцы, говорят, совсем близко от Харькова, там идут тяжелые бои. Пусть быстрей едут красноармейцы, пусть больше везут оружия и крепче бьют гадов.
В дороге не скучно. Малыши наши оказались занятными ребятами: поют, читают стихи и вообще много щебечут.
Клепиков выпросил у Ольги Федоровны патефон, поставил его себе на грудь и крутит без конца свою любимую «Катюшу». Фимочка лежит, прикрыв голову подушкой. Он это сделал, как только мы поехали, заявив:
– Главное – голову беречь. Подушку пуля не пробивает…
И вот лежит с подушкой на голове. С ним никто, кроме Клепикова, не разговаривает.
Я смотрю в окно. Не все время, конечно. Все время смотреть – руки отвалятся. Мне приходится опираться на них, приподнимаясь, чтобы увидеть, что делается за окном.
А там всякое делается: разбитые вагоны лежат, поковерканные, завязанные в узлы рельсы, разрушенные и почерневшие от огня вокзалы и дома; и воронки, воронки…
Марья Гавриловна сказала, что завтра в полдень мы будем в Валуйках.
Скорей бы!..
Запись пятнадцатая
Снилось мне: я дома. Рано утром идем с ребятами на рыбалку. Дорога мягкая от пыли и еще теплая от вчерашнего солнца, а мы босиком… Я не хромаю, мне легко и не больно шагать. Оглянулся, а на дороге следы. Мои следы, от моих ног!..
И так мне радостно стало, так хорошо, что я засмеялся. И проснулся. От этой радости проснулся… Лежал, слушал, как постукивают колеса, и думал о том дне, когда я не во сне, а наяву буду оставлять свои следы на дорогах.
Под боком у меня сладко посапывал мой тезка Саша Звягин, или Саша-маленький, как его сейчас все называют. Он улыбается во сне, тоже, наверное, какие-нибудь свои «следы» снятся. «Ничего, тезка, – говорю я ему мысленно. – Все будет у нас хорошо».
Привстал я осторожно, заглянул в окно: степь, желтая, осенняя. Далеко у горизонта какая-то деревушка с белыми фонтанчиками дыма из труб, за ней небольшими островками березовые колки. Тихо, спокойно, даже не верится, что идет война.
Один за другим просыпаются ребята, вагон постепенно оживает, наполняется шумом. Няни несут тазики и чайники с водой – умываться. Запахло чем-то очень вкусным – уже и завтрак готов. Саша-маленький с любопытством смотрит, как я пишу, долго смотрит, потом опрашивает:
– Ты это что пишешь?
– Да так, вроде дневника.
– Зачем?
– А чтобы ничего не забыть, что с нами случается.
Он еще что-то хотел спросить, но не спросил – настороженно прислушался. Я тоже: самолет! Фашист или наш? Саша тесно прижался ко мне.
– Не бойся, тезка, это, наверное, наш… Это был фашист. Я увидел его. Неужели будет стрелять в нас?.. У нас же красные кресты на крышах…
Три записки Лены
«Саша, крепись. Все будет хорошо. Ольга Федоровна сказала, что рана у тебя не очень опасная. Крепись, Саша. Я все время думаю о тебе».
«Сашенька, держись крепче. Собери все силы и волю и ты победишь любую боль. Потому что иначе быть не может. Думай только о хорошем».
«Саша, милый Саша, ты ведь сильный. Помнишь, когда я «приехала» к тебе, а ты болел? Я видела, как тебе было трудно, а ты крепился. Я бы не смогла так. А ты смог, потому что сильный. Ты выдержишь. Я знаю. Я люблю тебя, Саша…»
Письмо Галине Петровне Чекановой
«…Очень трудно писать нам это письмо, но силы мне прибавляет мужество вашего сына.
Это произошло пятнадцатого октября 1941 года. На наш эшелон напал фашистский стервятник. Он сбросил несколько бомб, но промахнулся. Тогда, снизившись, он стал расстреливать эшелон из пулемета…
В эти страшные минуты ваш сын поступил, как настоящий человек: защитил от смерти своего маленького товарища Сашу Звягина. Он закрыл его от пуль своим телом… А сегодня он умер, наш мальчик, Саша Чеканов. Мы все гордимся им и будем всегда помнить о нем…
Зав. отделением врач М. Туманова».
Эти тетради с записями Сани Чеканова передал мне хирург Александр Иванович Звягин, или Саша-маленький, как его звали когда-то.
Барнаул, 1970








