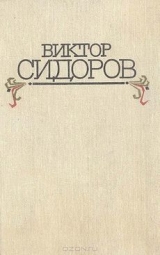
Текст книги "Я хочу жить"
Автор книги: Виктор Сидоров
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Запись шестая
Что там ни говори, а «Письма» Короленко для меня – настоящий клад. Читаю и перечитываю их в каждую свободную минуту. Сегодня даже на уроках ухитрялся читать.
На большой перемене только раскрыл книгу, слышу, Зойка говорит Ленке:
– Ты заметила: у Чеканова лицо как будто поумнело?
Ленка ответила, что не заметила этого, но постарается присмотреться.
Зойка засмеялась:
– Надо очень долго присматриваться…
Я промолчал, сделал вид, что ничего не слышу, но сердце у меня бешено заколотилось от злости. «Ну, думаю, и расквитаюсь я с вами однажды».
Весь следующий урок я не замечал девчонок, будто их и нет в палате, – пусть почувствуют, как я презираю их.
Но разве это девчонки? Бесчувственные дылды. Ничего они не поняли. Таких, пожалуй, и словом не проймешь. Они все время перешептывались меж собой, чему-то улыбались и совсем не глядели в мою сторону. А на перемене Зойка вдруг спросила меня, словно мы с ней были самые, лучшие друзья:
– Ты что читаешь, Саша?
Вот ведь нахалюга! Сначала я совсем не хотел отвечать, но потом решил: не стоит лишний раз злить ее – и сказал, что читаю избранные письма Короленко.
Зойка удивилась: «Неужели интересно?» Я ответил, что да, что это письма к разным начинающим писателям, в которых Короленко советует, как писать и о чем.
Зойка прищурила глаза, будто собралась стрелять из ружья.
– Ты что, тоже стихи пишешь?
У меня мороз по коже. Вот, думаю, самый подходящий случай сказать: «Да, пишу. И не стишки, а прозу. Повесть». Пусть видит, кого она смертельно обидела, и пусть помучается как следует.
Но я не сказал. Передумал в последний момент. И хорошо сделал.
Зойка заявила, что она терпеть не может всяких там поэтов. Они, дескать, больше задаются, чем сочиняют.
Пашка Шиман, конечно, все это принял на свой счет и здорово разозлился. Он на всех переменах изображал творческие муки: что-то быстро писал, хмурился, жевал губы, потом страдальчески морщился и рвал листки. Для Зойки старался. А тут сразу остыл и присмирел. Лежит надутый да на Зойку глаза пялит – устыдить хочет. Пашка часто хвастал, что у него в глазах гипноз. На этот раз гипноз никак не действовал на Зойку. Она, когда Пашка особенно сильно вылупил глаза, привстала на локтях, сказала мне:
– Если не жалко, дай на денек «Письма» почитать.
Честно говоря, мне очень не хотелось даже на час расстаться с книгой, однако я переборол себя. Отдал. И заработал уничтожающий взгляд Пашки Шимана. Он совсем разозлился: обидно стало, что не он читал письма Короленко и не у него попросила их Зойка.
После уроков, когда нас снова свезли на веранду, Пашка всячески поддевал меня, называл «сусленышем» и в конце концов начал зачем-то хвастать, что де написал новое «мировое» стихотворение и что все ахнут, когда прочтет его после выходного на уроке литературы.
Запись седьмая
Получил письмо из дому. От Димки.
«Здравствуй, Саша! Мама говорит – напиши, я и сел писать. Ты о нас не думай. У нас все хорошо. Мама получила премию и купила Таньке новые туфли. А мне ничего не купила. Ты, Саша, напиши Таньке: пусть слушается меня – ведь ты сам писал, что я теперь главный в доме. А то терплю, терплю и надаю ей.
Федьке Губину футбол купили, задается, никому пнуть не дает. А мы себе сшили из войлока и гоняем. А он стоит, как дурак, со своим футболом.
Мама, как вспомнит про тебя, плачет. Я говорю ей: его лечат, а ты плачешь.
А Анька Кутузова по выходным губы красит, сам видел – краснющие, будто кто разбил. В кино с Валькой Будкеевым каждый раз шастает. А про тебя она не спрашивала…»
Задумался о доме, и сердце защемило. Скоро уже два месяца, как я уехал и живу здесь один. Соскучился по всем ужасно, особенно по маме. Как она там? Совсем измоталась, поди. Когда я был здоровым, то хоть обеды варил, комнаты прибирал да за Димкой с Танькой присматривал. А теперь как? Ну, Танька в детсаде, а Димка? Наверное, целыми днями носится по улице и совсем от рук отбился. Ему только дай волю – не уймешь.
Однажды маму послали в командировку. Прибежала она домой расстроенная.
– Как же я вас одних оставлю? Ведь на всю неделю еду. Я сказал, что мы не маленькие и, конечно, не пропадем за каких-то там семь дней.
Димка тоже подтвердил:
– Не маленькие. Не пропадем. И за Танькой будем смотреть.
Мама как-то жалобно улыбнулась, обняла меня.
– Ты уж постарайся, Сашенька, чтобы все в порядке было. Я очень надеюсь на тебя.
Мне даже жалко стало маму, говорю:
– Ну что ты такая? Все хорошо будет. Езжай и не думай.
Когда она ушла, Димка заплясал, как дикарь, закричал на весь дом:
– Эх, здорово! Вот поживем теперь, погуляем! Верно, Сашка? Сами себе теперь хозяева!..
Я сказал Димке, чтобы он не валял дурака, а принимался за дело: надо было купить хлеба, принести воды, сготовить обед. Но Димка лишь засмеялся да рукой махнул:
– Если тебе охота – делай. А мне не надо.
И убежал. Я тогда здорово разозлился. «Ну, думаю, погоди. Посмотрим, надо тебе или не надо». Я сводил Таньку в столовку, погулял с ней, поиграл во дворе. А Димки все не было. Пришел он, когда стемнело, красный, потный – футбол, наверное, гонял. Забежал в дом и сразу на кухню – искать, что бы поесть. А еды в доме никакой. Даже хлеба нет.
Я сам был голодный и злой, а как увидел кислую Димкину рожу, повеселел: «Ага, не нравится!»
Димка надулся, не стал со мной разговаривать и улегся спать.
Назавтра он снова куда-то убежал. Однако к обеду заявился, заглянул в кастрюли, в хлебницу – пусто. Стоит и чуть не плачет.
– Давай хлеба купим?..
– Давай. Вот деньги.
Димка мигом слетал в магазин, отломил кусок и принялся торопливо жевать.
– Может, супу сварим? – спрашиваю.
Димка только промычал что-то да головой кивнул.
– Тогда сбегай за водой, а я картошки начищу.
Поели мы – животы, как барабаны.
– Хорошо, – говорит Димка. – Завтра картошки нажарим, ладно?
До самого приезда мамы Димка больше ни от каких дел не отлынивал.
Давно это было, а как вспомню Димку, как он сидел тогда и давился хлебом, – жалость берет. Особенно сейчас, когда все они далеко от меня. Ведь он, Димка-то, в общем парень работящий, если захочет. Но маме, я знаю, очень трудно с ним.
Я, бывало, чуть что и тумака ему дам, а мама – нет. Она никогда нас не колотила. И морить голодом Димку, как я тогда, тоже, конечно, не будет.
Как бы мне хотелось сейчас вдруг очутиться на своей улице, войти в дом: «Здравствуй, мама! Вот и я, живой-здоровый». Представил, как бросились бы ко мне Димка и Таня, как стояла бы мама, растерянная, улыбающаяся, и тихонько вытирала слезы…
Эх, до чего же тяжело…
Я глянул на море. Оно сегодня блестело, как зеркало, и даже не верилось, что это вода. За горизонтом столбиком торчал сизый дымок – шел пароход. Я смотрел на этот тоненький ровный столбик и ждал, когда появится пароход. Но он будто застыл в этой недвижной воде и никак не мог выбраться на горб горизонта.
– Что там, Саньша? Чего увидел? – Ванька Боков завертел круглой, как арбуз, головой, с любопытством шаря глазами по морю.
– Ничего я, Ванька, не увидел… Я просто думаю…
– Про что думаешь?
– Про все. Про жизнь и про то, как влип я со своей этой болезнью.
Ванька махнул рукой.
– Хе, нашел работку! Брось, Саньша, зря башку ломать. Что есть, то есть. Лучше читай или вон, как Пашка Шиман, учись на гитаре.
Смотри-ка, радость какая – гитара! У меня от чужого бреньканья скоро голова расколется, а тут бы еще сам взялся. Один Пашка своим старанием с ума всех посведет: он почему-то решил, что поэт непременно должен сам сочинять музыку и петь свои песни. И вот уже две недели чуть ли не целыми днями он с надоедливым упорством мучает гитару, общипывает на ней струны.
Акын!
Я-то хорошо понимаю, для чего ему вдруг загорелось распевать свои стишки. Для Зойки. Думает, что песнями проймет ее. Пусть старается, а мне этого совсем не нужно…
Я снова прочел Димкино письмо… Удивительно, как я раньше не догадался, что Анька Кутузова такой паршивый человек! Сразу забыла обо мне, как только я уехал. Одно лишь письмо прислала и то коротенькое, словно торопилась куда-то. Хоть бы через Димку привет передала, если уж самой некогда написать… Губы красит! Совсем, наверное, поглупела с этим своим Будкеевым…
Пароход все-таки выбрался из-за горизонта. Огромный, белый, сверкающий на солнце каждым стеклышком, он прошел мимо гордый и важный. Откуда он и куда? В каких морях и океанах плавал? Какие страны видел? Хоть бы денек, хоть бы один часик побывать на нем, постоять на капитанском мостике, понюхать, чем пахнет оно, это море.
Эх, мечты, мечты… А об Аньке я жалеть не стану. Пусть красит губы, пусть бегает по кино с этим Будкеевым. Правильно говорится, что друг познается в беде. Вот она и позналась. Теперь решено навсегда: с девчонками дружить не стоит. Все они такие…
Запись восьмая
Сразу же после завтрака – обход. Впереди – наш заведующий отделением Сергей Львович. Молодой, широкий, с такими огромными ручищами, что даже страх берет, когда собирается ощупывать – так и кажется, что все кости переломает.
Подошел ко мне, подмигнул весело.
– Ну как, привыкаешь к новой жизни?
Я ответил, что привыкаю помаленьку, и нога почти не болит.
Сергей Львович кивнул одобрительно и взялся вертеть меня, мять и слушать. Потом сказал:
– Что ж, будто бы порядок. А посмотреть тебя еще разок, пожалуй, нужно. – И сестре: – Приготовьте завтра на рентген.
Повернулся к Ваньке, а тот уже улыбался во всю ширину лица.
Сергей Львович, не произнеся ни слова, грозно насупив широкие брови, выставил два своих пальца, как рогатку. Ванька радостно закивал. Тогда Сергей Львович засмеялся и щелкнул Ваньку в лоб.
– Молодец!
Этот молчаливый разговор означал, что Ванька сегодня снова съел двойной завтрак.
– Как ты, Ваньша, смотришь на пельмени?
– Как смотрю… Хорошо смотрю: стоящая еда. А что, сегодня будут?
Ребята засмеялись. Сергей Львович провёл ладонью по Ванькиной голове.
– Славный ты парень, Ваньша Боков. Были бы все такие больные, как ты, забот бы не знал. – И уже серьезно: – Дела твои идут круто на поправку. Через три – четыре месяца, пожалуй, можно будет выписать…
– Да ну-у?! – выдохнул в восторге Ванька.
– Точно. Но не выпишу.
– Пошто?
– С такими клыками? Пока не выдернем – не поедешь домой. Пойми: лицо красивым станет, да и… кличку свою дурацкую похоронишь. Ну?
Ванька уже не улыбался.
– Да ведь здоровые они, зубы-то! И опять же, говорят, крепко в десне сидят. Нерв на глаз от них идет. Вдруг косым стану? Хромой и косой – куда годится? Не-ет, они мне не помеха.
Сергей Львович покачал головой.
– Ну и придумал чепуху…
Ванька мучительно размышлял, потом, чуть побледнев, рубанул рукой.
– Ладно! Будь, что будет! Дергай, Сергей Львович… Пущай!..
До самого обеда Ванька был говорлив и весел: скоро домой – раз, Сергей Львович похвалил – два, на обед пельмени – три.
– У нас мамаша – ух мастерица всякую штуку стряпать. Бывало, к празднику этих самых пельменей как завернет! Штук пятьсот! С чесночком, с перчиком. Начнет варить – от пахучести сыт. Потом как навалимся все – ого-го! Или сырнички! А то еще я люблю тыквенную кашу с пшеном. На молочке. Ты, Саньша, едал?
Нет, я, к сожалению, не едал. Не довелось как-то. А честно говоря, мы ее просто никогда не садили, эту самую тыкву.
Ванька с глубоким огорчением глядит на меня.
– Эх, брат!.. Как же ты?.. Это же… – И не найдя нужных слов, пошевелил пальцами около рта.
Все, кто слышит Ваньку и видит, смеются. Фимочка кричит:
– Ну, запела парнокопытная сирена. Смотрите-ка, чем похваляется. Вот у меня мамаша – да! Бывало целого кабана – шасть в печь… Потом мы все как навалимся – ого-го! Только клыки выплевываем.
По веранде раскатился дружный хохот. Фимочка доволен, а Ванька сразу сник. По щекам пошли красные пятна. Хотел что-то сказать, но лишь рукой махнул.
Есть, лежа на спине, когда на груди твоей стоит тарелка с горячим борщом, – удовольствие не большое. Рука с ложкой трясется, губы вытягиваются в такую длинную трубку, что даже затылок ломит. Пока донесешь ложку до рта, обольешься, обожжешься.
Просто с завистью слежу, как едят Фимочка, Мишка Клепиков, Пашка: быстро, будто за столом, и, главное, ни капли не уронят на себя. Наловчились. Хоть в цирке каждого показывай. Ваньке совсем хорошо: уселся на койке поудобней, поставил тарелку на колени и знай себе хлебает. Ест неторопливо, вкусно: корочку разжевывает с хрустом, борщ из ложки вытягивает с шумом, покряхтывает от удовольствия.
Засмотрелся я и полную ложку борща опрокинул себе на подбородок, на шею. От неожиданности и боли я так взвизгнул, что испугал рыжего Рогачева – он подавился и закашлялся. Клепиков захохотал, а Ванька покачал головой.
– Худо, брат… Вот погоди-ка, подмогну тебе.
Я еще не успел сообразить, каким образом Ванька собирается «подмогнуть» мне, а он уже снял с моей груди тарелку, подбил подушку, подтянул меня повыше, как маленького, потом, недолго порывшись в сумке, что висела на спинке его кровати, достал деревянную ложку, протянул мне.
– Моя домашняя… А теперь ешь. Этак понемногу набирай да корочкой споднизу – не капнет. И не спеши – не гонят. Еда – не игра… Увидишь, все хорошо будет.
И точно: не так обливаться стал, и борщ показался вкуснее.
Ленька Рогачев долго и с интересом смотрел то на меня, то на Ваньку, усмехнулся.
– Тебе бы, Боков, нянькой работать.
Ванька весело подмигнул.
– Мог бы… Вон я их, детишек, сестер да братьев, сколь повыходил – целых шесть.
Он наклонил тарелку, осторожно вылил остатки борща в ложку, выхлебнул его, а ложку облизал.
– Вкусный. Пожалуй, еще с полтарелочки попрошу…
Пока Ванька ждал добавки, а мы пельменей, Фимочка болтал.
– Хотите сказочку?
– Давай. Только позабавней.
Фимочка хитро подмигнул:
– Сказка в самый раз… Так вот: жил-поживал в некотором царстве-государстве старый-престарый царь Берендей, по прозвищу Свиное рыло…
Кто-то хихикнул, предвкушая смешное. Я тоже усмехнулся: ну и мастак же этот Фимочка рассказывать всякие истории. Откуда он берет их – не поймешь: или вычитывает, или выдумывает?
Фимочка сделал небольшую паузу и со своей тоненькой полуулыбочкой продолжал:
– Свиное рыло был ужасно злой и жадный. Все, что ни увидит, себе тащит. Народ прямо воем выл, такие дани брал Берендей. А ему все мало казалось. Выйдет утром на балкончик и начинает нюхать: откуда вкусным пахнет? Боялся, чтобы даже запах зря не пропал. Однажды, нанюхавшись до слез, велел Свиное рыло немедленно позвать своего сына Обжору Берендеевича и сказал: «Стар я очень и слаб. Нет у меня зубов, чтобы жевать. А в моем царстве народ еще богат: я каждое утро чую – вкусной пищей пахнет. Обидно и зло берет. Иди, мой дорогой сын Обжора Берендеевич, по дворам и съедай все, что тебе понравится. За себя и за меня. И за твою добренькую маму – у нее уже давно желудок не варит. И за твоего дядюшку – у него рук нет. И за бабушку, которая два года, как умерла. И за дедушку, который…
Раздался давно сдерживаемый хохот. Ребята заоглядывались на Ваньку. Обернулся и я. Он, получив уже добавку, держал над тарелкой ложку и насупленно прислушивался к Фимочке.
– …И вот отправился Обжора Берендеевич по дворам. В первом он съел курицу – за себя. Во втором утку – за папочку. Потом гуся – за мамочку, барана – за дядюшку, телку – за бабушку. А когда стал обгладывать быка за дедушку – лопнул.
Мы хохотали, а Ванька, не поднимая глаз, медленно положил на тумбочку ложку, поставил тарелку и тяжело отвалился на подушку, натянув на голову простыню.
Я перестал смеяться.
– Ванька, ты чего? Неужели из-за Фимочкиной болтовни? Ведь ерунда это…
Ванька лишь сильнее натянул простыню.
Разнесли пельмени. Ваньке две порции – полная тарелка.
А он лежал по-прежнему, не шевелясь, будто уснул. Сестра забеспокоилась:
– Что с тобой, Ваня? Заболел?
Ванька молчал.
– Может, Сергея Львовича позвать?
Ванька сдвинул простыню с лица, выдавил глухо:
– Не надо… Не надо Сергей Львовича… Я не болею… Пройдет…
Фимочка пожал плечами:
– Пошутить нельзя… Смотри-ка, нотный какой.
Ванька так и не притронулся ни к добавке, ни к своим любимым пельменям, ни к третьему – мороженому.
Запись девятая
Ночью Ванька плакал. От этого я и проснулся. Спросил шепотом:
– Что с тобой?
Он не ответил. Тогда я подтянул свою койку к Ванькиной – колесики тихо и легко покатились по полу. Ванька привстал на локте.
– Ну чего надо? Прилез тут…
Сказал будто зло, а губы, бледные при свете ночника, жалко покривились, и он снова всхлипнул. Я тронул его за руку.
– Брось, Ванька. Из-за всякой чепухи…
– Ага, чепуха… – Ванька приумолк и, сопя, вытирал кулаком глаза. Потом подался ко мне, зашептал: – Обидно… Я, когда приехал сюда, с Фимочкой было подружился. Улыбчивый, конфетами угощал – ему родители каждый месяц деньжищ да посылок шлют!.. Все спрашивал про меня, про нашу деревню, ну я и пошел, как другу-товарищу, выкладывать. Про то сказал, как провожали сюда, как папаша наказ давал: «Ты, мол, Ваньша, понимай: не для отдыха и баловства всякого едешь, а для лечения. Веди себя как положено. Все, что ученые врачи скажут, – выполняй справно. И ешь. За всех нас ешь, потому как пища – от всех болезней главное лекарство. А нам без тебя трудно станет… Постарайся, Ваньша, побыстрей вернуться…» Я и ем. Иной раз не хочу, а ем. Надо жиром обрастать, чтобы болезнь убоялась, пропала… А Фимочка, вишь, что придумал?
Ванька замолчал и уставился за стекло веранды. В небе катилась огромная лунища, по морю бежала, переливаясь, серебристая дорожка. Она обрывалась у пляжа, который был совсем голубым. Ванька вздохнул трудно, прерывисто.
– Как они теперь там, дома?.. Папаша-то у меня больной, на работе шибко надорвался. Мамаша, поди, с ребятней поизмучилась – малы еще. Эх, хлебанут без меня… Прямо душу дерет…
Мы заснули под утро, забыв раздвинуть койки.
Запись десятая
Сногсшибательная новость: полярный летчик Черевичный на самолете СССР-Н-169 вылетел в арктический рейс. Мы все только и говорим об этом, изучаем карты, строим всяческие предположения и спорим.
Пашка Шиман на своей карте начертил две жирные прямые красные стрелы. Первую от Москвы до острова Рудольфа, другую от острова Рудольфа до острова Врангеля – путь, по которому должен лететь Черевичный. Когда я отыскал этот остров – Врангеля, был просто потрясен: как далеко он от Москвы! Почти у Берингова пролива, на краю нашей земли. Вот это перелет! Вот настоящий герой!
Пашка читал: «Остров Рудольфа находится севернее островов Земли Франца-Иосифа, является базой советских воздушных экспедиций на северный полюс…» Я слушал Пашку, а сам думал. О чем? Об одном и том же: что я, должно быть, совсем зря живу на свете – не гожусь ни для какого большого дела, ни для какого подвига.
Ведь кто совершает подвиги? Летчики, моряки, зимовщики, как например, папанинцы, пограничники, геологи или, в конце концов, пожарники. А мне не летать, не плавать, не взбираться на горы, не открывать полезные ископаемые. Меня даже в пожарники не возьмут. Разве это жизнь?
Дома я как-то совсем не задумывался ни о себе, ни о том, что делается на свете. Не потому, что я какой-то дурак. Просто некогда было. Даже «Пионерку» почитать времени не хватало: зимой уроки да лыжи, а летом на реке да в лесу. И радио слушал только зимой – прогноз погоды. Все узнавал: большой мороз на дворе или нет? Если большой – радость, уроков не будет, можно досыта на лыжах покататься…
Теперь времени – захлебнись: и радио слушаю, и газеты читаю. Почти все, которые выписывают на наше отделение. Читаю и удивляюсь: до чего много всякого интересного и героического происходит у нас. И почти каждый день. То моряки спасают потерпевших кораблекрушение, то пограничники задерживают диверсантов, то охотники с опасностью для жизни ловят титров или медведей.
Но, конечно, больше всего подвигов у летчиков. Вот совсем недавно мы читали о командире воздушного шара Зиновьеве, который продержался в воздухе целых два дня и две ночи.
«Беспримерный полет», «Международный рекорд», «Отважный аэронавт»!
Аэронавт! Одно слово чего стоит! Да за такое слово все отдать не жалко. А теперь вот новое: полярный летчик… Что лучше – выбирай.
Конечно, кто-нибудь и выберет, только не я.
Запись одиннадцатая
Нам обещали показать новый фильм «Валерий Чкалов». Эта кинокартина только что вышла на экраны города, и нам хотят показать первым; говорят – Сергей Львович постарался. Здорово, ничего не скажешь.
Но это завтра, в выходной. А сейчас надо собираться на занятия. Вон наши санитары дядя Вася и дядя Кеша, по прозвищу Сюська, уже начали развозить ребят по классам. Эту кличку, Сюська, дяде Кеше влепил Мишка Клепиков за то, что тот свои любимые словечки «слушай-ка» произносит «сюська». Кличка крепко прилипла к дяде Кеше. Даже девчонки зовут его так – дядя Сюська.
Вот уже и Ленька Рогачев «уехал». Пришла моя очередь. Дядя Вася легко выкатывает койку в широкий проход и мчит меня к нашей палате.
– Ну что, Сашок, уже привык к горизонтале?
Этот вопрос дядя Вася задает каждый раз, видимо, умышленно произнося неправильно окончание слова.
– Привык, дядь Вася. Захотелось еще лет пять полежать.
– Многовато. Но ничего, если заскучаешь о доме – скажи: мигом довезу тебя на этом быстроходе.
И смеется, топорща рыжеватые усы. Я тоже смеюсь. Так и въезжаю в палату.
Звонок. Первый урок – алгебра. Вот и «Энная степень» появился – наш математик Самуил Юрьевич, худой, длинный и гривастый, как потрепанная метла. Молча кивнул нам большой головой и прошел прямо к Рогачеву, присел на койку.
– А ну-ка, Леня, покажи, что у тебя получается с биномом.
И минут на десять оба молча и сосредоточенно засопели над Ленькиной тетрадью. Потом уже начался урок.
Все четыре часа Ванька Боков вертелся на койке, морщился и тяжело вздыхал. Я спросил тревожно:
– Опять случилось что-нибудь?
Ванька подавленно махнул рукой.
– Будто не знаешь – зуб нынче дергать будут… Ух, боюсь, аж внутри все дрожит!
– А ты откажись.
– Да ты что? – Ванька даже привстал. – Как так: откажись? Что скажет Сергей Львович? Не-ет, я своему слову хозяин. Лучше помру, а вырву.
– Ну, тогда не стони. Ванька поморщился:
– Что за человек такой! Совсем непонятливый. Говорю тебе: боюсь.
Фимочка и Пашка без роздыху завоевывали Зойку: умничали, стараясь положить друг друга на лопатки.
Ванька даже забыл на время о своих страхах, удивленно таращил глаза.
– Во дают! Чисто наши деревенские петухи: кто кого перекукарекает.
А Зойка хоть бы что: тараторит с девчонками.
Перед последним уроком она вернула мне «Избранные письма» Короленко, сказала, что они, эти письма, может быть, и интересны, но не для нее. Их полезней почитать Пашке Шиману, авось поймет, о чем там написано, и бросит свои стихи.
Пашка осекся на полуслове, будто ему вбили в рот кляп. По лицу пошли фиолетовые пятна, а на губах застыла жалкая улыбка. Притих и Фимочка: испугался, наверное, что Зойка и для него отольет горькую пулю. Только Мишка Клепиков хохотал, как сумасшедший: хрюкал, подвывал, стонал, охал. Не поймешь: или ему в самом деле так невыносимо смешно, или просто дурака валяет.
Я развернул книгу на своей закладке, и на грудь вдруг упала узенькая записка. Сердце мое дрогнуло и замерло: «Ты мне нравишься. Давай дружить. Ответь»…
Чья это записка? Кому? Мне? Не может быть! Глянул на Зойку. Она чуть приметно кивнула, улыбнулась. Сразу стало жарко. Как вор, зазыркал по сторонам: не заметил ли кто?
Едва дождался конца занятий, чтобы как следует почитать и подумать над Зойкиной запиской. Повернул случайно голову к Рогачеву, встретил его чуть прищуренные глаза. Так и похолодел.
– Ты чего?.. Чего уставился?..
Ленька усмехнулся.
– Да так… Лицо у тебя какое-то глуповатое. С чего бы это?
– От алгебры, – ответил я и почувствовал, как дрожит мой голос.
– Ну-ну, давай… – Рогачев снова усмехнулся и принялся читать книгу как ни в чем не бывало.
Черт рыжий. Сова очкастая. Не иначе он все видел, и теперь надо ждать от него какую-нибудь пакость.
После обеда, когда мы готовились к мертвому часу, Ваньку, посеревшего от страха, повезли к зубному врачу. Я воспользовался этим, достал из его тумбочки осколок зеркала, укрылся с головой простыней и принялся внимательно рассматривать себя.
Ничего хорошего не нашел. Глаза зеленые, нос длинный, зубы широкие, не очень ровные. На голове топорщатся почти белые волосы и тощими косичками спускаются на лоб и к вискам. Фу ты! Никогда не думал, что я такой некрасивый. Я было совсем расстроился, да вовремя вспомнил про записку. Все-таки понравился Зойке. Значит, во мне что-то есть такое…
Тут же, под простыней, принялся сочинять ответ. Хотелось так написать, чтобы она сразу почувствовала – не в красоте дело. Однако написать не удалось: привезли Ваньку, потного, красного и без одного клыка.
– Вот гляди – нету, – сказал он шепеляво, приподняв губу. – Думал, можги вмеште ш жубом выташшат.








