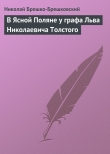Текст книги "Лев Толстой"
Автор книги: Виктор Шкловский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
ДОРОГА К ТИФЛИСУ И ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Сентябрь месяц 1851 года Лев Николаевич прожил в станице Старогладковской. Ходил на охоту, волочился за казачками, пил, писал, переводил, выезжал в крепость Грозную и в Старый Юрт.
Но надо было определяться на службу. Николай Николаевич ехал в Тифлис, одному в станице оставаться было тоскливо.
Братья поехали вместе. Дорога дальняя – горы заняты Шамилем. В Тифлис ехали сперва на северо-запад до станицы Екатериноградской, а потом на юг через Владикавказ, Дарьяльское ущелье, Крестовый перевал. В дороге были семь суток: первые сто верст пути были неинтересны, равнина, однообразные волны Терека, знакомые станицы.
Владикавказ путешественники застали окруженным черно-зелеными дубово-буковыми лесами, спускающимися по склонам гор к предместьям города.
Терек разбросанно бежал по серым плоским голышам, вынесенным из гор Кавказа. Улицы вымощены теми же голышами и напоминали об отмелях Терека.
Дорога шла по постепенно суживающейся равнине. Терек шумел сильнее и сильнее, горы сходились, сжимая ладонями откосов быструю реку. Терек не шумел, а ревел в каменной щели. Дорога лепилась по уступам гор; она шла то по щебню, то по вырубленному камню.
Внизу быстрая, ворчащая вода, скрученная из волн, вверху небо.
Толстой ехал по следам Пушкина и Лермонтова.
В ущелье впадали другие ущелья, круглые башни замыкали их. Было тесно, черно.
На горах цеплялись кустарники, над ними белыми потеками сверкали леднички. Дорога переходила по дрожащим мостам с одного берега Терека на другой. Потом горы разомкнулись.
Селение Казбек находится на высоте тысячи семисот пяти метров над уровнем моря. Кругом горы, и среди них издали огромный, ограненный льдами Казбек. На уступе Казбека, на черной горе стоит маленький островерхий храм, и тучи, теснясь по ущелью, проходят между Казбеком и храмом, перетягиваясь через камни, перегибаясь через седловину, как белый хворост.
Толстой поднялся в храм. Храм был мал, заброшен, вокруг него лежали камни, на фронтонах высечены туры.
Поехали дальше: дорога опять сузилась, снега подошли прямо к ней. Дорога, изгибаясь от усилий, поднималась кверху по северному склону водораздельного хребта, к видимому кресту на Крестовом перевале.
Крест все крупнел: он каменный, большой.
Становилось все холоднее, тише. Дорога отошла от Терека, смолкли ручьи, безмолвствовали льды; воздух был прозрачен.
Вид так широк, что ухо просит звука, равного впечатлению зрения, но все было безмолвно.
Начали спускаться. Зажурчала вода, отодвинулся снег. Показалась нить рек в трехверстной глубине, горы покрылись истертой травой; по узким серым тропам-горизонталям виднеются на серо-желтой траве вереницы желто-белых овечьих стад.
Ниже показались сады и рощи.
Опять шумит вода; уже громко шумит.
И скоро люди услыхали, как щебечут птицы.
Миловидная Грузия встретила их. После Душета увидали старинный, усохший от древности каменный городок Мцхет с храмом XI века.
История разрозненными страницами, исписанными неведомыми письменами, лежала под ногами Толстого.
Две реки – мутная Кура и сине-белая Арагва сливались около моста, построенного еще римлянами; наверху возвышался древний храм, описанный Лермонтовым в поэме «Мцыри».
Храм покрывал верх горы – она обнажалась внутри храма, как главная святыня: некогда вершина горы была священным местом, на котором приносились жертвы.
По каменным берегам Куры к воде спускаются дома Тифлиса.
Тихо, жарко. К дальней скале прилепилась, как сокол, пестрая кирпичная крепость. Пять мостов перекинулись через быструю Куру, плавучая мельница крутит над нею деревянными колесами.
Город полон экипажами, конями, верблюдами, пестрой толпой, дома нависли над улицами широкими балконами; улицы сходятся на треугольных площадях.
Из-под куполов врытой в скале бани в русло каменной речки плоской струей течет зеленая, мутная, как будто мыльная, вода. Женщины на камнях моют ковры ногами; говорят, ковер, вымытый в этой воде, становится драгоценнее.
По узким и крутым улицам не спеша подымались ослики с перекидными корзинами.
Буйволы, закинув тяжелые головы с желтовато-голубыми рогами, тянули высококолесную арбу, спокойно отражая большими, высоко поставленными глазами синее небо и редкие облака.
На окраинах низкие, как в Кизляре, дома с плоскими крышами. В северной части города европейские постройки с большими окнами. Дворец наместника напротив театра.
На базарах торгуют в открытых лавках.
Ремесленники работают в помещениях с широко раскрытыми дверьми-ставнями и прямо на земле.
У моста куют, чеканят серебро, лудят огромные котлы, шьют обувь, седла.
В домах, фундаменты которых опускаются прямо в пену Куры, красят сафьян и козловую кожу, в узких переулках видны красильщики в рубахах с высоко засученными рукавами. Руки мастеровых прочно и высоко окрашены – у одних в желтый, у других в красный и синий цвета.
Пестро, богато, интересно.
Вот как описал Я. П. Полонский Тифлис того времени:
Вот караван-сарай, восточными коврами
Увешан пыльный вход, узоры их пестрят —
Но я иду от них сквозными воротами
На низкий дворик, устланный плитами,
С бассейном без воды, и слышу, как шумит
Волна в Куре, – куда она спешит,
Неугомонная, живая?
Не знает, что вдали от этих берегов
Ей не видать других цветущих городов,
Как не видать земного рая!
Что никогда оттуда, где шумят
Каспийские валы, гнилой камыш качая,
К решеткам караван-сарая
Не воротиться ей назад!
(«Прогулка по Тифлису»)
Никто не оглядывается на проезжих; свое интереснее.
Николай Николаевич смотрит устало – все уже видел Толстой и Ванюшка жмурятся от солнца, от желтизны неопавших листьев, яркости платьев.
Не только после тихой станицы можно поразиться Тифлисом Толстой писал тетке в Тулу: «.. после 7-дневного путешествия, скучнейшего из-за того, что едва ли не на каждой станции не оказывалось лошадей, и приятнейшего из-за красоты местности, по которой мы проезжали, мы прибыли 1-го числа в Тифлис».
Наступил ноябрь: месяц фруктов, молодого вина, урожая, ссыпанного в амбары.
ХЛОПОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НА СЛУЖБУ
Казалось бы, что устройство молодого графа, имеющего права, окончившего среднее учебное заведение, не состоявшего в тайных обществах и, кроме того, человека, который является братом офицера, служащего на том же фронте, очень просто.
На другой день по прибытии в Тифлис Толстой явился к генералу Бриммеру Эдуарду Владимировичу – начальнику артиллерии отдельного Кавказского корпуса – и представился.
Лев Николаевич был одет в костюм самого лучшего петербургского портного Шармера; кроме того, он еще купил за десять рублей в Тифлисе складную шляпу и, вероятно, был молодым человеком очень привлекательным, хотя и застенчивым.
Он предъявил свои бумаги. Генерал Бриммер с немецкой добросовестностью их рассмотрел и отказал Толстому в приеме на военную службу. Не хватало отставки со штатской службы и свидетельства из Герольдии о дворянском звании. Генерал заявил доброжелательно и вежливо, что нужно ждать документов из Петербурга. Толстой первоначально думал, что хватит тех документов, которые Николай Николаевич забыл в Старогладковской. Срок отпуска Николая Николаевича кончился, он уехал в Старогладковскую, оставивши Толстого с очень небольшими средствами.
Погода стояла прекрасная, в городе, окруженном садами и виноградниками, было тепло, несмотря на то, что уже наступала середина ноября.
Лев Николаевич подождал две недели. Казалось, что дело не так сложно, тем более что Льву Николаевичу повезло и он встретил своего дальнего петербургского знакомого, князя Георгия Константиновича Багратиона-Мухранского.
Это был человек, имеющий тифлисские связи, но чин у него был небольшой – коллежский советник. Чин коллежского советника в Грузии давали людям и без образования. Багратион-Мухранский, вероятно, был образован, но коллежский советник в Тифлисе значил мало.
Багратион познакомил Толстого с семьей князя Чавчавадзе, где Лев Николаевич узнал знаменитую грузинскую красавицу, друга семьи Воронцовых, Манану Орбелиани, которую он описал впоследствии в «Хаджи Мурате». Знакомство было аристократическое.
Но Лев Николаевич был в Тифлисе без денег и попал в положение очень трудное; он снял на правом берегу Куры в немецкой колонии две довольно чистые комнаты за пять рублей серебром в месяц, разговаривал с хозяином своим по-немецки. Он ходил по Ереванской площади, смотрел на маленький тифлисский театр и ждал бумаг. Вернуться в Старогладковскую он не мог, потому что у него был там неоплаченный долг, поехать в Тулу он не мог, потому что он пробыл уже почти год на Кавказе, но не получил ни чина, ни креста: ему было бы стыдно перед купцом, который у него дешево купил лес, или перед соседним помещиком; ему было стыдно перед людьми, до которых ему не было дела.
Он хотел быть таким, как все: если поехал на Кавказ – надо вернуться хотя бы со скромной военной славой, с какими-то поступками.
Лев Николаевич еще не вполне знал, что он совсем не такой, как все.
Своей литературной работе он не придает большого значения. Он пишет тетке: «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы; так вот я послушался вашего совета – мои занятия, о которых я вам говорю, литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу».
Толстой работал над второй редакцией «Детства».
Тетка ласково утешала своего племянника и неудачника, что и это работа.
Он болел. Писал брату в Старогладковскую, что у него нет денег на аптеку и на доктора и что он не может уехать. Просил, чтобы брат прислал ему сто сорок рублей.
В это время Лев Николаевич сильно играл на биллиарде и проигрывал все, что у него было, плутоватому маркеру. Он был охвачен новой страстью так, как умел отдаваться каждому делу во всю свою жизнь.
Стыд за смешное положение, мысли о смерти и в то же время тревога о том, что левый ус у него хуже правого, мечты о том, как хорошо он будет выглядеть в новой черкеске на коне, – все это мучило очень молодого человека – ему шел двадцать четвертый год.
Друзей не было. Он познакомился со ссыльным поляком, помощником аптекаря; но тщетно надеялся, что ему поможет командующий фронтом Барятинский.
Братья не отвечали на письма или писали невнимательно. Только Ергольская отвечала внимательно и без иронии на длинные письма, полные неисполненных надежд и сомнений.
Николай Николаевич был человеком толстовского склада. Все Толстые – четыре брата и сестра – отличались странностями: были страстны, талантливы, непостоянны и совершенно не годились для деловых хлопот. Практичнее всех был Сергей Николаевич – обставлял свою охоту, увлечение цыганами и затянувшийся роман с цыганкой такой барственной легкостью и такой ясностью мысли, что даже купцы, по его просьбам, не предъявляли просроченных векселей, понимая, что Толстые не бедны – семья с запущенными делами, которые еще поправятся.
Сергея Николаевича смешила чувствительная многословность писем Толстого к тетке, он не понимал, что это внутренние монологи Толстого. Лев Николаевич спешил рассылать письма, совпадающие по содержанию, по нескольким адресам; Сергею Николаевичу не было понятно, что это для брата продолжение литературной работы, как бы тираж его мыслей.
Про себя Толстой знал, что он барин, и барин большой, родственник Горчаковых, человек, который может делать что хочет. А тут в Тифлисе он оказался в положении просителя и человека, которому постыдно не хватает денег на жизнь.
Он пишет Ергольской 15 декабря: «Только что получил ваше письмо, дорогая тетенька… скажу, что от счастья я плакал, как ребенок…»
Дальше начинаются жалобы на безденежье, советы Сергею, как ему жить, и надежды, что скоро прибудут бумаги и тогда можно будет поступить на военную службу.
Брату Сергею Лев Николаевич пишет из Тифлиса 23 декабря 1851 года длинное письмо, шутя признаваясь в тщеславии, в том, что он пускал пыль в глаза подполковнику Алексееву; тут же он говорит о Багратионе и о князе Барятинском.
«Я познакомился с ним в набеге, в котором под его командой участвовал, и потом провел с ним один день в одном укреплении вместе с Ильей Толстым, которого я здесь встретил».
Дальше – слова разочарования: «Знакомство это, без сомнения, не доставляет мне большого развлечения, потому что ты понимаешь, на какой ноге может быть знаком юнкер с генералом».
Пребывание Толстого рядовым в армии похоже на положение ссыльного, разжалованного: так про него потом думали в Пятигорске.
Возможность поговорить с Барятинским, несмело и как бы случайно напомнить ему об общих знакомых домах – возвращение в свою сферу. Но Толстой не свой среди своих. Он начнет понимать это позднее.
В июле 1853 года он встретится в Пятигорске с любимой сестрой Машей и ее мужем – двоюродным братом В. Толстым. С изумлением он запишет в дневнике, что его и здесь встречают холодно, что ему трудно, и спросит себя: «Или я не для этого круга?»
Пока же он поглощен отсутствием нужных бумаг.
«Узнай в Депутатском собрании, выслан ли мой указ об отставке; ежели не выслан, то немедленно это сделать. – Очень нужно», – пишет он брату Сергею.
В конце письма поклоны, несколько цыганских слов и сообщение: «…второе лицо после Шамиля, некто Хаджи Мурат, на днях передался Русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость».
Позднее он изменит это мнение.
Толстой говорил, что ему не везет во всех делах, что, очевидно, существует какой-то бесенок, который ему непрерывно досаждает и разрушает все его предприятия.
Николенька бумаги переслал, но в бумагах не оказалось указа об отставке. В этом деле Николенька не был виноват, потому что Толстой не выхлопотал указа в Туле, собираясь скоро вернуться.
Генерал Бриммер, на которого Толстой надеялся, сказался больным, и Толстого не приняли. Князь Багратион начал хлопотать за Толстого у начальника главного штаба генерала Вольфа. Вольф обещался похлопотать, но по случаю праздников его канцелярия закрылась. Князь Барятинский, на которого Толстой надеялся, уехал.
Все уклонялись от хлопот по толстовскому делу.
Деньги вышли окончательно, но 3 января была получена бумага, неясно составленная, – о том, что фейерверкер 4-го класса Толстой, который больше не именовался коллежским регистратором, должен отправиться в свою батарею.
Прошение об определении на военную службу, подписанное Толстым 31 декабря 1851 года в неформенной папке, сохранилось. В папку вложили рапорт начальника артиллерии, что Толстой согласно его прошению по выдержании экзамена «определен мною на службу впредь до рассмотрения в инспекторском департаменте Военного министерства документов о его происхождении, на правах вольноопределяющегося фейерверкером 4-го класса в батарейную № 4 батарею».
Лев Николаевич пока торжествовал. Написал брату Сергею длинное письмо, советуя и беспутному брату Митеньке ехать служить на Кавказ. Про свои дела сообщал так:
«…могу сказать, что поступил геройски – взял с бою свой приказ о зачислении, – теперь сижу целый день дома, читаю, пишу и дожидаюсь денег».
Толстой еще не знал о том, какую шутку шутил с ним бесенок дворянской нечеткости и чиновничьей уклончивости в делах.
Генерал Бриммер, по существу говоря, не принял Толстого на военную службу, а послал бумаги дальше, в военный департамент, отписавшись от докучного просителя с немецкой аккуратностью.
Толстой после этого принимал участие в серьезных боях: вместе с братом сражался в тумане под чеченским аулом, стоял около орудия, которое подбила артиллерия противника, а взвод, к которому он был прикомандирован, подбил вражеское орудие. Но не мог получить ни ордена, ни чина, потому что он не состоял на военной службе, а только «как бы состоял» «впредь до рассмотрения», пока его бумаги ходили по инстанциям, а он добивался протекции.
Через несколько месяцев Ергольская с изумлением писала Толстому, как же он опять хлопочет о приеме на военную службу, когда он уже принят, по собственным его словам.
Толстой ответил не совсем внятно.
Пока же он получил неожиданное снисхождение от своего бесенка. Брат Николай прислал письмо (6 января), в котором были вложены надорванные векселя Кноррингу. Кунак Садо Мисербиев, сыграв удачно в Старом Юрте и выиграв толстовские векселя, принес их Николаю Николаевичу и спросил:
– Как думаешь, брат рад будет, что я это сделал?
Толстой начинал свое письмо к Ергольской описанием того, что он плачет сладкими слезами, читая ее письма. Затем сообщал, что перед получением векселей он вечером горячо молился; он считал, что с ним произошло чудо.
Религиозность Толстого в то время – временами восторженная, временами скептически осторожная – не выходит из обычного отношения к религии у людей его положения и его времени.
Он молился на охоте перед выстрелом. Здесь дело было серьезнее. Получалось, что бог как будто сам сидел рядом с Садо, отыгрывая векселя, у которых 1 января истекал срок уплаты.
Письмо кончалось просьбой:
«Пожалуйста, велите купить в Туле и прислать мне шестиствольный пистолет и коробочку с музыкой, ежели не очень дорого, такому подарку он будет очень рад».
Садо же обещал Льву Николаевичу, что он для него украдет лучшего коня. Брату Сергею Толстой пишет: «Тетенька объяснит, почему, когда я вернусь в Россию, тебя ожидает подарок – прекрасной кабардинской лошади от незнакомого тебе человека».
Так полны хлопотами, заботами, неудачами, надеждами тифлисские письма.
Между тем «Детство» писалось страница за страницей, глава за главой, писалось, переделывалось, и то, что сообщал о себе Толстой своим родным, было только пеной вокруг настоящей его жизни.
Это была работа непрерывная, ежедневная, идущая многими струями, отмывающая золото из золотоносного песка, становящаяся все более ясной, простой и подготовляющей другие, как будто бы не похожие на нее работы.
В начале 1852 года Толстой был почти счастлив. Он уезжал из Тифлиса с пакетом, в котором, как он думал, находился приказ с его зачислении: он мог ехать в Старогладковскую, которая для него уже стала домом.
В Старогладковской стоял лес, покрытый снегом и инеем, на берегах Терека лежал снег, снег покрывал красные пески.
В Старогладковской Толстого ждал дядя Епишка с длинным ружьем, казачки, идущие по улице спокойно, красиво, никого не боясь, ни о чем не хлопоча.
В Туле искали подарок Садо и ахали на то, что Лев Николаевич опять играет.
Револьвера не нашли, коробочку с музыкой достали с трудом. В. П. Толстой, муж Маши, отдал свою.
Лев Николаевич ее получил в конце марта 1852 года. Записал так: «Привезли коробочку, и мне стало жалко отослать ее к Саде. Глупость! Отошлю с Буемским».
Коробочка долго сохранялась в семье Мисербиевых и пропала в 1917 году, когда белые казаки напали на чеченцев и разграбили аул.
Толстого не надо осуждать, что он пожалел коробочку; он не хуже других, а лучше, но обладает способностью анализировать и закреплять свои сомнения.
В Горной Осетии, около Цея, я видал водопад. Днем падала вода, а ночью водопад висел огромный, бугристый и довольно стройный, сверкающий при луне сосулькой.
Лев Николаевич умел замораживать свои чувства, чтобы увидать, поэтому умел раскаиваться.
Он знал о каждом человеке, а значит, и о самом себе то, что мы о себе знать избегаем.
СТАРОГЛАДКОВСКИЕ ГОРЕСТИ И РАДОСТИ
14 января 1852 года Толстой вернулся в Старогладковскую.
С дороги он писал длинные письма тетеньке Ергольской и брату Сергею Николаевичу. В письмах он мечтал о Ясной Поляне, о том, как можно наладить в старом доме жизнь по-старому – как будто время не прошло. Тетенька заменит бабушку, Агафья заменит Прасковью Исаевну, тетка будет ругать Леву, зачем он ест руками, а Николеньку за то, что у него руки не мытые.
В Старогладковской Николеньки не оказалось: он был в походе. Об этом доложили Льву Николаевичу двое из яснополянских дворовых – Дмитрий и Алексей. Сообщили они, что тетенька здорова, господа охотятся; привезли они на двух конях припасу, вероятно немного, и четырех собак: двух легавых – Катая и Позора, черную мордашку Бульку, по породе, вероятно, бульдога, и Помчишку, рода и племени которого я не знаю. Лошади в телеге были запряжены– Вороная и Пегая. Пегую Николай Николаевич уже продал за пять целковых. Значит, кони были неважные.
Дворовые поступили в распоряжение Льва Николаевича. Скажу про их судьбу, потому что она для нас небезынтересна.
Лев Николаевич – человек противоречивый, созданный и рожденный своим временем, воспитанный в дворянском доме, где крестьян не били, не мучили, но к дворовым, очевидно, относились иначе. Лей Николаевич считал, например, что в солдаты сдать всегда надо не мужика, а дворового. Он понимал, что с Фокой и Прасковьей поступили неправильно, но, уезжая в Севастополь, хотел взять с собой старого, очень уважаемого Николая Винникова – дворового, друга Федора Ивановича (Карла Ивановича «Детства»), и только сомневался, можно ли оторвать старика от семьи.
В Севастополь он после некоторого колебания взял с собой Дмитрия, который, очевидно, был слугой опытным, хотя он и имел некоторые недостатки, которые разделял с Николаем и Львом Толстыми. В Старогладковской вино было дешевое, все пили.
Лев Николаевич об Алексее написал мало, но есть отметка в дневнике от 18 апреля 1852 года: «Лень и апатия ужасные… Алешку высечь».
Дмитрий был с Толстым в экспедиции, которая описана в рассказе «Рубка леса». Потом Дмитрий был с Толстым под Севастополем. 31 марта 1852 года Толстой записал в дневнике: «Дмитрий пьет; ежели завтра будет то же – высеку».
Лев Николаевич умилялся, читая «Антона Горемыку», плакал в письмах к тетке, но так же, как и брат его Дмитрий, считал, что старше своих крестьян и должен ими руководить всеми доступными ему средствами.
В вольной казачьей станице у полусолдата Толстого было трое дворовых. Казакам это не нравилось. Толстой записал в дневнике, что про него в станице рассказывают, будто он отдал в солдаты дворового за то, что тот задушил собаку.
Толстой с горечью говорит о клевете, и, конечно, этого не было. Его обвиняли напрасно, но сек своих дворовых он, как все.
Достоевский в речи на юбилее Пушкина говорил, что, конечно, Евгений Онегин не сек крестьян, но Алеко – наверное.
В Старогладковской, в глуши, Толстой был Алеко, а Епишка – Старый цыган; он только переучивался по-новому видеть человеческие отношения. Переучили его станица Старогладковская и Севастопольская кампания, когда он увидал, что бить солдат и крестьян нельзя, что империя, держащаяся на битье, стоит плохо, терпит позор и поражения.
Николай Николаевич был человеком умным, свободным, очень талантливым, но, извещая Толстого письмом в Тифлис, что приехали дворовые из Ясной Поляны, он их называет только по именам, а про собак пишет, что они здоровы. Уехав из Старогладковской в Ясную Поляну по получении отставки, Николай Николаевич легавых с собой взял, за что Епишка искренне называл его свиньей, потому что он только что понял, как удобно охотиться в камышах, лесах и зарослях с породистыми собаками.
Это было старое, смутное, так называемое дореформенное время, время, когда Россия не пришла еще к той революционной ситуации, которая не свергла империю, но уничтожила крепостное право, хотя бы на словах.
Бежал Терек, в инее стояли камыши, на выгоревшую траву падала пороша, морозы прихватили ягоды терновника и дикого винограда и сделали его сладким.
Толстой и Епишка вместе ходили по лесу с Катаем и Позором, с Помчишкой и белозубым, черномордым, белолапым Булькой, на которого одичавшие поджарые и могучие собаки станицы смотрели с безусловным уважением.
Шли смутные дни, как будто засыпанные снегом.
Письма Льва Николаевича за это время почти отчаянные и полны, когда они отправлены к Ергольской, сентиментальности, когда отправлены к Сергею Николаевичу – обидчивости. Сергей на правах старшего брата все время читает беспутному Льву нотации.
Толстой дружит с чеченцами, с Садо и Балтой, записывает от них чеченские песни – очень точно. Это первые записи горских песен. Служба идет кое-как; Толстого отправили с единорогом в Керзель-аул: он служил в горной артиллерии – тяжелые пушки тогда по Кавказу ходить не могли, потому что походы совершались по бездорожью. Горные пушки везли, катили на руках; снаряды горных орудий давали разрывы не сильнее разрывов современной ручной гранаты.
У горцев была своя артиллерия, присланная из Англии. Ружья горцев били дальше казенных русских кремневых ружей, сохранивших конструкцию ружей петровского времени.
Казенное ружье предназначалось для выстрела залпом: оно осталось от старой линейной тактики. В горной войне ружья эти годились мало: чеченцы стреляли издали, с посошков прицельным боем на выбор, и только дисциплина русских воинов, стойкость армии и артиллерия помогали наступать.
Медленно разгорались бои. Где-то в Лондоне, в Париже говорили о наступлении России на Восток, шла борьба за проливы, за Балканы, за Ближний Восток; Шамиль удерживал большую русскую армию – связывал ее на Кавказе, оживление боев на Кавказе предвещало восточную войну – наступление Англии, Франции на Россию.
В глуши Старогладковской станицы все это воспринималось как отдельные походы, но армия становилась больше, действия энергичнее.
В феврале Толстой принимал участие в сравнительно крупной операции: большие отряды русских войск шли навстречу друг другу, прорубая просеки, разрезая непокоренную Чечню. Это были бои, бои тяжелые, орудия перекатывали через оледеневшие реки, были потери немалые.
Толстой держался в боях хорошо, но был собой недоволен: он ждал от себя чуда, а был храбрым солдатом. Он считал, что не проявил достаточно мужества.
Артиллерийская перестрелка шла в тумане, дальнобойные орудия горцев выбивали артиллеристов; одно орудие батареи Николая Николаевича оказалось подбито, убита была лошадь. Николай Николаевич не хотел оставить лошадь со сбруей и в бою добился того, что сбрую с лошади сняли под обстрелом. Николай Николаевич был спокойным, а необстрелянный Лев Николаевич волновался. Он записал о себе: «Я был горд, но гордость моя не опиралась на делах, но на твердой надежде, что я способен на все – от этого наружная гордость моя не имела уверенности, твердости и постоянства, я из крайней надменности переходил в излишнюю скромность. – Состояние мое во время опасности открыло мне глаза. – Я любил воображать себя совершенно хладнокровным и спокойным в опасности. Но в делах 17-го и 18-го числа я не был таким».
Толстой решает, что уверенность в будущих делах обманчива, что можно верить себе только в том, в чем себя уже проявил.
Это было большое разочарование.
Дело о производстве тянулось, запутывалось: Толстой не мог ни уйти с военной службы, ни оставаться на ней, были случаи получить георгиевский крест – его могли бы дать, но Толстой однажды уступил его солдату, а в другой раз, заигравшись в шахматы, пропустил парад и вместо награды попал под арест.
Все было запутано, как следы в лесу.
Толстой видел, что он несчастлив, но думал, что подлинное счастье – в самоотвержении, в том, чтобы делать добро другим.
Он жил не так, как живут другие, видел то, что другие не видели, любил так, что об этом не рассказал ни в дневнике, ни в письмах. Впоследствии он записывал и говорил жене, что на Кавказе он пережил духовную экзальтацию и был гениален.
У него были свои радости, и радости большие. Однажды он пошел на охоту с легавыми и Булькой: это было 29 октября 1852 года. Кабан, когда его берут собаки, уходит в чащу, становится так, чтобы защитить свой тыл, и огрызается яростно. Это один из самых страшных зверей на ружейной охоте.
Толстой встретил кабана в зарослях, старый секач разбросал собак, распорол храброму Бульке живот. Толстой выстрелил в кабана так близко, что щетина на кабане сгорела. Он был храбр, он был доволен. Он написал своей тетке: «За 18 месяцев, которые я провел на Кавказе, я стал лучше, буду стараться провести с пользою остающиеся два года… Здоровье мое хорошо, занятия все те же, охотой наслаждаюсь по-прежнему. На прошлой неделе убил кабана, и сильнее радости я еще никогда не испытывал».
Верный Булька на этот раз пережил тяжелое ранение. Впоследствии Лев Николаевич написал об этом рассказ.