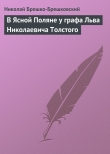Текст книги "Лев Толстой"
Автор книги: Виктор Шкловский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
СТАРЫЙ ЮРТ. МИСЕРБИЕВ. КНЯЗЬ БАРЯТИНСКИЙ
Толстой попал в укрепление Старый Юрт, находящийся в Терской области, куда его брата послали с артиллерией для прикрытия лечащихся. Здесь держали две роты пехоты и несколько орудий.
Толстой тосковал здесь и не мог найти причину своей тоски. Он тосковал в предчувствии большой работы, еще не зная, что он напишет, и не зная, как жить.
«Я думал прежде – это от бездействия, праздности. Нет, не от праздности, а от этого положения я делать ничего не могу. Главное, я ничего похожего на ту грусть, которую испытываю, не нахожу нигде: ни в описаниях, ни даже в своем воображении. Я представляю себе, что можно грустить о потере какой-нибудь, о разлуке, об обманутой надежде. Понимаю я, что можно разочароваться: все надоест, так часто будешь обманут в ожиданиях, что ничего ждать не будешь… Все это я понимаю, и в каждой такого рода грусти есть что-то хорошее с одной стороны.
Свою же грусть я чувствую, но понять и представить себе не могу. Жалеть мне нечего, желать мне тоже почти нечего, сердиться на судьбу не за что. Я понимаю, как славно можно бы жить воображением; но нет. Воображение мне ничего не рисует – мечты нет. Презирать людей – тоже есть какое-то пасмурное наслаждение, – но и этого я не могу, я о них совсем не думаю; то кажется: у этого есть душа, добрая, простая, то кажется: нет, лучше не искать, зачем ошибаться! – Разочарованности тоже нет, меня забавляет все; но в том горе, что я слишком рано взялся за вещи серьезные в жизни, взялся я за них, когда еще не был зрел для них, а чувствовал и понимал; так сильной веры в дружбу, в любовь, в красоту нет у меня, и разочаровался я в вещах важных в жизни; а в мелочах еще ребенок».
Старый Юрт – чеченский поселок Грозненского отдела Терской области, таков адрес Л. Толстого.
Старый Юрт находится на границе Чечни.
Сейчас воды источника у Старого Юрта иссякли. Сухие камни сереют над обрывом, внизу стоит школа имени Льва Толстого, вокруг школы чинары.
Необыкновенное трудолюбие Толстого поражает нас и здесь. Лев Николаевич узнавал язык народа, среди которого он жил, делал очень точные фольклорные записи – первые записи на даргинском языке, и это не только упражнение молодого офицера, который переживает романтическое увлечение горами, но это как бы подготовка к будущим рассказам о Кавказе. Фольклорные отзвуки, много раз проверенные, помогут Толстому создавать «Хаджи Мурата» через много десятилетий.
Здесь часто бывал молодой чеченец, Садо Мисербиев; отец его был зажиточен, но деньги у него были закопаны, и сын должен был добывать их удальством.
Он, как Толстой говорил, «рискует иногда 20 раз своей жизнью, чтобы своровать вещь, не стоящую и 10 рублей; делает он это не из корысти, а из удали».
Толстой был у Мисербиева в гостях, получил от него подарок – дорогую шашку. Отдарил его серебряными часами брата. Научил чеченца записывать свои выигрыши и проигрыши: Садо все надували.
Надували и Толстого. Молодой волонтер хотел проживать не более десяти рублей в месяц, и на эти деньги в Старогладковской можно было жить, но проигрывал сотни рублей, все время зарекаясь и снова начиная играть. Нас должно удивлять не обыкновенное в Толстом – он играл, как все, – а удивительная широта его интересов. Он видит природу Кавказа, казаков, своих товарищей по охоте и через патриархальную жизнь казачества по-новому понимает крестьянскую жизнь вообще.
Среди офицеров был некто Кнорринг. Им Лев Николаевич заинтересовался как объектом описания – для литературной практики. Вот презрительное описание человека, который чуть не погубил Толстого. Привычка относиться ко многим, как к второстепенным героям романа, часто делала Толстого в жизни беззащитным.
«Лицо широкое, с выдающимися скулами, имеющее на себе какую-то мягкость, то, что в лошадях называется «мясистая голова». Глаза карие, большие, имеющие только два изменения: смех и нормальное положение. При смехе они останавливаются, имеют выражение тупой бессмысленности. Остальное в лице по паспорту».
Толстой в Старом Юрте унывал: «Уже дней пять я живу здесь и одержим уже давно забытой мной ленью. Дневник вовсе бросил. Природа, на которую я больше всего надеялся, имея намерение ехать на Кавказ, не представляет до сих пор ничего завлекательного. Лихость, которая, я думал, развернется во мне здесь, тоже не оказывается».
Спокойно думал о том, что его здесь убьют. Вот дневник 2 июня 1851 года: «Как силен кажусь я себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками и приходить в отчаяние, что у меня левый ус хуже правого, и я два часа расправляю его перед зеркалом. Писать тоже не могу. Судя по этому – глупо».
Дальше запись о мастерстве, написанная на французском языке, а перед этим сказано по-русски о том, как трудно переводить в «каракули» горячие, живые, подвижные мысли. И дальше восклицание: «Куда бежать от ремесла?»
Мысли о смерти были искренни, и в то же время отчаяние у него становилось частью художественного опыта. Он на Кавказе две недели и уже хочет измениться. Пока он доволен одним и записывает 13 июня не без самодовольства и самоуверенности: «Несколько раз, когда при мне офицеры говорили о картах, мне хотелось показать, что я люблю играть. Но удерживаюсь. Надеюсь, что даже ежели меня пригласят, то я откажусь».
Он занят дневником. Дневник изменяется – становится зримее, ощутимее: «Ночь ясная, свежий ветерок продувает палатку и колеблет свет нагоревшей свечи. Слышен отдаленный лай собак в ауле, перекличка часовых. Пахнет засыхающими дубовыми и чинаровыми плетьми (ветками. – В.Ш.), из которых сложен балаган. Я сижу на барабане в балагане, который с каждой стороны примыкает к палатке, одна закрытая, в которой спит Кнорринг (неприятный офицер), другая открытая и совершенно мрачная, исключая одной полосы света, падающей на конец постели брата. Передо мной ярко освещенная сторона балагана, на которой висит пистолет, шашки, кинжал и подштанники. Тихо. Слышно – дунет ветер, пролетит букашка, покружит около огня, и всхлипнет и охнет около солдат».
Толстой не дописал своего пейзажа и жалуется тут же, что чернил нет, но он уже все увидел. Вот в этом балагане Кнорринг обыграл волонтера.
Довольно долго Толстой удерживался. В «Хаджи Мурате» впоследствии была описана сцена проигрыша Бутлера в отряде генерала Барятинского: «Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать».
Толстой прямо использует свой горестный опыт – молодой человек давал слово не играть именно братьям.
«И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок».
Несчастный игрок «…написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз 500 рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении».
Таким образом, мы можем точно восстановить обстановку карточного проигрыша Толстого.
Среди этой спутанной, рассеянной жизни мы видим спокойные занятия Толстого: он наблюдает казаков и читает по истории казачества. Для истории казачества ему нужна история России вообще: он делает записи ежедневного чтения, а потом подытоживает, что же интересного он узнал за неделю, за месяц.
Толстой считал, что время жизни его на Кавказе было временем его наибольшего роста. Мы можем сказать, что это было время наибольшей работы.
Самолюбивый человек, оставленный один, знающий себе цену, работает над собой в одиночестве со страшным упорством, не сосредоточивая интересы на своих переживаниях. Он не только записывает казачьи песни, но и видит законы повторения народной песни, делая научные наблюдения необыкновенной точности.
На пятьсот рублей Кноррингу был дан вексель сроком до 1 января 1852 года. Карточный долг считался долгом чести. Портному Толстой был должен около семисот рублей, но портному можно было не платить, а неплатеж денег в полку выбрасывал человека из общества.
Толстой замкнулся в себе, стал больше работать и решил уже продать Ясную Поляну, чтобы заплатить долг.
Пока оставалась надежда начать все сначала на Кавказе.
Для этого нужна служба, лучше всего военная.
Для службы нужна протекция – связи. Лучше служить так, как служили люди общества. Нужно быть «как все» – как все свои.
Значит, нужно покровительство князя Барятинского.
Как отнесся Барятинский к Толстому, мы не знаем. Известно только, что 17 августа Толстой пишет Ергольской, уже из Старогладковской: «Две недели тому назад я расстался с Николенькой; он – в лагере при горячих источниках, а я – в его главной квартире. Вернется он в сентябре. Многие мне советуют поступить на службу здесь, и, в особенности, князь Барятинский, которого протекция всемогуща».
Это оптимистическое замечание основано было на сообщении Николая Николаевича после участия Толстого в набеге: «Кн. Барятинский очень хорошо отзывается об тебе, ты, кажется, ему понравился, и ему хочется тебя завербовать».
Толстой после проигрыша был растерян. Письма его к тетке противоречивы – он мечется из стороны в сторону, проигрыш он таит, но ему не с чем вернуться в Тулу и не с чем оставаться на Кавказе.
Толстой писал Ергольской из Старого Юрта, не получая, вероятно, новых сведений по своим хлопотам:
«Бог даст, через четыре или пять месяцев мы снова соберемся все в Ясном, и возобновятся наши мирные беседы. Вы так необходимы для нашего общего счастья, что бог вас сохранит. Я твердо решил остаться служить на Кавказе. Не знаю еще, в военной службе или гражданской при князе Воронцове, это решится в мою поездку в Тифлис».
Тут же Толстой дарит свое фортепьяно Валериану и Машеньке, то есть возвращаться действительно не собирается.
Спасение должно было прийти здесь, на Кавказе. Вернуться в Тулу без чина, без ордена – значило окончательно потерять уважение, стать ничем. С Кавказа надо было возвратиться со славой; трудность положения Толстого была еще в том, что его на Кавказ никто не посылал – он поехал сам и завяз, надеясь на протекцию.
Но князь Барятинский не запомнил Толстого.
Проигрыш Толстого был той случайностью, которая с ним часто повторялась; попытка снискать покровительство князя Барятинского была горькой неудачей, но не случайностью.
Лев Николаевич попал в Казань совсем молодым человеком и был членом провинциального аристократического общества; у его братьев была какая-то закалка от провинциализма, но Лев Николаевич хотел быть комильфо и был убежден, что человек, который не носит на улице перчатки, – дрянь. Брат Николенька смеялся над Толстым, но Лев Николаевич говорил то, чему его научили в доме Юшковой.
Жизнь на Кавказе на положении храбреца, который ничего не боится, – это было по-тогдашнему понятным романтизмом, но который, однако, не должен был затягиваться.
Лев Николаевич был убежден, что так как он говорит по-французски, так как он граф и на улице ходит в перчатках, Барятинский, с которым у него есть общие знакомые, должен ему покровительствовать. В то же время Толстой уже в это время читал Руссо, Стерна, сам писал и умел понимать людей; у него был даже кое-какой жизненный опыт в деревне, и Барятинского он презирал.
Барятинский впоследствии был описан в «Набеге» иронично и завистливо: «Через несколько минут на крыльцо вышел не высокий, но весьма красивый человек в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке… В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену».
Друзья-адъютанты поставили волонтера так, чтобы генерал его увидал проходя; это было унизительно, но необходимо: «Проходя мимо отворенной двери адъютантской, генерал заметил мою немундирную фигуру и обратил на нее свое милостливое внимание. Выслушав мою просьбу, он изъявил на нее совершенное согласие и прошел опять в кабинет».
Ирония здесь обращена и на просителя и на генерала.
Барятинский свой, или, вернее, должен быть своим, с ним связаны мечты о том общественном положении, стремление к которому долго томило Толстого; он преодолевал его в «Севастопольских рассказах», преодолевал в «Войне и мире».
Толстой не мог найти себе места в кругу Барятинского, Воронцова, Горчакова.
Рядом с ними существуют Тушины, Хлоповы, Козельцовы, реально работающие офицеры. Толстой считает, что он не должен быть с ними, хотя догадывается, что эти люди и представляют собой настоящую силу армии; это Толстой поймет в «Севастопольских рассказах», но в письмах он будет по-прежнему больше писать о князе М. Д. Горчакове, а не о Корнилове, Нахимове, которые реально противостояли Горчакову и только поэтому могли защищать город.
Случайная встреча с Барятинским задержала Толстого на Кавказе и обратила его поездку в долгую службу, проведенную в самой трудной обстановке и долго не оформленную в качестве действительной службы. Толстой был волонтером, то есть добровольцем. Мысль о Барятинском и ободряла и связывала его.
В дневнике от 3 июля 1851 года Толстой признается, как много для него значит Барятинский: «Был в набеге. Тоже действовал нехорошо: бессознательно и трусил Барятинского. Впрочем, я так слаб, так порочен, так мало сделал путного, что я должен поддаваться влиянию всякого Барятинского».
Барятинский, из-за которого он себя презирает, в то же время недостижим для Толстого того времени.
28 августа Толстому минуло двадцать три года, и он считает, что он неудачник, игрок, трус: «Имел женщин, оказался слаб во многих случаях – в простых отношениях с людьми, в опасности, в карточной игре, и все так же одержим ложным стыдом. – Много врал. Ездил бог знает зачем в Грозную; не подъехал к Барятинскому».
Толстой презирает Барятинского и продолжает сердиться на него и в Тифлисе, вспоминая о князе, все еще надеясь на благосклонность и уже видя разделяющее их расстояние.
НАБЕГ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В середине 1851 года Лев Николаевич, не оформив поступления в армию, участвовал в набеге русского отряда на чеченские аулы, произведенном под начальством князя Барятинского. Сам по себе «Набег» производит впечатление записок военного корреспондента. Человек идет на войну, в бой, не имея определенного военного назначения и военной задачи.
Настоящий военный, старый капитан Хлопов, который, вероятно, изображает толстовского сослуживца, офицера, из уральских казаков Хилковского, так относится к желанию волонтера – Толстого принять участие в боевых действиях.
Волонтер говорит: «– А мне можно будет с вами идти?» Капитан Хлопов отвечает: «– Можно-то можно, да мой совет – лучше не ходить. Из чего вам рисковать?»
Хлопов уговаривает молодого человека не ввязываться в сражение:
«– Хочется вам узнать, какие сражения бывают? Прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны» – прекрасная книга: там все подробно описано – и где какой корпус стоял, и как сражение происходит.
– Напротив, это-то меня и не занимает.
– Ну, так что же? Вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот в 32-м году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то… Таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь».
Штатский человек в синем плаще – это представитель военной романтики старого времени, иронически понятый. Ссылка на Михайловского-Данилевского – это официальная военная история, с которой потом Толстой будет открыто и долго полемизировать, опровергая ее в «Войне и мире».
Точка зрения самого Льва Николаевича – аналитическая. Он хочет понять, что такое храбрость, для чего сражаются люди, почему они идут на смерть.
Работая над «Набегом», который назывался первоначально «Письмо с Кавказа», Толстой записал 31 мая в дневнике:
«Не спал, а писал о храбрости. Мысли хороши, но от лени и дурной привычки слог не обработан».
Эта толстовская вещь начинается с анализа понятия «храбрость»: привлечено высказывание Платона, который определял храбрость как «знание того, чего нужно и чего не нужно бояться». И это противопоставлено определению Хлопова: «Храбрый тот, который ведет себя как следует».
Толстой считает, что определение капитана вернее, потому что в нем есть норма поведения, а не норма знания.
Следует бояться в разное время разного, то есть надо идти на разную степень риска. Аналитическое начало обычно для Толстого того времени, например, один из вариантов «Рубки леса» начинается с анализа способа ведения войны на Кавказе: «На Кавказе существует три рода войны: набеги, осада крепостей или правильнее – укрепленных аулов и постройка крепостей в неприятельских владениях».
Разобрав два первых способа ведения войны, Толстой заканчивает описание, разделяя третий – постройку крепостей – на рекогносцировку и на рубку леса, которая очень трудна, но «составляет продолжительнейшее, труднейшее и полезнейшее занятие здешних войск».
Толстой дает не снимок событий, а их анализ. Его очерки примыкают к физиологическим очеркам того времени, то есть к описательным кускам повестей и статей Марлинского, Даля, Тургенева, очеркам Некрасова, но идут дальше, подготовляя широкий анализ реалистического романа.
Война, взятая как эпизод – набег, раскрывает разные типы храбрости. Храбрость Хлопова, храбрость молодого прапорщика Аланина, который гибнет сам в ненужной атаке и губит несколько солдат, хвастливая храбрость офицера Розенкранца, гордая, но показная храбрая многозначительность генерала Барятинского, который во время разрыва ядра смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски. Все это примеры анализа человеческого поведения на войне.
Для себя, как для ведущего, Толстой выбирает позицию нейтральную, похожую на ту, в которую он поставит Пьера Безухова, штатского человека, в штатском костюме, находящегося в центре огромного сражения и видящего все, потому что он свободен от безумия официального – не народного восприятия войны, от того, что называют «здравым смыслом», а на самом деле надо называть собранием предрассудков времени – шлаком старых, еще не снятых, по инерции существующих отношений.
Распоряжения генерала уверенны и небрежны, они вызывают движение войск. Толстой говорит: «Зрелище было истинно величественное. Одно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что мне казалось лишним, – и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух».
Казалось бы, что в данном частном случае это впечатление объясняется тем, что чеченцы при набегах обычно не сопротивлялись, а потом жестоко преследовали отступающие русские войска. Но этот способ описания потом применяется Толстым всегда и носит характер не сатирический, а морально-разоблачительный.
Толстой учит видеть неправильное в обычном. Анализ показывает не только жестокость войны, но и бессмысленную жестокость разрушения ею труда.
Он дает кратчайшее описание аула: «Длинные, чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река».
Аул пуст, но он чист, красив, я бы сказал, он целесообразен и благообразен. Дано в нескольких строчках окружение человеческого жилья: «Виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычовыми деревьями; с другой – торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами (это были могилы джигитов)».
Аул спокоен, своеобразен, красив. По приказу, данному с небрежной генеральской улыбкой, начинается разгром.
Война изображена как бессмысленность. Храбрость поручика Розенкранца и мальчика Аланина основана на разных, но одинаково ложных условностях.
Толстой тщательно удалял из очерка все то, что он называл «сатирой», то, что не могло пройти прежде всего через цензуру; кроме того, он не хотел раздражать своего высокого начальника, князя Барятинского. Впрочем, его окружение в очерке унижено.
Мельком сказано о том, что в небольшом отряде штаб генерала состоит из тридцати человек: «Все они, судя по названию должностей, которые они занимали и которые, очень может быть, что я переврал – я не военный, – были люди очень нужные. – Никто не сомневался в этом, один спорщик капитан уверял, что все это щелыганы, которые только другим мешают, а сами ничего не делают».
Так как капитан показан подробнее всех и от него идет анализ храбрости, составляющий основу очерка, то эта оценка – окончательная.
Выпущен был кусок о разграблении аула, о пленении старика и об убийстве женщины. Выпущена встреча с генералом, когда генерал обращает на «немундирную фигуру» рассказчика милостивое внимание.
Выпущен кусок о саксонце, который неизвестно для чего приехал сюда: «Чего же он не поделил с кавказскими горцами?» Выброшен кусок, для Толстого очень важный: «На чьей стороне чувство самосохранения и, следовательно, справедливость: на стороне ли того оборванца, какого-нибудь Джеми, который, услыхав о приближении отряда, почти голый выскочил из своей сакли, навязал пук зажженной соломы на палку, махает ею и отчаянно кричит, чтобы все знали о угрожающем несчастии. Он боится, чтобы не вытоптали кукурузу, которую он посеял весной и на которую он с трудом пустил воду, чтобы не сожгли стог сена, который собрал в прошлом году, и саклю, в которой жили его отцы и прадеды». Этот Джеми «с проклятием снимет со стены старую винтовку и с тремя-четырьмя зарядами в заправах, которые он выпустит недаром, побежит навстречу гяурам… – в бессильной злобе, с криком отчаяния, сорвет с себя оборванный зипунишко, бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза папаху, запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки русских».
Анализ храбрости переходит в анализ цели войны, в анализ справедливости войны.
Война не справедлива.
Ее надо было бы описать, взяв в основу чувства Джеми, защищающего свой дом.
Здравый смысл 1852 года не дает это сделать Толстому. Путь к полному верному изображению далек, и к нему надо идти, отказываясь от прошлого.
Толстой придет к новому и точному пониманию того, что он увидел в молодости, на пороге революции, не понятой и не принятой, но глубоко прочувствованной им.
Хаджи Мурат повторит судьбу Джеми, бросающегося на царские штыки. И Толстой, проповедующий несопротивление, напишет вдохновенную повесть о Хаджи Мурате, сражающемся даже тогда, когда он лишается сознания.
«Хаджи Мурат» закончен через полстолетия после написания «Набега».
В рукописи «Набега» есть такая сцена: «Генерал въехал в аул; цепи тотчас же усилили, отодвинули, и пули перестали летать.
«Ну что ж, полковник, – сказал он, – пускай их жгут и грабят; я вижу, что им ужасно хочется», – сказал он, улыбаясь.
Голос и выражение его были такие же, с которыми он у себя на бале приказал бы накрывать на стол; только слова другие. – Вы не поверите, как эффектен этот контраст небрежности и простоты с воинственной обстановкой.
Драгуны, казаки и пехота рассыпались по аулу. – Там рушится крыша, выламывают дверь, тут загорается забор, сакля, стог сена, и дым расстилается по свежему утреннему воздуху; вот казак тащит куль муки, кукурузы, солдат – ковер и двух куриц, другой – таз и кумган с молоком, третий навьючил ишака всяким добром; вот ведут почти голого испуганного дряхлого старика чеченца, который не успел убежать».
Но только через пятьдесят лет договорено то, что происходит, хотя почувствовано, лирически угадано было многое и в «Набеге».
Вот как описан разгром аула в «Хаджи Мурате». Толстой в описании разгрома использует имя человека, который когда-то ему помог, – Садо: «Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галлерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами, мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все улья с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.
Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного».
Бессмысленная жестокость побуждает жителей аула обратиться за помощью к Шамилю. Николай увеличивает количество врагов.