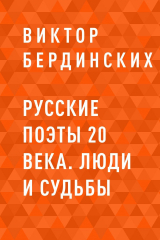
Текст книги "Русские поэты 20 века. Люди и судьбы"
Автор книги: Виктор Бердинских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.
Твое пограничное ухо –
Все звуки ему хороши –
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.
Октябрь 1930
Двадцатые годы с их сомнениями и ущербностью закончились. О.М. обрел в себе внутреннюю свободу и вернул поэтический голос. Вскоре приходит интерес к итальянскому языку, и возникают (1933 год) потрясающие «итальянские» стихи – с пряным ароматом Средневековья.
Мандельштамовские строки о родной русской поэзии – столь же личностно-сокровенны, сколь и глубоки: поэту близка традиция Г.Державина, Е.Баратынского, Ф.Тютчева, А.Фета, но и поиска новых путей в искусстве он отнюдь не отрицает, напротив – очень тонко и точно воспринимает и оценивает их. Ну а, например, в его стихотворении «Импрессионизм» (1932 год) воссоздается едва ли не лучший русскоязычный поэтический образ этого модернистского течения:
Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил…
Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.
Стихи 1930-1937 годов – это мощный вал новой поэзии Мандельштама. Хотя его творческие периоды вовсе не наглухо отделены друг от друга: многое в них перетекает из предшествующего – в последующий, передается – подобно эстафете. В общем же в 1930-е годы им создана примерно половина всего стихотворного наследия (притом, что многие тексты этого периода не сохранились – утрачены либо уничтожены). Каждое стихотворение в это время пишется как последнее в жизни – предсмертное. Поэт стоял на краю гибели и ждал ниминуемого конца.
И если предыдущая мандельштамовская поэтика (1916-1925 годы) – это «пир ассоциаций», то в 1930-е годы – это культ творческого порыва и метафорического шифра.
Историзм поэта в эти годы обернулся острым чувством современности. Мерило ценностей жизни для него – судьба сосуществующего с ним в одном времени человека.
Л.Гинзбург ярко воспроизводит словесный портрет Мандельштама этого периода (начало 1930-х годов):
«Мандельштам невысок, тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряженным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи… Читая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждением дышит в такт словам…
Мандельштам слывет сумасшедшим и действительно кажется сумасшедшим среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком». (11)
У него не было никаких внешних признаков «литературного величия». Обыденный язык поэта – «немного богемный, немного вульгарный». Но стоит «нажать на важную тему» – и «распахиваются входы в высокую речь». Он говорит словами своих стихов: «косноязычно, грандиозно, бесстыдно». Он «полон ритмами, мыслями, движущимися прекрасными словами», «делая свое дело на ходу», пребывая «равнодушным к соглядатаям».
Для той же Л.Гинзбург он – «зрелище, внушающее оптимизм».
«Мы видим человека, – отмечает она, – который хочет денег и известности и огорчен, если не печатают его стихи. Но мы видим, что это огорчение ничтожно по сравнению с чувством своей творческой реализованности, когда оно сочетается с чувством творческой неисчерпаемости. Он переместился туда всем, чем мог – в остатке оказалось черт знает что: скандалы, общественные суды.
Мандельштамовское юродство – жертва бытовым обликом человека. Это значит ни одна частица волевого напряжения человека не истрачена вне поэтической работы. Все ушло туда, а в быту остался чудак…». (12)
«Стихи перемалывают быт», – говорила М.Цветаева. Мандельштам стал эталоном поэта, поднявшего голос против своего «волчьего» времени и бесчеловечного государства, уничтожившего личность. Иначе он просто не мог бы оставаться поэтом, а такой исход был бы выше его сил – неприемлем и невыносим…
Над своими стихами в советскую эпоху – во времена личной бесприютности и обездоленности – Мандельштам работал чаще всего ночью: в переполненной коммунальной квартире лишь тогда можно было остаться наедине с собой – чтобы услышать внутренний ритм, проникнуться духом музыки. Он «проборматывал» приходящие строки, а потом записывал их – «с голоса»… Ему не нужен был письменный стол (как Пастернаку). Он сочинял стихи на ходу, и лишь в конце присаживался, чтобы их записать.
Тайнослышание «смысловика». Процесс сочинения им стихов можно разделить на такие этапы. Уход в себя (даже на людях) и стремление остаться наедине с самим собой. Появляется какая-то предварительная тревога, затем – звучащий слепок формы, смутно ощущаемый слухом. Далее – первичное бормотание, в котором уже появляется какой-то ритм и приходят первые слова. Затем – радость первых находок верных и настоящих слов. Текст записывается. Потом идет работа по нахождению отсутствующих и ликвидации слабых слов и замене их настоящими. Поиски потерянного слова. Не всегда удачные. Длительная углубленность в свой уже вышедший на поверхность текст. Муки рождения стиха они совершенно реальны. Затем чтение стихов слушателям. Без этого стих мертв, он должен еще отразиться от людей, чтобы ожить. После разного рода откликов – стремление проверить свой текст в этом свете. И готовая вещь отпадает от своего автора, он может смотреть на нее со стороны, почти равнодушно отмечая ее достоинства и недостатки.
Такой опыт тайнослышания формирует и преображает поэта. Мелкие инстинкты засыхают на корню. Поэт удивляется незаслуженности своего дара и благодарен гармонии, нашедшей его вновь. Но он остается самим собой. Возвращение в обычное течение жизни – «и средь людей презренных мира быть может всех презренней он».
Но Мандельштам, как блестящий собеседник, ощущал (и чем дальше, тем больше) острый дефицит общения – вокруг него угрожающе расширялся искусственно созданный коммуникационный вакуум. Он всю жизнь испытывал неутоленную жажду реализации: роль «поэта для знатоков» его нисколько не прельщала. Ему постоянно казалось, что его «любят не те, кому надо…».
В глазах официальной критики его творчество «несозвучно эпохе», поскольку поэт «сохраняет позицию абсолютного социального индифферентизма, этой специфической формы буржуазной вражды к социалистической революции», что «указывает на буржуазный и контрреволюционный характер акмеизма, школы воинствующего буржуазного искусства в канун пролетарской революции». (13) Он становится поэтом «непечатающимся», пишущим только для себя. Его произведения появляются лишь в периодике, причем исключительно редко, каждый раз вызывая резкие нападки критики и цензуры.
Разрыв с государством и прежней культурой для Мандельштама – бесценное богатство, источник нового творчества. В его представлении – это и есть полная свобода! Он печалится не о себе, а обо всех, кому в этой «безвоздушном времени» нечем дышать:
Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь, за твою рабу…
В Петербурге жить – словно спать в гробу.
Январь 1931
Но ему, как и любому поэту, все же необходимы слушатели и читатели – хотя они нередко становились для него источником повышенной опасности.
Его нечастые, полуслучайные и полулегальные творческие вечера (зима 1932-1933 года) проходят весьма успешно. Впрочем, он чужд основной массе советских поэтов и читателей. Н.И.Харджиев так описал в письме Б.М.Эйхенбауму свое впечатление от вечера стихов О.М 10 ноября 1932 года: «Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в продолжение двух с половиной часов. Он прочел все свои стихи (последних двух лет) – в хронологическом порядке! Это были такие страшные заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пастернак, пролепетавший: «Я завидую Вашей свободе. Для меня Вы новый Хлебников. И такой же чужой. Мне нужна несвобода». Но все признают в нем Поэта.
При содействии Н.Бухарина он в марте 1932 года, едва перейдя 41-летний рубеж, получает небольшую (200 рублей в месяц) пенсию – «за заслуги в русской литературе при невозможности использовать» данного писателя в советской…
С ним заключают договор на издание двухтомного собрания сочинений. Проект остался нереализованным, однако на полученный гонорар (и с помощью того же Н.Бухарина) поэту удалось осенью 1933 года приобрести отдельную двухкомнатную кооперативную квартиру – на пятом этаже московского писательского дома в Нащокинском переулке. (14) Тогда это считалось невероятной удачей. В этой квартире у Мандельштамов бывали, гостили, а иногда просто жили близкие друзья: А.Ахматова, Л.Гумилев, вдова А.Грина и другие. Жена поэта писала на склоне дней: «Я не помню ничего страшнее зимы 33/34 года в новой и единственной в моей жизни квартире. За стеной – гавайская гитара Кирсанова, по вентиляционным трубам запахи писательских обедов и клопомора, денег нет, есть нечего, а вечером – толпа гостей, их которых половина подослана. Гибель могла прийти в форме медленного или быстрого уничтожения. О.М. предпочел быстрое».
Но все же это – какое-то относительное благополучие, очень зыбкое, непрочное, временное: постоянных заработков, а значит и денег, не было и, в общем-то, не предвиделось. Передышка перед гибелью.
В известном стихотворении (ноябрь 1933 года) поэт проклинает свое призрачно уютное жилище:
Квартира тиха как бумага –
Пустая, без всяких затей, -
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.
Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон…
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть…
Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни наглей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей…
И вместо ключа Иппокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.
Смерть А.Белого (январь 1934 года) воспринимается Мандельштамом как «конец эпохи». В Крыму (еще весной-летом 1933 года) он видит последствия «великого голода», что получает отражение в стихах («Старый Крым»):
…Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани…
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.
Май 1933
Поэт раздражен и публичным скандалом – после упомянутого «общественного писательского съезда»…
В нем накапливается потенциал для внутреннего взрыва, и разрядка происходит в ноябре 1933 года – с появлением ставшего знаменитым антисталинского стихотворения:
Мы живем, под ногами не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
Только слышно кремлевского горца,
Душегуба и мужикоборца…
Более известен и признан каноническим вариант этих стихов с измененным – несколько «смягченным» – началом. И сами по себе они, по замечанию М.Гаспарова, как бы «выпадают из главного направления» мандельштамовской поэзии: по сути, это – эпиграмма, близкая к «побочным» и «шуточным» опусам поэта. По мнению Эренбурга – это одноплановые, лобовые и случайные в творчестве поэта стихи. А ведь за уничтожаемое крестьянство из всех русских поэтов (кроме Клюева) заступился один высоколобый эстет Мандельштам.
В основном варианте выпады против личности Сталина оформлены в гораздо более сильных выражениях. Вся деятельность «вождя» приравнивается к сведению своих счетов с неугодными ему людьми. Стихи направлены не против режима, системы, строя, а конкретно и персонально против Сталина.
Это осознанный вызов, обрекающий поэта на подвижническую гибель. «Это – самоубийство», – так оценивал ситуацию Б.Пастернак. Не мог не понимать этого и Мандельштам, читая свои антисталинские стихи («под большим секретом») в узком кругу друзей и знакомых…
Расплата не замедлила воспоследовать: в ночь с 16 на 17 мая 1934 года поэта арестовали – после многочасового обыска (искали «те самые» стихи). Находившиеся в квартире Н.Мандельштам и А.Ахматова просидели во время обыска, прижавшись друг к другу, всю ночь, а затем обратились за помощью – к Б.Пастернаку, А.Енукидзе, Н.Бухарину…
В Лубянской тюрьме поэт испытал психологический шок, обернувшийся приступом душевной болезни и попыткой самоубийства (перезал себе вены на руках). На допросе у следователя он назвал причиной сочинения стихов о Сталине «ненависть к фашизму». Над ним нависла реальная угроза расстрела. Но уже в конце мая ему назначается удивившая всех «мера наказания»: ссылка в захолустный городок Чердынь-на-Каме (ныне Пермский край) – с разрешением жене сопровождать мужа.
Поразительная «мягкость» кары объясняется, вероятнее всего, подготовкой к Первому съезду советских писателей (он открылся 17 августа 1934 года): Сталин вознамерился (на конкретном примере) продемонстрировать свой «либерализм» и дал директиву – Мандельштама «изолировать, но сохранить».
В Чердыни поэт, тяжело травмированный психически тюрьмой и следствием, в ночь на 4 июня 1934 года выбросился из окна второго этажа местной больницы: к счастью, инцидент обошелся для него без серьезного физического ущерба… Постепенно тюремный психоз проходил. Опытные ссыльные тогда говорили, что из тюрьмы сейчас все выходят с психической болезнью, которая в лагере или ссылке длится два-три месяца, а затем бесследно проходит. В царских тюрьмах такого не было.
Жена поэта, замечательный мемуарист Надежда Мандельштам, осмысливая на склоне дней эту эпоху, писала в воспоминаниях: «В безумии О.М. понимал, что его ждет, но, выздоровев, потерял чувство реальности и поверил в собственную безопасность. В той жизни, которую мы прожили, люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. (…) Советские люди достигли высокой степени психической слепоты, и это разлагающе действовало на всю их душевную структуру».
Тем временем в Москве продолжались хлопоты родных и близких. 13 июня на квартиру Б.Пастернака позвонил «сам» – Сталин. Речь шла о Мандельштаме, и вождь высказал укоризну «товарищу Пастернаку», что он не хлопочет о друге, обнадеживающе пообещав – все будет хорошо.
Сталин и здесь не отказался от лицемерия: он не мог не знать, что уже за три дня до его разговора с Б.Пастернаком – 10 июня – было принято решение о «смягчении наказания» для Мандельштама. Ссылку в Чердынь заменили «трехлетней высылкой из Москвы с запрещением проживания в столице и еще десяти городах». Супруги Мандельштам избрали для «местожительства» Воронеж, где находились (с кратковременными отъездами) до мая 1937 года. (15)
Воронежская ссылка – это вновь тяжкий быт, съемные квартиры, сугубое безденежье, неясное и безрадостное будущее… Жить приходится почти по-нищенски, на мелкие заработки и на скудную помощь друзей.
Но поэт постепенно «приходит в себя», и к нему возвращается творческое вдохновение. Возникает новая россыпь поэтических шедевров, получившая затем собирательное наименование «Воронежских тетрадей» (впервые опубликованы в 1966 году, сохранились не все).
В душе поэта происходит явственный и глубокий переворот: он искренне пытается переломить себя, признать правоту эпохи. Это душевное смятение выливается в ряд стихов с открытым приятием советской действительности и даже с готовностью на жертвенную смерть («Стансы» 1935-го и 1937 годов). Время от времени у него тогда возникало желание примириться с действительностью и найти ей оправдание. Это приходило вспышками и сопровождалось каким-то нервно-гипнотическим экстазом.
Примечательно, что именно в 1937 году (январь-февраль), то есть в преддверии «большого террора», появляется совершенно замечательное (с точки зрения «чистой поэзии») творение Мандельштама – так называемая «ода Сталину», призванная, по замыслу поэта, спасти его от гибели (впрочем, многие исследователи видят в ней лишь «самопринуждение» или «эзопов язык»).
И все же: нельзя не видеть, что эти стихи свободны и благородны, они дышат воздухом сталинской эпохи, из них проступает ее официальный стиль («громоздкий классицизм»), когда поклонением «мудрому, родному и любимому вождю» хронически болела вся страна – от мала до велика, от утонченных интеллектуалов – до отпетых уголовников… Невероятный блеск беспредельной власти вождя влюбил в себя почти всех в 30-е годы. И многие хотели приблизиться и понять его загадку. Много над этим думал тогда и Борис Пастернак.
Вдобавок интеллигенция помнила еще свой смертельный испуг от гибельного хаоса и анархии времен революции и Гражданской войны и свое моление о сильной власти, мощной руке, загнавшей бы наконец в тесное русло все взбаламученные людские потоки. Страх стать жертвой разбушевавшейся толпы или просто погибнуть от голода был очень велик у каждого интеллигента. Вспомним знаменитые пророческие стихи октября 1917 года Зинаиды Гиппиус: И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, Народ не уважающий святынь.
Не следует забывать, что отношение Мандельштама к этим своим «придворным» стихам было отнюдь не однозначным: он то надеялся, что ода спасет его, то говорил, что это была болезнь, и хотел ее уничтожить…
Центральное произведение, творческая вершина воронежских лет – «Стихи о неизвестном солдате» (март-май 1937 года). Это, может быть, самое «загадочное» из сочинений Мандельштама – с апокалиптической картиной «революционной войны за выживание человечества и его мирового разума». Это – стихи без каких-либо сантиментов, они подобны античной оратории:
…Миллионы убитых задешево
Протоптали траву в пустоте, -
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных крепостей!..
Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска, -
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?..
Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом,
– Я рожден в девяносто втором…
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья – с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году – и столетья
Окружают меня огнем.
Воронеж для поэта – одновременно и застенок, узилище, и место «возвращения к земле». Он разрывается между волей к жизни и болезненным искушением смерти. Если «Новые стихи» – это книга осознанного отщепенства, то «Воронежские тетради» – книга ссылки и гибели.
Образы позднего Мандельштама вещественны и грубы. Многие его стихи этого периода построены на перекличке звуков. Творческий процесс целиком держится на ассоциациях (М.Гаспаров). Он остается поэтом несмотря ни на что. «Поэзия – это власть», – сказал он в Воронеже Ахматовой, и она склонила свою длинную шею. Ссыльные, больные, нищие, затравленные, они не желали отказываться от своей власти (Н.Мандельштам).
О.М. искренне и страстно любит жизнь, но смерть идет за ним по пятам.
Последние из воронежский стихов поэта – целомудренно-любовное посвящение местной молодой учительнице литературы Наталье Штемпель, верной подруге ссыльных Мандельштамов, по случаю ее замужества (4 мая 1937 года):
Есть женщины сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать умерших и впервые
Приветствовать воскресших – их призванье…
Мандельштам говорил: «Это – лучшее, что я написал».
По истечении срока ссылки Мандельштамы ненадолго возвращаются в Москву, но затем («в связи с требованиями милиции») перебираются в окрестности столицы (станция Савелово), а зиму 1937-1938 годов проводят в городе Калинине (Тверь), где живут «как в страшном сне» (А.Ахматова).
В их московской квартире «подселяется» (по поручительству тогдашнего главы Союза советских писателей В.Ставского) некий «очеркист» из чекистов, который, как свидетельствует А.Ахматова, «строчил» на поэта «ложные доносы», и скоро ему (Мандельштаму) «нельзя стало показываться в своей квартире».
Друзья (семья В.Шкловского, Н.Харджиев, В.Яхонтов, А.Осмеркин, И.Эренбург, В.Катаев) помогали деньгами и прочим нищим и отверженным Мандельштамам. Поддерживали поэта Б.Пастернак и А.Ахматова.
Конечно, он был отнюдь не легким и удобным в быту человеком. Гонения, отчаяние, тяжелая сердечная болезнь – все это оборачивалось повышенной возбудимостью и чрезмерной конфликтностью, усугубившимися в последние годы совершенно нищенской жизни и находившемуся иногда на грани душевного расстройства.
Дружески расположенный к поэту В.Шкловский, вспоминая о периоде его пребывания в питерском Доме Искусств (конец Гражданской войны), не без иронии повествует: «Осип Мандельштам пасся, как овца, по дому, скитался по комнатам, как Гомер. /…/ Человек он в разговоре чрезвычайно умный… Хлебников назвал его «мраморная муха». Ахматова говорит про него, что он величайший поэт.
Мандельштам истерически любил сладкое. Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрялся оставаться избалованным. Его какая-то женская распущенность и птичье легкомыслие были не лишены системы. У него настоящая повадка художника, а художник и лжет для того, чтобы быть свободным в единственном своем деле, – он, как обезьяна, которая, по словам индусов, не разговаривает, чтобы ее не заставили работать». (16)
Некоторые друзья (например, Л.Попова) с отчаянием вспоминали о «наездах» Мандельштамов в ту пору – как о каких-то «стихийных бедствиях». Углубленные в собственные беды и страдания супруги эгоистично не воспринимали ничего более и требовали сопереживать только им. Многие не видели (или не хотели) видеть за этим не только (и не столько) личные капризы, сколько обнаженное восприятие времени, которое становилось просто параноидальным: вокруг вовсю свирепствовал «большой террор», секира которого рано или поздно должна была обрушиться и на опального поэта…
В начале марта 1938 года Мандельштамы получили от Союза писателей путевки в профсоюзный пансионат «Саматиха». Они с легкой душой восприняли это неожиданное «благодеяние»: поэт радуется жизни, наслаждается чтением привезенной с собой в пансионат книги В.Хлебникова.
Между тем, еще 16 марта В.Ставский отправляет письмо главе НКВД Н.Ежову – с просьбой «решить вопрос об О.Мандельштаме». (17)
И 2 мая 1938 года прямо в пансионате поэт был арестован. А 2 августа – без всякого суда, решением Особого совещания при НКВД – по обвинению в «контрреволюционной деятельности» ему назначают «5 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях». По тем временам – «детский срок». Но для больного поэта это решение означало, по сути, смертный приговор…
В сентябре его отправляют Дальний Восток. Этапирование длится почти месяц. Результат – полное истощение.
Примерно 10 ноября Мандельштаму удалось отправить последнее письмо из неволи – «брату Шуре». Обратный адрес: «Владивосток, СВИТЛ (Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь), 11 барак». Шансов выжить у поэта не было.
27 декабря 1938 года Осип Эмильевич Мандельштам скончался – в больничном бараке пересыльного лагпункта на «Второй речке», в состоянии, близком к сумасшествию, по официальному заключению – «от паралича сердца». Похоронен в братской могиле – на прилагерном погосте…
Имя Мандельштама оставалось в СССР под запретом около двадцати лет.
А творческое наследие его (рукописи, черновики) спасла верная жена – Надежда Яковлевна Мандельштам (1899-1980). И в этом – великая заслуга ее перед русской литературой. Гонимая и вечно бездомная (кроме последних лет жизни) она оставила великие книги воспоминаний – острые, аналитичные, порой – пристрастно-желчные, иногда – существенно искажающие реальные события. Но в советской обыденности – этом «королевстве кривых зеркал», где официальная ложь стала мировоззрением миллионов, – они рассеивали мрак беспамятства и сознательно насаждаемого невежества.
Н.Мандельштам – превосходный и страстный филолог: сказывается выучка, полученная от мужа (хотя в ней, как и в самом поэте, есть ощутимый элемент маргинальности, отщепенчества, а ее «Вторая книга» отмечена не только великими достоинствами, но и явными провалами).
Тем не менее, стоит склонить голову перед твердостью духа этой женщины. «Я, вдова, – пишет она во «Второй книге», – не похоронившая своего мужа, отдаю последнюю дань мертвецу с биркой на ноге, вспоминая и оплакивая его – без слез, потому что мы принадлежим бесслезному поколению». (18)
В конце «оттепели» стихи Мандельштама вновь широко пришли к своему читателю – в рукописных копиях и в «самиздате». Поэзия его, предназначенная «далекому неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может не сомневаться, не усомнившись в себе», – дошла до цели. (19)
В статье «Выпад» (1923 год), размышляя о своем будущем читателе, поэт обрушился на современную ему «полуобразованную интеллигентскую массу, зараженную снобизмом, потерявшую коренное чувство языка, в сущности уже безъязычную…». (20)
Как это близко ситуации наших дней!
Первое после 1928 года и лучшее из советских изданий мандельштамовских стихов составил и подготовил (по рукописному и архивному наследию поэта) его друг Н.Харджиев, обладавший, по мнению самого Мандельштама, абсолютным «слухом на поэзию». Сборник готовился с конца 1950-х годов, но никак не мог выйти.
Книга вышла в 1973 году – в серии «Большая библиотека поэта» (Стихотворения. – Л., 1973. – 334 с. – 15.000 экз.). Стихи в ней не просто идеально подобраны, но и гармонируют друг с другом, придавая невероятный резонанс книге в целом – как шедевру составительской работы. Понятно, что, по цензурным соображениям, сборник не мог быть ни полным (вошла примерно треть стихов поэта), ни объективно прокомментированным. К тому же сам Н.Харджиев, страстный поклонник В.Хлебникова, считал Мандельштама поэтом «гениальным, но не великим» – в силу «камерной узости диапазона его поэзии»… Думается, что это справедливо и в отношении Цветаевой. В отличие от Пастернака и Ахматовой…
Сборник же Мандельштама затем дважды допечатывался в 1970-е годы, в основном, для магазинов «Березка», где его охотно раскупали за валюту.
И все-таки упования Осипа Мандельштама на «массы, сохранившие здоровое филологическое чутье», на слои, где «растет и развивается морфология слова», – блестяще оправдались в 1960-1970-е годы.
Если эти «здоровые слои читателей» в 1920-1930-е годы еще не вошли в соприкосновение с индивидуалистической поэзией ХХ века, то на склоне столетия внезапно появился и стремительно вырос «великий читатель» этой поэзии – и стихи Осипа Мандельштама восстали из почти полного забвения. И довольно велика роль в этом Великой Вдовы – Надежды Мандельштам, сумнвшей не просто чудом пережить годы невероятных потрясений и гонений, но и сохранить архив поэта с его стихами.
Очевидно, что это случай Феникса, сгоревшего, но возродившегося из кучки пепла.
Глава 4. Марина Цветаева
Стихи растут, как звезды и как розы,
Как красота – ненужная в семье.
А на венцы и на апофеозы –
Один ответ: «Откуда мне сие?»
Мы спим – и вот, сквозь каменные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты
Закон звезды и формула цветка.
Марина Цветаева
1918
Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября (8 октября) 1892 года (в день памяти Иоанна Богослова) – в Москве, в семье профессора Московского университета.
Это – второй брак Ивана Владимировича Цветаева, разночинца и искусствоведа, основателя Музея изящных искусств (от первой жены у него остались двое детей – внук и внучка известного историка Д.Иловайского).
Мать – Мария Мейн, из обрусевшей знатной польско-немецкой семьи, блестящая пианистка, ученица А.Рубинштейна. В 1902 году она заболела чахоткой, и для ее лечения семья уехала за границу. Марина и младшая дочь Ася учились там в частных пансионатах Италии, Швейцарии и Германии, обреченные на одиночество и полусиротство: девочки съезжались с родителями лишь в каникулы.
Летом 1906 года М.Мейн, вернувшись в Россию, скончалась в Тарусе (ныне Калужская область). Она завещала своим родным дочерям значительное состояние, проценты с которого позволили им безбедно жить вплоть до Октябрьского переворота, а также оставила свой личный дневник, в котором отразилась «жизнь ее сердца». Цветаева считала, что и «дар творчества» она унаследовала от матери.
После возвращения семьи на родину Марина живет в интернате при Московской частной гимназии. Погружена в беспорядочное чтение и страдания за всех книжных героев: Мария Башкирцева, сын Наполеона («Орленок»), княжна Джаваха… Девушка диковата и дерзка, застенчива и конфликтна. Отец для нее – скорее дедушка. За пять лет сменила три гимназии. Сочиняет стихи, ведет дневник. (1)
Свободно владеет французским и немецким языками. В 16 лет прослушала летний курс старофранцузской литературы в Сорбонне (Париж). Еще в 1906 году перевела с французского драму Э.Ростана «Орленок» (200 страниц). Испытывает непреодолимое стремление в мир литературы. Друг семьи поэт Эллис (Л.Кобылинский) знакомит ее с московскими символистами (издательство «Мусагет», В.Брюсов, А.Белый…).
В 1910 году она оставляет гимназию (после седьмого класса, не доучившись до аттестата) и на собственные деньги издает первый сборник своих стихов (дневниковой направленности, с россыпью детских впечатлений и посвящением художнице М.Башкирцевой) – «Вечерний альбом» (М., 1910. – 224 с. – 500 экз.). Отклики на книгу (В.Брюсов, М.Волошин, Н.Гумилев) скорее сочувственны. Жизненная энергия автора бурлит в этом ультраромантическом сборнике:
…Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой.
Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень…
Чтоб был легендой – день вчерашний,
Чтоб был безумным – каждый день!..
Молитва
1909
Необходимо добавить, что стихи она слагала с шести лет, причем – на трех языках: русском, французском и немецком.
Ее поэзия, как верно отмечает Д.Таубман, выросла из двух наиболее традиционных для образованных женщин XIX века жанров: интимного дневника и частного письма. Именно Цветаева ввела обе эти формы в поэзию и канонизировала их. (2) Причем ее путь – это не превращение дневника в стихи, а трансформация стихов в дневник…
Расцвет отечественного психологического романа XIX века, «задавившего» русскую поэзию, остался далеко позади. Но стихи Цветаева создает часто как опытный романист, регулярно работая за письменным столом и не дожидаясь вдохновения. И печатает она пока все подряд.
Ее стихи напоминают устный разговор с собеседником. Такая интимная беседа – чисто женский жанр, хотя обозначение «поэтесса» в собственный адрес Цветаева воспринимала как оскорбление. Феминизм ей глубоко чужд: она хотела для себя полной творческой свободы и личной независимости.
Дочь Ариадна замечательно обрисовала алгоритм литературного творчества своей матери, выработанный ею на протяжении всей жизни и ставший своеобразным ритуалом:








