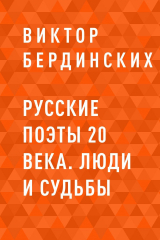
Текст книги "Русские поэты 20 века. Люди и судьбы"
Автор книги: Виктор Бердинских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Н.Мандельштам (с известной долей пристрастности) говорила по этому поводу: «А.А. (Ахматова. – В.Б.), равнодушная к выступлениям, публике, овациям, вставанию и прочим никому не нужным почестям, обожала аудиторию за чайным столом, разновозрастную толпу друзей, шум и веселье застольной беседы. В этом она была неповторима: люди падали со стульев от хохота, когда она изволила озорничать. В роли дамы она долго выдержать не могла, но всегда, получив приглашение в приличный дом, готовилась к ней. Что же касается до приглашений, то она их принимала все, сколько бы их ни было, потому что она обожала бегать по гостям, приводя в ужас и меня, и Харджиева: куда она еще побежит?» (6)
Чем же вызван невероятный читательский успех ахматовских «Четок»? Познакомившись с этой книгой, известный тогда литератор Н.Недоброво назвал в своей рецензии на нее «двигателем поэзии» Ахматовой «новое умение видеть и любить человека». (7)
Это была «новая книга нового века». По мнению Ахматовой, ХХ век начался в России летом 1914 года (со вступлением ее в войну) – как век XIX наступил для нее после Венского конгресса (1815 год).
Будучи еще только начинающим поэтом, она сразу же создала свою традицию в русской классике – вслед за А.С. Пушкиным, Е.Баратынским, Ф.Тютчевым, И.Анненским, «новой поэзией». «Самой гениальной вещью» в русской поэзии она позднее назовет «Осень» Е.Баратынского. Акмеизм помог ей ощутить себя поэтически «независимой от прошлого», но, по сути, вся она, как поэт, вышла из отечественной психологической прозы XIX века.
Стихи ее неметафоричны. Это – поэзия «вещных слов» – с конкретностью бытия русской женщины 1910-х годов.
Стихотворные тесты первых ее книг не просто сюжетны и новеллистичны (как у Г.Мопассана), они до предела насыщены прозаизмами. И все же – это беспримесная русская лирика, которая пришла на смену умершей (или «задремавшей») форме романа. Демонстрируемые этой лирикой отвага женщины и поэта, ее внутренняя раскрытость – невероятны:
Муж хлестал меня узорчатым,
Вдвое сложенным ремнем.
Для тебя в окошке створчатом
Я всю ночь сижу с огнем…
1911
Как только (и какие только) пошляки и невежды не издевались (и устно, и печатно) над этими строками из первого ахматовского сборника «Вечер»! Но 1910-е годы для Ахматовой – порог перед будущим, в котором все ее хулители понесут заслуженную расплату.
Культ столичных красавиц – неотъемлемая черта того времени. Своеволие и сладостная «червоточинка», пышное цветение обреченной культуры – все это пульсирует в ранней ахматовской поэзии. Но разве можно судить ее (тем более – столетие спустя) за эту нотку счастья, снисходительности к себе, полноты жизни и самоутверждения?!
На склоне дней (в «Поэме без героя») Ахматова сама будет пристально рассматривать все это под прицелом своей уникальной памяти, по-прежнему недоумевая и не понимая, как и что тут можно осудить или оправдать…
Впрочем, ни ей, ни Б.Пастернаку и не требовалось «идти в ногу с веком». Ускорение, задаваемое времени истинной поэзией, всегда больше максимального ускорения эпохи (Л.Гинзбург). Эта формула в полной мере подтверждается всем творчеством Ахматовой.
По классическим формам своего стиха («ахматовский дольник») она «консервативнее» большинства русских поэтов своего времени – тех же Б.Пастернака, М.Цветаевой, не говоря уже о В.Маяковском с В.Хлебниковым или обэриутах. Никаких экспериментов, «зауми», «новояза»…
И все-таки ее поэтическое слово по-прежнему свежо и остро современно, созвучно душе читателя – даже через много десятилетий. Секрет, очевидно, в том, что «традиционность» поэзии Ахматовой – чисто внешняя. На самом деле она, сохраняя обличье классического стиха, внутри него переворачивает все «вверх дном». Ее смелые новации невероятно жизненны: она продолжает и обогащает русскую лирическую традицию, а не ставит ее над пропастью – как, например, «позволял себе» В.Маяковский. Эта плодоносность избранного Ахматовой пути особенно ярко выявилась во второй половине ХХ века. (8) Необъяснима и способность первых книг Ахматовой (от «Четок» до «Anno Domini») воскрешать время, когда они выходили. Свежий воздух 1913 или 1921 года сохранился в них во все своей первозданности. Такого нет больше ни у кого!
Ю.Тынянов полагал, что в начальную свою пору Ахматова ценна не своими темами, а вопреки им. Новым явлением был ее камерный стиль, «по-домашнему угловатое слово».
Замечательна излюбленная Ахматовой стихотворная форма – так называемая «форма фрагмента», столь блестяще разработанная еще Ф.Тютчевым. Выдержи из писем, размышлений, дневников, жалоб, домашней «песенки для себя» – все это внешнее оформление ее камерных стихов.
Такой поэтике, по мысли В.Баевского, идеально соответствовал дольник – система стихотворной речи, весьма популярная именно на рубеже XIX-XX веков. В трехсложных размерах (дактиле, амфибрахии, анапесте) стали пропускать один из двух безударных слогов (между двумя ударными), и ритм преобразился – в нервно взволнованный, экспрессивный. И А.Блок, и Н.Гумилев, и М.Цветаева активно использовали дольники.
Ахматовский трехударный дольник основан на анапесте:
Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна…
Из сборника «Вечер»
1911
Но ей подвластны и другие просодические формы: верлибр, четырехстопный хорей с песенной интонацией, французские ямбы…
Каждый сборник «молодых стихов» Ахматовой – это вполне цельная, живая книга со своим лицом. Все фрагменты складываются в необычный роман, который просто дышит жизнью сердца и души: «Вечер» (с его «детскими игрушками»), «Четки» (с несчастной и неразделенной любовью), «Белая стая» (с отблесками последнего счастья и недобрыми предчувствиями), поэма «У самого моря» (с воспоминаниями о детской счастливой вольной жизни), «Подорожник» и «Anno Domini» (с железным гулом национальной трагедии и пророчеством великих бедствий)…
По своему словарю Ахматова – поэт «сухой»: у нее нет ничего «непросеянного», неряшливого, избыточного. Такая общеакмеистская установка сближает ее с Н.Гумилевым и О.Мандельштамом.
Ее стихи – завершены, это всегда – окончательный вариант.
Поэтический стиль Ахматовой чужд крику или громкой песне. Строфа и стихотворение в целом хорошо сбалансированы, гармоничны и словно светятся изнутри:
Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти Господа моля.
Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля…
1913
Интонация этих (и других) стихов словно дана откуда-то сверху: поэт не «сочиняет» их – она их «записывает». Открывая тетрадь, Ахматова заносила в нее пришедшие ей в голову («невесть откуда») строчки. Иногда вместо строки, еще «не дошедшей» до нее, ставила отточия и заполняла пропуски через несколько дней…
А стихи «шли, когда хотели»: иногда подолгу не было ничего, а порой они рвались наружу, едва успевая друг за другом.
Тогда, по воспоминаниям помощника-секретаря Ахматовой в ее последние годы литератора А.Наймана, во время разговора, еды она почти в полный голос что-то пропевала-проборматывала («жужжала») – гласные и согласные приближающихся строк, уже нашедших ритм. Это был гул поэзии, еще не вырвавшийся в мир. Хаос превращался в гармонию… (9)
В периоды таких «схваток стихорождения» Ахматова живет на предельном внутреннем напряжении: она непрерывно занята только своим поэтическим делом. В ней зреют и прорываются ритм и время…
Пожилая ахматовская домработница говорила (в начале 1920-х годов), сравнивая пору, когда «стихи шли», с наступившим затем поэтическим бесплодием:
«Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень… И первученые (начинающие поэты. – В.Б.) от нее уходят такие печальные…».
В чисто технических аспектах своего ремесла Ахматова до конца своих дней оставалась удивительно непрофессиональной: не умела печатать на машинке, держать корректуру… Синтаксис вообще был для нее недоступен… Внутренний мир поэта наглухо изолирован от «мелочей жизни»: отсюда «безбытность» и «бедомность», отсутствие домашнего женского уюта в окружавшей ее обыденной среде…
Замечателен ее портрет (с желтой шалью, 1914 год) кисти Н.Альтмана, где – в духе кубизма – формы как бы разлагаются изнутри. Самой же Ахматовой больше нравился ее портрет 1915 года, исполненный О.Вос-Кардовской. Художественно значим и портрет 1922 года – работы К.Петрова-Водкина.
«Разложение формы», метод П.Пикассо, Ч.Чаплина, С.Эйзенштейна, другие великие соблазны и эстетские «тренды» начала нового века – внутренне совершенно чужды Ахматовой. И все же именно она становится знаковой и даже «культовой» фигурой в русской художественной культуре и моде 1910-х годов.
По мнению Н.Мандельштам, «сердечный друг» Ахматовой в 1914 году Н.Недоброво (как человек из «лучшего общества») весьма благотворно влиял на ее «жизненные установки», сглаживая «неистовый нрав» своей подруги. Он же познакомил Ахматову со своим приятелем – художником и поэтом Борисом Анрепом, который к весне 1915 года вытеснил Недоброво из ее сердца и стихов… В 1916 году Б.Анреп уехал в Англию, а Н.Недоброво умер от туберкулеза в 1919 году (в 35-летнем возрасте) в Крыму…
В 1914 году отношения Ахматовой и Гумилева уже окончательно разладились. Но летнее время она по-прежнему проводит (вместе с сыном) в Слепнево. Здесь она впервые разглядела душу России, русского крестьянства и многое поняла из народной жизни. Слепнево для Ахматовой – такой же источник настоящей поэзии, как для А.Белого – село Серебряный Колодезь (отцовское имение, откуда – мотивы лучшего сборника «Пепел» и краски «Золота в лазури»).
Туберкулез, которым тогда страдала Ахматова и который в те времена считался неизлечимым, казалось, не оставлял ей шансов на долгую жизнь, но, несмотря на это и вопреки всему, ее поэзия – накануне вероятной личной трагедии и перед лицом всеобщего распада – испытывает новый подъем. Выходит в свет ее третья стихотворная книга – «Белая стая» (Пг., Гиперборей, 1917. – 142 с. – 2.000 экз.) – возможно, лучший ахматовский сборник вообще.
Во многом и весьма значительном «Белая стая» Ахматовой перекликается, сосуществует на одной исторической параллели с книгой Б.Пастернака «Сестра моя – жизнь». Грозовой воздух 1917 года наполняет обе эти книги своим наэлектризованным дыханием.
В предреволюционных стихах Ахматовой (1914-1917 годы) чувствуется глубокая царственная печаль, прорываются смутные тревожные пророчества и вполне определенные трагические предчувствия:
Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем, -
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.
1915
Россия медленно и величаво вплыла в творчество Ахматовой – чтобы остаться там навсегда и сделать ее подлинно национальным поэтом…
Позднее (в 1960-е годы) Ахматова говорила, вспоминая о времени появления «Белой стаи» – любимой своей книги:
«…Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах, чем «Четки». Он вышел в сентябре 1917 года. Если «Четки» опоздали, «Белая стая» прилетела просто к шапочному разбору. Транспорт замирал – книгу было нельзя послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Бумага грубая – почти картон.
Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в отличие от «Четок» у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются, и принято считать, что «Белая стая» имела меньше успеха, чем «Четки». /…/ Никакого неуспеха «Белой стаи» я никогда не наблюдала». (10)
Четыре переиздания (плюс тифлисский контрафакт) «Белой стаи» за последовавшие пять лет (до 1923 года) – вполне убедительное подтверждение этих авторских слов. Добавим, переизданий могло быть и гораздо больше, если бы решением ЦК большевистской партии (1925 год) Ахматову не запретили печатать, причем этот запрет относился ко всем изданиям и издательствам страны…
Если «Четки» – это надгробный камень на могиле символизма (знаковая книга в истории нашей поэзии), то «Белая стая» (по всему ее спектру – тематике, мысли, стилю) – это задел для всего будущего творчества Ахматовой, тот благодатный посев, который приносил обильные и сочные плоды на протяжении всей ее дальнейшей поэтической жизни.
Скупость неизбежных слов этой книги, ее разговорно-доверительная интонация в корне отличались от словесного разврата и разгула, царившего тогда в отечественной поэзии.
О, есть неповторимые слова,
Кто их сказал – потратил слишком много.
Неистощима только синева
Небесная и милосердье Бога.
1916
«Белая стая» – это еще и книга о любви, чаще всего – несчастливой. Л.Чуковская, близкий друг Ахматовой, касаясь этой темы, заметила (по сути, очень верно, хотя и несколько прямолинейно):
«Любовная лирика Анны Ахматовой при кажущейся простоте, при легкости – для читателей – восприятия и запоминания, необычайно сложна, глубока, многослойна; сложность – ее основное свойство; любовные стихи Анны Ахматовой выражают чувства не однозначные, а переменчивые, переливчатые, превращающиеся одно в другое, смертельно счастливые или насмерть несчастные, а чаще всего счастливо-несчастливые зараз. При этом все чувства напряжены, доведены до полноты, до предела, до остроты смерти: свиданье, разлука». (11) А.А., в сущности, вовсе не поэт любви, а поэт отказа от любви ради высокой человечности.
Строго сдержанна интонация ахматовской лирики, где самое ценное, возможно, недоговорено. И «простота» этих стихов – мнимая. Они так тщательно отделаны, что непонятно, где здесь кончается порыв истинного вдохновения, а где начинается тонкая ювелирная отделка великолепного мастера (В.Нагель).
Легкость обновленного мира сверкает богатством красок, тонкостью психологического узора… Словно лучи солнца пробиваются изнутри одного из самых гармоничных ахматовских стихотворений:
Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом.
А мы живем как при Екатерине:
Молебны служим, урожая ждем.
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.
Лето 1917
Слепнево
Лирическая система Ахматовой – одна из самых замечательных в русской поэзии. Сочетание тончайшего психологизма с песенным ладом просто потрясает. Но ее лирика – это не спонтанное излияние души, не поток сознания, не подобие водопроводного крана: открыл – и струись, «фонтан любви»!..
Для нее характерны жесткая поэтическая дисциплина, аскеза, самоограничение и гордыня духа. Ее стихи – это не скороспелый сырец, не полуфабрикат, подаваемый полуготовым на потребу публике (как у большинства современных стихослагателей), а глубочайшее преображение внутреннего опыта при полном напряжении всех физических сил. Это – огромный труд души, интеллекта, культуры, мучительно выношенный плод личной трагедии и судьбы отечества…
Г.Иванов, рецензируя следующую ахматовскую книгу («Подорожник» – Пг., 1921. – 60 с. – 1.000 экз.), тонко подметил: «Ахматова принадлежит к числу тех немногих поэтов, каждая строчка которых есть драгоценность».
Между этими двумя книгами – «Белая стая» и «Подорожник» – пролегла историческая пропасть. Разразилась братоубийственная эпопея революций и Гражданской войны. Старый мир рухнул – вместе с его обесцененной культурой и обессмысленным искусством. Для подавляющего большинства людей жизнь свелась к беспринципной и беспощадной борьбе за существование.
Внезапно исчезло и привычное окружение сложившегося, признанного молодого поэта – Анны Ахматовой: в один миг ее поколение очутилось среди совершенно чужой публики, изъяснявшейся на каком-то ином языке, исповедавшей другие слова, мысли, чувства, понятия. Правда, в годы Гражданской войны число любителей поэзии оставалось еще значительным: для многих стихи были как спасительная соломинка в штормовой пучине. Хотя и эти иллюзии безжалостно рушились на пронизывающих ветрах перемен… Этот детонированный революцией стремительный и тотальный крах старой культуры не разрушил внутренний мир Ахматовой. Но проблема выбора, грозно маячившая перед всей Россией, с неотвратимостью вставала и перед поэтом:
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее, -
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Осень 1917
Великому художнику даже необходим воздух великих бедствий: он не может жить без родной страны и пневмосферы родного языка – как рыба без воды. Те, кто покинули Россию в послереволюционные годы, считали, что жить в рабстве нельзя и что для них нет родины без свободы. Ахматова осталась в России, хотя в эмиграции ее любили и ждали. Для нее «изгнанья воздух» горек – «как отравленное вино». Она сделала свой выбор: он оказался верным, хотя и невероятно тяжелым…
Ее близкая подруга – красавица О.Глебова-Судейкина, тоже оказавшаяся за границей, – смеясь, рассказывала друзьям в разгар Гражданской войны, как однажды Ахматова, очень худая и плохо одетая, шла по улице и присела на ступеньки дома, будучи не в силах идти дальше. И тут какая-то старушка, сочтя ее за нищенку, подала ей монетку – как милостыню. Ахматова приняла эту монетку, придя домой, положила ее к иконе и молилась на нее.
Она с младых лет была внутренне глубоко верующим православным человеком, четко знала годовой круг церковных праздников, как правило, возила с собой заповедную икону. От эмигрировавшего художника С.Судейкина у нее осталось несколько замечательных икон строгановского письма, которые она хранила до конца своих дней.
Ее православие (в том числе и в стихах) сродни нестеровской живописи: оно не византийское, а «наше» – северное, старорусское и грустное. Ее религиозность – не в словах о Боге, а в строе мысли и души. Кстати, День ангела приходился у нее на 15 февраля – праздник Сретения Господня. «Я – Анна Сретенская», – говорила она.
Стоицизм Ахматовой в послереволюционное время, ее гордое смирение связаны и с посещением ею в мае 1922 года Оптиной пустыни – перед окончательным уничтожением этой святой обители. Здесь, судя по всему, произошли ее встречи и беседы с последним оптинским старцем Нектарием…
В близком к народной песне стихотворении «Причитание» (24 мая 1922 года) она как раз и скорбит о великом разорении русских святынь:
…И выходят из обители,
Ризы древние отдав,
Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки.
Серафим в леса Саровские
Стадо сельское пасти,
Анна в Кашин, уж не княжити,
Лен колючий теребить…
Итоговая ахматовская «Поэма без героя» (1940-1965) – это для поэта некий Сорокоуст, заупокойная молитва о погибшей родной культуре. Но для нее сакральной и нетленной ипостасью всегда (даже на гребне самых опустошительных личных и социальных потрясений) оставался русский язык – единственное, что объединяет нацию и способно спасти ее.
В угарной атмосфере эпохальных катаклизмов ахматовские стихи, как эпидемия «испанки», заражали множество людей и, подобно струе свежего воздуха, заряжали их верой в жизнь. Как уже говорилось, в разгар Гражданской войны многие просто бредили этими стихами, держались за них как за последнюю надежду на лучшее…
Л.Рейснер в 1921 году с присущей этой «пламенной революционерке» экзальтированностью пишет Ахматовой:
«Ваше искусство – смысл и оправдание всего. Черное становится белым, вода может брызнуть из камня, если жива поэзия. Вы радость, содержание и светлая душа всех, кто жил неправильно, захлебывался грязью, умирая от горя». (12)
А в личной жизни для Ахматовой весь «советский период» – время перманентных и горестных испытаний. В 1918 году формально расторгнут брак с Н.Гумилевым, хотя супружеские отношения прекратились намного раньше.
В 1918-1921 годах она замужем за ученым-ассирологом, поэтом и переводчиком Владимиром Шилейко. В своих поздних мемуарных заметках Ахматова сетовала: «Это все Коля и Лозинский… Египтянин! Гений!»
И этот супружеский союз оказался недолгим. Тем не менее, мощный историко-философский взгляд на Мир и цивилизацию, свойственный В.Шилейко, оказался весьма полезным для Ахматовой. Позднее (Ташкент, 1942 год) она даже назовет сочиненную в эвакуации драму парой вавилонских слов – «Энума Элиш»…
В начале 1920-х годов объектом очередного ахматовского «увлечения» стал композитор-авангардист Артур Лурье, вскоре эмигрировавший.
А с 1922 года она фактически стала женой «левого» искусствоведа Николая Пунина. Брак зарегистрирован в 1926 году (одновременно с документальным переоформлением псевдонима – «Ахматова» – на фамилию) и продолжался до 1938 года. Но и после развода бывшие супруги – из-за жилищного кризиса – остались в одной коммунальной квартире. Быт Ахматовой вообще и всегда был чудовищно тяжел…
Н.Мандельштам, говоря о мужьях Ахматовой, утверждала (не без чисто женской пристрастности и солидарно-ревнивой однобокости), что никто из них не был ей по плечу, всех их ранила слава этой женщины:
«Мужья, из которых я знала троих – Шилейку, Пунина и Гаршина, чувствовали рядом с ней свою неполноценность и проявляли это в достаточно диких поступках. Шилейко сжег ее стихи в самоваре, а Пунин всячески подчеркивал, что она бывший поэт, устарела, никому не нужна… Знаменито его изречение, популяризированное самой А.А. (Ахматовой. – В.Б.): «поэт местного царскосельского значения»… В этом есть элемент шутки, но Пунин – старый лефовец, … ежедневно выливал на А.А. целые ушаты «бриковщины». Подозреваю, что этот теоретик футуризма знал наизусть все «белые стаи», но не считал возможным в этом признаться. К этому примешивалась обида, что ему она стихов не писала до самого разрыва». И, наконец, безумие проделанного ими эксперимента – осталась жить в семье бывшего мужа: А.А. гордилась тем, что не разрушала семейной жизни своих друзей; ради ребенка или Бог знает ради чего, возможно, просто из-за трудностей с жилплощадью…
Ей было очень плохо в пунинском доме, но к ней никто не подходил с обычной женской меркой. (13) Впочем и А.А. относилась к своим мужьям временами достаточно жестоко, возможно, она всерьез никого из них и не любила. На склоне дней она вздыхала о них так: «Должно быть, это только я жила с ними, не живя… Может так и нужно было, чтобы я их всех так топтала, чтобы сделать то, что я сделала…». Вдобавок найти себе человека по росту ей было сложно. Кроме Пунина, который был с ней одного роста, все мужья были несколько ниже ее.
Сама Ахматова на склоне своих дней вспоминала о Н.Гумилеве часто и тепло, о В.Шилейко – непринужденно и весело, а вот о Н.Пунине – редко и раздраженно…
В 1922 году появился последний целостный и самостоятельный ахматовский сборник – «Anno Domini MCMXXI» (в переводе с латыни «В лето Господне 1921» – Пг., 1921 (обл.1922). – 102 с. – 2.000 экз.). Это – прекрасные неоклассические стихи, с ведущей нотой скорби и мрачного пророчества. В атмосфере того шаткого времени многим показалось, что дарование Ахматовой статично и однообразно – до боли, до пресыщения. Она словно зашла в тупик, где дальнейшее развитие невозможно.
Между тем именно Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа XIX века. Она прямая наследница Льва Толстого и Ивана Тургенева. Генезис ее стихов лежит именно в этой прозе. Ее поэтическая форма, острая и оригинальная, построена с оглядкой на психологическую прозу прошлого века. (О.Мандельштам)
Но те, кто требовал от поэта постоянной ломки стихотворной формы, жонглирования ею – дабы поразить читателя чем-то таким «новеньким» – глубоко заблуждались: эпоха НЭПа – время конформизма и приспособленчества, и пафос отречения, духовной стойкости этому времени и подавляющей массе его обитателей чужд.
Ну а к середине 1920-х годов Ахматову – по указке партийно-советских властей – просто перестали печатать. Уже подготовленный в издательстве Гессена (Петроград-Ленинград) ахматовский двухтомник так и остался лишь в наборе. Тотальная цензура превращает ее в «непечатного» поэта, чьи сборники («Четки» и «Белую стаю») читатели в 1920-1930-х годах вынуждены переписывать от руки. Да и число ее читателей явно уменьшилось. В эпоху культа силы и отказа от старой морали и прежних ценностей читатель нередко искал в стихах лишь подкрепления своих позиций приспособлечества, оправдания личной преданности новой власти.
Люди круга Ахматовой оглянулись в 20-е годы и увидели, что они в один миг, без всякого перехода, очутились в новом мире – среди совершенно чужих людей, говорящих на чужом языке: другие слова, мысли, понятия и чувства.
Ленинград, где прожила всю оставшуюся жизнь Ахматова, в этом смысле был еще едва ли не лучшим городом страны. Со времен Гражданской войнв власти сохраняняли его как островок «маниловщины». Здесь по идее Горького сохраняли интеллигенцию – просто так – на запас – за то, что она много знает. А вдруг это когда-нибудь пригодится… Но Ахматова с 30-х годов жила здесь как помилованная под постоянным гнетом страха – чуть не до конца 1950-х годов. Тоько после 1956 года она начала восстанавливать свои многие уничтоженные и сожженные стихи.
Но весь предвоенный период (вторая половина 1920-х – 1930-е годы) – время, не благосклонное к поэзии вообще. Оно антипоэтично: это годы внутреннего кризиса или вынужденного молчания для многих русских стихотворцев. Вот и Ахматова за весь двенадцатилетний срок супружества с Н.Пуниным написала лишь три десятка стихотворений.
Все это – на фоне тяжелейшего быта, постоянного отсутствия средств к существованию. Мизерную пенсию (70 руб. в месяц) ей удалось оформить только благодаря личному содействию Н.Бухарина в 1928 году, но и эта государственная «милостыня» сопровождалась полуиздевательской формулировкой – «в связи с прежними заслугами в русской литературе, которые невозможно применить в современности».
Официозной критикой насаждалось мнение о том, что Ахматова «безнадежно устарела» как «крайне правый поэт», не нужный в «буднях великих строек». Ругань и травля в печати не признавала этических рамок. Так, символист-ренегат, а затем сервильный литературовед П.Перцов в 1925 году не постеснялся заявить: «Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть».
В советской обыденности литературно-художественная критика вообще превратилась в своеобразную форму доноса.
Ахматова позднее вспоминала:
«Нормальная критика … прекратилась в начале 20-х годов (попытки Осинского и Коллонтай вызвали немедленный резкий отпор). На смену ей пришло нечто, может быть, даже беспрецедентное, но во всяком случае недвусмысленное. Уцелеть при такой прессе по тем временам казалось совершенно невероятным. Понемногу жизнь превратилась в непрерывное ожидание гибели. Попытаться найти какую-нибудь работу было бессмысленно, потому что после первой же статьи Перцова, Лелевича, Степанова и т.д. всякая работа тут же бы рухнула». (14)
Только поддержка верных читателей спасала поэта в долгие годы творческого молчания от голода и нищеты. Свое скудное пособие она в конце 1920-х годов делила на три части: «маме, Леве и себе». Сын долго жил с бабушкой (А.И. Гумилевой) в Бежецке. Но клеймо «члена семьи расстрелянного контрреволюционера» сопровождало и блокировало всю его дальнейшую судьбу.
Все близкие Ахматовой люди так или иначе пострадали от сталинского террора.
В 1921 году расстреляли Н.Гумилева. При этом «никто пальцем не шевельнул, и все произошло так быстро, что даже не успели повздыхать. Люди погибали тогда так легко и в таком количестве, что никто не успевал пролить слезу».
В октябре 1935 года арестовали Н.Пунина и Л.Гумилева. Правда, вскоре – после писем Ахматовой и Б.Пастернака лично Сталину – их освободили, но в 1938 году сын вновь арестован и подвергнут 5-летнему заключению в лагеря. И здесь уже никакие хлопоты не помогли…
Это – в буквальном смысле – ударило по сердцу Ахматовой:
И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла как ручей,
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей…
1930-е годы
Но трагедия России, ставшая и личной трагедией поэта, подняла ее голос до звучания набатного колокола. В 1935-1940 годах ею создана поэма «Реквием» – и скорбный плач, и памятник миллионам безвинных жертв бесовской власти. Это – творение великой плакальщицы, которая ничего не простит палачам и представит все происшедшее в его истинном обличье:
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград…
Именно в 1930-е годы Ахматова стала национальным поэтом России, хотя ее новых стихов тогда практически никто не знал.
В неслыханных и по-шекспировски невероятных страданиях она словно переродилась. Это уже не просто сила отречения, как в более ранних ее стихах, а мужество отказа от всеобщей, массовой лжи. Упрямо называя белое – белым, а черное – черным (в те годы, когда вся страна вслед за «великим вождем» твердила обратное), Ахматова своим подвигом неприятия лжи придала своей поэзии беспощадную мощь и эпохально-гуманистическое звучание. Она срывала со всего ложно-пристойные покровы и называла вещи своими именами.
Структурная основа ее мышления – анализ: она видит мир системно, в том числе – и зверино-убогий вертеп вождей:
…В Кремле не можно жить – Преображенец прав,
Здесь зверства дикого еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы,
И Самозванца спесь – взамен народных прав…
1940
Многие рукописи Ахматовой 1930-1940-х годов уничтожены автором или утеряны во время бесконечных переездов, арестов родных, ожидания обысков. Часть стихов она хранила весьма «креативным» образом – в памяти самых близких друзей…
По иронии судьбы и, возможно, по личному указанию Сталина в 1940 году издается сборник Ахматовой «Из шести книг» (Л., 1940. – 328 с. – 10.000 экз.).
Обстоятельства появления этого сборника во многом остаются апокрифичными: существует легенда, что «лучший друг советских писателей», увидев, как его дочь Светлана переписывает в тетрадь ахматовские стихи, просто решил сделать своей «Сетанке» оригинальный подарок…
Сборник искалечен свирепой цензурой. Сама Ахматова считала, что в него вошли только «ошметки» ее поэзии. Сурово написала об этой книге Марина Цветаева в 1940 году: «…прочла, перечла почти всю книгу Ахматовой, и – старо и слабо. Часто… совсем слабые концы , сходящие (и сводящие) на нет… Но что она делала с 1917 по 1940 г.? Внутри себя… Жаль».








