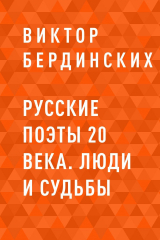
Текст книги "Русские поэты 20 века. Люди и судьбы"
Автор книги: Виктор Бердинских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Глухая пора листопада.
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.
Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом…
Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.
И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».
Иней
1941
Произошла полная перестройка поэтического стиля. Она неизбежна, и в этом были несомненные достижения. Вместе с тем, не стоит игнорировать и замечания некоторых критиков о том, что «неслыханная простота поэта стоит на пороге примитива». (8)
К этому времени Пастернаку уже за 50 – возраст, в котором любой поэт становится «немного смешным». Но и это – всего лишь одно из проявлений его лирического возрождения, подготовленного в 1930-е годы и пришедшего накануне войны.
Окрыленный этой новой «творческой силой», он говорил в июне 1941 года той же А.Ахматовой: «Это только начало – я распишусь…».
Но тут – вновь вмешался «рок событий»…
В военное лихолетье Пастернак вместе с рядом других советских литераторов эвакуирован в Чистополь. В эвакуации находилась и его жена Зинаида Николаевна, имея на руках младшего сына Пастернака – Леонида (1938-1976) и двух своих пасынков (один из которых тяжело болел).
Цензурный режим тогда несколько (и ненадолго) смягчился, и за годы войны выходят два небольших пастернаковских сборника – «На ранних поездах. Новые стихотворения» (М., 1943. – 52 с. – 3.000 экз.) и «Земной простор. Стихи» (М., 1945. – 48 с. – 10.000 экз.). Но кормят поэта, в основном, переводы и, главным образом, – из В.Шекспира.
Переводческая каторга для него весьма тягостна: она безжалостно съедает время и силы для авторского стихотворчества. И если над «Гамлетом» он работает с увлечением, то перевод «Отелло» делается, по собственному признанию Пастернака, «полубессознательно».
При более чем стесненном личном положении, поэт, тем не менее, из своих средств часто помогает людям, попавшим в гораздо бóльшую беду: например, отправляет деньги ссыльной Ариадне Эфрон – дочери М.Цветаевой…
В январе 1945 года у него началось воспаление плечевого нерва: он «перетрудил» правую руку – болезнь, свойственная не столько писателям, сколько писарям. В результате ему пришлось овладевать навыками письма левой рукой…
После возвращения в Москву и на последнем вздохе «легкой оттепели» военных времен (весна 1946 года) состоялись авторские вечера поэта: 2 апреля – совместно с А.Ахматовой, 27 мая – в Политехническом музее.
Один из зрителей последнего вечера вспоминал о выступлении на нем Б.Пастернака:
«В чтении Бориса Леонидовича не было ни грана того, что называется у нас «выразительность чтения»: не было и в помине тех шести (или 36!) рычагов тона, которыми искусно владеют мастера эстрады… А не покидало и не покидает ощущение: перед нами был поэт-зодчий своего Поэтограда. /…/ Поэтоград Пастернака рос на глазах ошалевшего зала не за счет изобилия самоцветного материала, а путем внутреннего наполнения, роста одного образа поддержкой другому». (9)
Послевоенное «закручивание гаек», апогей сталинизма, «борьба с космополитизмом» – все это самым непосредственным образом отразилось и на Пастернаке. Его ругают литературные начальники, порицающе склоняют с высоких трибун – за «индивидуализм» («инженеру человеческих душ» предписывалось быть только «коллективистом» – как и всем «советским людям»), за «субъективность ощущений», за «похвалы на Западе» («низкопоклонство перед буржуазной псевдокультурой»).
Не добавляет ему ничего доброго – в глазах властей предержащих – и регулярное выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию: в 1946-1950-х и (позднее) – в 1953-м и 1957-м годах.
Как следствие, уже отпечатанный тираж его «Избранного» (М., 1948. – 160 с. – 25.000 экз.) так и не поступил в продажу – изъят и уничтожен… Следующий сборник стихов Б.Л. будет издан в стране только после его смерти.
В 1946 году поэт знакомится с молодой сотрудницей журнала «Новый мир» Ольгой Всеволодовной Ивинской, и она до самых последних дней Пастернака становится его близкой спутницей (помимо двух лет, проведенных ею в Гулаге – 1949-1951 годы). Между тем, далеко не всеми друзьями и знакомыми поэта (вкючая А.Ахматову), не говоря уже об «официальных инстанциях», этот альянс воспринимался и одобрялся…
Выдающееся художественное свершение Пастернака в эти годы – переложение «Фауста» И.В. Гете. Первую часть этой трагедии он перевел за шесть месяцев (август 1948-го – февраль 1949 года). Это был поистине подвиг – взрыв творческого горения. Не так уж далеко от истины мнение, что в данном случае переводчик оказался конгениален автору – великому поэту-мыслителю. Впрочем, то же самое вполне можно отнести и к пастернаковским переводам из В.Шекспира – великолепного поэта и гениального драматурга.
Весь мощный потенциал Пастернака-поэта, сдерживаемый жесткими рамками советской цензуры, сублимировался в его переводческой палитре: зримая красота деталей, блистающая картинность природы, игра лексических контрастов и светотеней, просторечия и словесные жесты – живые голоса живых людей. Он и в переводах – мастер звукописи, виртуоз ритма. При этом он отнюдь не укрощает и свой собственный, редкостной силы поэтический темперамент, что дает повод некоторым «злым языкам» утверждать, что «Пастернак заслонил своей фигурой переводимых им авторов».
Что ж, возможно, для таких утверждений и наличествуют некоторые основания. Но ведь именно этот опыт глобальных переводов из мировой литературы и предопределил хрустальную ясность поэзии позднего Пастернака:
Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя…
Как нитки ожерелья, строки рвутся
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград…
Р.М. Рильке
За книгой
По свидетельству английского философа И.Берлина, сам Б.Пастернак говорил ему о своих переводах из В.Шекспира: «Я попытался заставить Шекспира работать на самого себя и потерпел неудачу».
Но для отечественной литературной традиции переводческая деятельность Пастернака – это и высокий образец, и негаснущий маяк, и «точка опоры». А для нас, читателей, – это зримое воплощение творческого подвига, свершенного поэтом в эпоху безвременья…
Великая (профессиональная и человеческая) радость для поэта – начало работы (1946 год) над романом «Мальчики и девочки» (затем поименованным и ставшим известным как «Доктор Живаго»). Повествование задумывалось в десяти главах, которыми предполагалось охватить период 1902-1946 годов, а на этом историческом фоне – выразить сокровенные размышления автора о времени, о жизни, о судьбе…
В письме от 13 октября 1946 года Пастернак сообщал своей конфидентке – кузине О.Фрейденберг:
«Я уже говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, – эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства… Атмосфера вещи – мое христианство…». (10)
Во всей работе над романом поэта пронизывал элемент мессианства. И это вполне объяснимо: перед ним простирались и невероятный опыт России ХХ века (а таких испытаний не пережила ни одна страна в мире, кроме разве что – и с большими оговорками – Германии), и собственная жизнь, вошедшая в плоть и кровь этого века.
Окружение Пастернака такое «мессианское избранничество» понимало и поддерживало. Та же О.Фрейденберг, прочтя первые четыре главы рукописи романа, делилась впечатлениями с его автором (лето 1948 года):
«Твоя книга выше сужденья. К ней применимо то, что ты говоришь об истории как о второй вселенной. Это – особый вариант книги Бытия. Меня мороз по коже подирал в ее философских местах, я просто пугаюсь, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь этого выраженья в искусстве или науке – и боишься этого до смерти…».
Дорога, ведущая вглубь России и обозреваемая на широкую перспективу, – такова, очевидно, концепция романа.
А свою поэтическую ипостась Пастернак уже держит «в черном теле»: по сравнению с романом стихи для него вторичны. Он их даже не всегда теперь и записывает, если они все-таки прорываются «на волю»…
Тем не менее, два последних его сборника – «Стихотворения Юрия Живаго» (1946-1953) и «Когда разгуляется» (1956-1959) – это еще одно созвездие шедевров русской поэзии ХХ века, отличительная черта которых – пушкинская простота, классичность и ясность мыслеобразов.
Смерть Сталина Б.Пастернак воспринял как освобождение России от тяжелейшего ярма тирании. Одновременно он подводит итоги и собственной жизни, словно предвидя конечную ее трагедию. В этом ряду – его стихотворение «Август» (1953 год), посвященное православному празднику Преображения Господня («второго Спаса»), который отмечается в этом месяце и в судьбе поэта имеет какое-то мистическое, переломное значение: именно в этот день в 13-летнем возрасте он сломал ногу, после чего жизнь его пошла по другому руслу:
…Прощай, лазурь Преображенская
И золото второго Спаса.
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.
Прощайте, годы безвременщины.
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я – в поле твоего сраженья!
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.
Божественный пафос Евангелия пронизывает и стихи, и прозу, и душу Пастернака.
В 1952 году у него случился первый инфаркт (это событие отражено поразительным стихотворением «В больнице»). От природы и генетически ему было дано вполне удовлетворительное здоровье: брат и сёстры поэта прожили до весьма преклонного возраста (от 87-ми до 93-х лет). И если бы не кампания клеветы и травли, обрушившаяся на него в конце 1950-х годов (в связи с присуждением ему Нобелевской премии), жизнь его, несомненно, тоже могла продлиться, как минимум, еще лет на десять.
Авторитетный критик К.Чуковский (сосед Пастернака по переделкинской даче) отмечал в 1966 году: «Молодость долго не покидала его (Б.Пастернака. – В.Б.). Лет до 60, а пожалуй, и дольше он был строен, подвижен и гибок. Темно-карие лучистые, большие глаза очень долго глядели на всех с юношеской простодушной доверчивостью. /…/ Он чаще всего вспоминается под открытым небом, под ветром и солнцем в поле… Не потому ли, что ветер, и солнце, и поле, и лес – главные герои его лирики, полновластно царящие в ней?» (11)
И.Берлин по-английски корректно и четко вспоминал о своих встречах с поэтом в 1945-м и 1956 годах: «Пастернак говорил медленно, монотонно, низким тенором, несколько растягивая слова и с каким-то жужжанием, услышав которое один раз, уже невозможно было забыть. Он удлинял каждый гласный звук, как иной раз слышишь в жалобных лирических оперных ариях Чайковского, только у Пастернака это звучало с большей силой и напряжением…
Пастернак говорил великолепными закругленными фразами, и от его слов исходила необъяснимая сила. Иногда он нарушал грамматические структуры, за ясными пассажами следовали сумбурные и запутанные, а живые конкретные образы сменялись темными и неясными. Иной раз казалось, что понять его дальше будет совершенно невозможно, как вдруг его речь снова обретала ясность и простоту…». (12)
Он был гениальным поэтом даже в разговорах на малозначимые житейские темы. А современники называли это – «он гудел»… Сравнивая его речь с дречью других поэтов Надежда Мандельштам писала: «А Пестернак просто дарил своей речью и улыбкой. Он оглушал органным гудением с такой уверенностью, как будто считал всякую почву заранее вспаханной для восприятия. Он не убеждал как Белый, не спорил как Мандельштам, но доверчиво ликовал и гудел, позволяя всем слушать и восхищаться. (…) Но ему нужна была именно аудитория, а не собеседники – их он избегал».
Стоит помнить, что Б.Л. был прирожденным москвичем и впитал чудесную русскую речь с пеленок. Он пел, мычал, шумел, гремел. Именно врожденная музыкальность превращала его говор в оркестр.
Пользовался при письме поэт обыкновенным школьным пером или хорошо отточенным карандашом, авторучек не признавал. Газет не читал. Распорядок дня в 1950-е годы – довольно прост и практически неизменен: с утра – работа, в три часа дня – послеобеденная прогулка, вечер – в чтении, перед сном – вновь прогулка, на ночь (очень часто) – снотворное…
В.Шаламов, боготворивший Пастернака, вспоминал, что его «похвалы были всегда неумеренны и гомеричны; но истинный восторг он испытывал, лишь перечитывая собственные стихи». Образцом великого прозаика для него являлся Л.Толстой. Из современников более всего ценил М.Пруста. К А.Блоку на склоне дней относился без особой симпатии. Ему гораздо ближе А.Белый – гениальный прозаик и своего рода «юродивый» среди поэтов. В творчестве В.Брюсова усматривал лишь «самодельный сложный музыкальный ящик», не имевший ничего общего с подлинной поэзией…
Автографы, книги часто дарились случайным людям. Поэт не давал себе труда разобраться в том, кто достоин его подарка, а кто – нет.
Впрочем, когда ранее верный, хотя и довольно буйный, его друг – актер Б.Ливанов – позволил усомниться в философской ценности «Доктора Живаго», Пастернак просто-напросто отказал ему от дома…
Угнетающее впечатление производила его манера хвалить в лицо и ругать за глаза. Вокруг Пастернака, по мнению того же В.Шаламова, всегда крутился «комок чьих-то личных интриг». (13)
Крайне негативно (как и многие другие поклонники поэта) относившийся к О.Ивинской В.Шаламов утверждал, что «в собственной семье Пастернак был в плену… Для госпожи Ивинской Пастернак был предметом самой циничной торговли, продажи, что, разумеется, Пастернаку было известно. Я не виню Ивинскую. Пастернак был ее ставкой, и она ставку использовала, как могла. В самых низких своих интересах. /…/ Но то, что было естественно для Ивинской, было оскорбительно для Пастернака, если он хотел считаться поэтом, желая все сохранить: и вкусные обеды Зинаиды Николаевны, и расположение Ивинской…
Для Ивинской написаны, говорят, хорошие стихи, говорят так люди, не понимающие природы творчества. Стихи все равно были бы написаны, даже если бы Ивинская и Зинаида Николаевна поменялись бы местами…». (14)
Если на рубеже 1940-1950-х годов отчуждение Пастернака от властей не было тотальным (он еще надеялся на возможность некоего «просветления»), то с окончанием «Доктора Живаго» (1956 год), публикации которого он хотел добиться любым путем, поэт уже не мог говорить о господствующем в стране режиме без содрогания. А ведь именно ставка на государство, стоящее стеной между интеллигенцией и народом, до этой поры определяла одну из основополагающих его идей…
Между тем роман отвергли все советские издательства и журналы – по «идейным соображениям». Даже либеральный писатель Э.Казакевич после ознакомления с рукописью заключил: «Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция – недоразумение и лучше было ее не делать». Между тем во всей советской литературе настоящего глобального осмысления национальной трагедии, случившейся с Россией в 20 веке, – ни на грош!
Поэтому вывод Казакевича, в какой-то мере точный, но слишком утилитарный: ведь роман – это уникальный по своей широте образ России первой половины ХХ века, и нацелен он против идеологии тоталитарного государства. Неприятие тоталитаризма – это и есть гуманизм в понимании как автора романа, так и главного его героя.
Последний (Юрий Живаго) говорит (и за этим недвусмысленно просматривается позиция самого Б.Пастернака): «Выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок – единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды – это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. /…/ Человек рождается жить, а не готовиться к жизни…».
На место утраченной веры в революцию, убеждению, что человек должен жить интересами «своего» государства, даже если он с ним не согласен, – приходит Вера Христианская.
А историософский пафос романа – убежденность в «особенной стати» России, ее принципиальном отличии как от Европы, так и от Азии – берет начало в идеях отечественных мыслителей начала ХХ века – времен студенческой молодости автора.
Открывающаяся в романе широта географического и духовного пространства России – несравнима с любым литературным текстом минувшего столетия…
К середине этого века жизнь, по словам поэта, стала «слишком многомерна и сложна»: стихи уже не могут ее отразить, они – лишь «отписка». Востребована проза, и единственно стоящее, как ему представляется, что он сделал в своей жизни, – это роман. Последнее настроение – само по себе катастрофично.
Пастернак стремится преодолеть «поэтическую косноязычность» и заговорить на понятном («всеобщем») языке. Секрет волшебства его лирики – в магическом влиянии ощущений, сливающихся с повседневностью. Но ему этого уже недостаточно: он углубляется в «анализ прошлого из сегодня». А между тем в новые времена генерирующее движение идей пресеклось, хотя тотальное перемешивание социальных слоев еще инерционно продолжалось, беспрерывно подрубая корни традиционного человеческого бытия, делая необратимым процессы распада личности.
Лишь война сплотила людей, вызвала – пусть лишь на краткий период – общий нравственный порыв, концентрацию мыслей, что, по замечанию Н.Мандельштам, подготовило и роман Б.Пастернака, и «оттепель», и «брожение умов» в 1960-е годы…
В литературной среде многие не приняли роман: одни (большинство) – по «идейно-политическим», другие (В.Набоков, А.Ахматова…) – по чисто профессионально-эстетическим соображениям. Последняя неоднократно говорила, что «Живаго» – это «второй том «Мертвых душ» Гоголя», что люди в романе – «картонные», «неживые», «одна природа живая». Вместе с тем она все же признавала, что «эту прозу написал поэт», а «многие пейзажи и стихи романа, действительно, гениальны»…
По острой мысли Надежды Мандельштам автор в романе просто проходит мимо всех внутренних процессов, прпоисходивших у интеллигенции той эпохи как целого. Скучные люди с плоскими мыслями… Жизнь семьи Живаго разбил взбунтовавшийся народ. Поэтому между интеллигентом и народом Пастернак хотел бы воздвигнуть защитную стену государства. Это ставка на государство с его чудесами, совершенно чуждая, например, Мандельштаму.
Сам Б.Л. относился по-разному к этой своей прозе, но дух мессианства всегда превалировал. В письме Н.П. Смирнову от 2 апреля 1955 года он, например, очень самокритичен: «… я писал эту прозу непрофессионально, без сознательно выдерживаемого творческого прицела, в плохом смысле по-домашнему, с какой-то серостью и наивностью, которую разрешал себе и прощал. Она очень неровная, расползшаяся, она мало кому нравится, в ней чудовищное множество лишних без надобности введенных лиц… Но я по-другому не мог».
А через полгода в письме Н.Табидзе от 10 декабря 1955 года вывел для себя гораздо более утешительный итог романа: «Вы не можете себе представить, что при этом достигнуто! Найдены и даны имена всему тому колдовству, которое мучило, вызывало недоумение и споры, ошеломляло и делало несчастными столько десятилетий. Всё распутано, всё названо, просто, прозрачно, печально. Еще раз, освежено, по-новому, даны определения самому дорогому и важному, земле и небу, большому горячему чувству, духу творчества, жизни и смерти». Совершенная эйфория автора!
Читательница романа в рукописи историк литературы Т.М.Некрасова довольно внятно отмечала в письме Б.Л. 3 ноября 1954 г., что автор, пытаясь обрисовать исторические события, передает в своих образах дыхание и атмосферу эпохи. Ровный поток жизни заменился отдельными пятнами событий и происшествий. Дело не в характерах героев, а в той атмосфере, которую они создают.
Как бы и что бы там ни было, но огромный роман, к которому Пастернак прошел долгий путь – через подступы к эпичности в поэмах 1920-х и раннюю прозу 1930-х – внезапно, в конце 1950-х годов приковал к себе внимание всего цивилизованного мира.
В 1957 году, когда стало окончательно ясно, что в СССР «Доктора Живаго» напечатать не суждено, Пастернак согласился на публикацию романа в Италии (издательством коммуниста Дж. Фельтринелли). Затем этот роман вышел и в Англии – при содействии И.Берлина. А к концу 1958 года он уже был переведен на восемнадцать языков.
И тут по сигналу властей в Советском Союзе развернулась массовая антипастернаковская кампания. Газеты и журналы, собрания литераторов и «трудовых коллективов» – клеймили поэта. Его исключили из Союза писателей, требовали «выслать предателя» из страны, лишить гражданства и т.д. и т.п.
«Раньше нами правил маньяк и убийца, сейчас нами правит невежда и свинья», – горестно отзывался Б.Пастернак о таком стиле управления огромной страной.
В то же время со всего мира в его адрес нескончаемым потоком шли письма признания и поддержки…
Переведенная Кремлем в «идеологическую плоскость» ситуация вокруг романа стала частью большой политики. Нобелевский лауреат по литературе 1957 года француз А.Камю выдвинул кандидатуру Б.Пастернака на присуждение этой премии в 1958 году. И 23 октября 1958 года это свершилось: во второй (после И.Бунина) раз русский писатель был удостоен самой престижной литературной награды – «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».
Шквал травли внутри страны еще более усилился: поэт вынужден был отказаться от личного получения премии – власти просто не гарантировали ему после этого возвращения на родину. Денежную сумму он попросил перечислить в Советский фонд мира… Шквал травли существенно утих после звонка Хрущёву Джавахарлала Неру.
Но всё же невыносимый политический и моральный прессинг, сильнейшие нервные потрясения привели к тяжелой болезни, оказавшейся смертельной. 30 мая 1960 года Борис Леонидович Пастернак скончался – от рака легких. Погребен на Переделкинском кладбище. Там же (и после такой же болезни) похоронена его жена – З.Н. Нейгауз, а затем нашли вечный приют и оба сына (Леонид и Евгений). Но родовое древо поэта разрастается и «буйно зеленеет»: у него четыре внука и десять правнуков…
Своим открытым противостоянием людоедской власти (что представлялось многим «неумным» и «нелепым» в конце 1950-х годов), отстранением от государственной машины поэт спас честь великой отечественной литературы. Именно после этого и началось постепенное возвращение раздавленной ХХ веком личности человека и творца к самостоянию и саморазвитию:
Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.
Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою
Оплакивая их,
Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урною,
Покоящей их прах. /…/
Душа
1956
1.2. Творчество и судьба
После смерти поэта накал «официозных» страстей вокруг него несколько спал. Изредка выходят его стихотворные сборники (1967-й, 1967-й годы…). Но роман «Доктор Живаго» впервые опубликован в нашей стране лишь на пике «гласности» (журнал «Новый мир», 1988 год). Кстати, среди нескольких попыток экранизации этого романа (в том числе – одной отечественной) наиболее известной остается фильм английского режиссера Д.Лина, снятый в Голливуде в 1965 году…
В декабре 1989 года сын поэта (Евгений) получил в Стокгольме отцовские диплом и медаль Нобелевского лауреата.
Бывший поэтом лишь для нескольких сот читателей в конце 1910-х годов, для нескольких тысяч – в 1920-е, для десятков тысяч – в 1930-е, – Пастернак стал с 1960-х годов (уже после «оттепели») известен миллионам, читающим и почитающим его.
Нарастающая скорость времени подтянула эстетическое восприятие этой «читательской армии». И выдающиеся достижения мастера-виртуоза отечественной словесности, намного опередившие косные вкусы современного ему окололитературного сообщества, восприняты в России второй половины ХХ века уже как эталон истинной поэзии.
В чем же заключаются эти достижения? Какова их художественно-историческая суть?
Пастернак отнюдь не отказался в своей поэзии от фундаментально-традиционных элементов русского стихосложения – ритма и рифмы. Вероятно, он считал, что славянские языки (в отличие от романских) исторически обязывают к определенному и выраженному ритму. «Свободный стих» звучит в этих языках «неуклюже и неряшливо» (Е.Пастернак).
Он (расходясь в этом с В.Хлебниковым и В.Маяковским) не изобретал какого-то «собственного поэтического языка». И все-таки в ХХ веке – это единственный поэт новаторского типа в отечественной литературе (наряду с тем же В.Хлебниковым). Но при этом его стихотворные опыты создаются реально и недвусмысленно для людей (а не «против остального человечества»).
Поэт не разрушал традиционной просодической системы: он почти никогда не выходит за пределы пяти форм русской лирики – двусложных и трехсложных размеров. Его задача – «сказать новое слово на старом языке».
Он потрясает новизной «рифменного репертуара» (Е.Эткинд). Но, обновляя поэтическую речь, сохраняет классическую структуру стиха.
В своих стихотворческих идеях он антиромантик и демократ. В то же время он откровенно увлекается профессиональным жаргоном: в его сочинениях звучит специфическая лексика, передающая особенности мышления и музыканта, и живописца, и артиста.
Автор у него – не поэт, воспевающий природу, а человек, существующий внутри нее: «друг и соратник березняка, лесной птахи»…
Он творит «новую поэзию», порождая качественно иной взгляд современного человека на мир.
Первое, что бросается в глаза при чтении пастернаковских стихов, – слово в них «сошло с ума». (15) Оно перестало быть единицей логического смысла. Все каноны сломаны. Поэт абсолютно властен над своей строфой, придает слову то значение, какое ему, автору, вздумается.
Он ушел далеко вперед не только от буквализма русской поэзии XIX века, но и от туманной многозначности слова в символизме. Это – «стратегический» прорыв, хотя он и оборачивается (что естественно) временной утратой действенности.
Второе.
Вихрь «бездумных метафор» поэта постоянно подгоняет сотворенный им словесный шквал. Его лирический мир сцеплен метафорами, ими живет и держится. А скорость и захлебывающаяся торопливость вызывают в этом мире череду волшебных превращений образов и предметов друг в друга. Против подобного «безумия», за логику зрительных образов в свое время ратовали Н.Гумилев и В.Ходасевич. Но метафорическое мировосприятие – это неотъемлемая природная черта Пастернака.
Поэт – «царь и Бог» в этой «метафорической неразберихе». И только так подсознательные ощущения автора выходят на дневной свет.
А двигатель творчества – личное вдохновение поэта. Это – природный дар. Его не постичь и не повторить.
Пастернак отбрасывает старую поэтику, как шелуху. В его поэзии растворена проза, но при этом он опасается и даже боится ее прямого проявления…
Третье.
Футуризм полностью снял эстетические запреты в русской словесности. И у Пастернака нет лирического героя – в общепринятом каноническом смысле этого понятия. Он поклоняется силе, скорости и мощи Времени, текущего «над землей» и «под землей». Его единственная опора – интуиция.
«Не в лобачевски-римановском ли восприятии реальности обнаруживается острая, интуитивная современность Пастернака?» – задается риторическим вопросом остро желчный Г.Адамович, но одновременно инкриминирует поэту, что «местами» его опусы – «это просто лирическая заумь». (16)
Хотя ведь вполне резонно разглядеть и совсем иное: полное освобождение от запретов рационализма и позитивизма, элементы «высокой игры» и при этом – редкую личную честность поэта, твердость и цельность его духа, которые всегда присутствуют за его строфой.
Тот же Г.Адамович бросает поэзии Пастернака и главный свой эстетико-этический упрек:
«…Привкус пастернаковской поэзии … горек. Освобождение не привело никуда, привело в «никуда»: Пастернак остался в пустоте и видит вокруг себя только миражи. /…/
Пастернак дает поэзию, «поэзию» в кавычках. А когда голодному дают пирожное, он склонен сказать: дайте кусок хлеба. Поэтического голода кремом не утолить. /…/
Читаешь стихи, видишь, как они крепко и ладно сделаны, – и недоумеваешь: зачем они сделаны, зачем?..». (17)
В наши дни последняя инвектива совсем уж неактуальна. Литература вообще (и поэзия в частности) за два последних десятилетия перестали быть драйверами духовного роста отечественного социума. Стремительное движение жизни отбросило их на обочину человеческих интересов и запросов. Русская словесность прекратила генерировать свежие идеи, новое мышление. Впрочем, в полной мере это относится и к мейнстриму литературы западной…
Молодые отечественные модернисты пытались, в основном, учиться формальному мастерству именно у Пастернака. Но его эстетическая «шаткость и ветреность» (как и у А.Белого, например) не давала им возможности чему-либо всерьез у него научиться. Достаточно вспомнить хотя бы неудачный опыт А.Вознесенского…
Если у Пастернака даже «демонстративное вдохновение» неподдельно, ибо его поэтические крылья наполняет ветер эпохи, то имитация «безумия» у молодых пастернаковских эпигонов выглядит воистину пародийно и жалко: они просто не могут оторваться от земли. И дело тут не только и не столько в личной бездарности: исчез «солнечный ветер» для русской поэзии, ее сковал омертвляющий штиль безвременья…
Четвертое.
Слова и образы Пастернака – молоды. Да, они шероховаты, но вспоминаются нам чем-то внутренне очень близким и теплым. В современной поэзии старые слова гладки, как бильярдные шары – они «не цепляют» читателя. У Пастернака же слово не виснет в воздухе: оно «ворошит вещь».
По выражению Ю.Тынянова, пастернаковская музыкальная эмоция – итог «столкновения в поэзии слова и вещи». Перед нами – «композитор, чутко улавливающий музыку высших сфер». Эта музыка предстает разной – в хаосе Гражданской войны и в бурлящие двадцатые, в переломные тридцатые и в военные сороковые годы…








