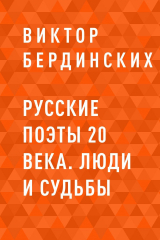
Текст книги "Русские поэты 20 века. Люди и судьбы"
Автор книги: Виктор Бердинских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Но издание сборника произвело фурор среди читательской публики: люди, желая купить книгу, ночами стояли в очередях и в одночасье «смели» ее с прилавков. Интеллигенция как будто очнулась от грохота официальной пропаганды, и успех ахматовской книги многие объясняли просто стремлением сохранить в себе человечность…
Вскоре, однако, сборник подвергается идеологическому разносу.
«Прошло всего полгода после выхода книги, как появление ее было признано ошибкой, книга была негласно изъята из продажи и библиотек… Анне Ахматовой более идет быть задушенной цензурой, чем преуспевающей», – констатировал также опальный тогда литератор Р.Иванов-Разумник. (15)
На имя секретаря ЦК ВКП(б) А.Жданова 15 сентября 1940 года поступил запрос-донос управляющего делами ЦК Д.Крупина, в котором, в частности, говорилось: «Два источника рождают стихотворный сор Ахматовой и им посвящена ее «поэзия»: бог и «свободная любовь», а «художественные» образы для этого заимствуются из церковной литературы. Необходимо изъять из распространения стихотворения Ахматовой».
А.Жданов приказал разобраться «с этим делом»: «Как этот ахматовский «блуд с молитвой во славу божию» мог появиться в свет?..». (16)
Говоря о том времени, Н.Мандельштам пишет: «…Пострадали люди и книга Ахматовой, которая пошла под нож. Из всего тиража, уже сложенного в пачки, уцелело несколько экземпляров, украденных рабочими. Можно считать, что книга вышла в количестве двадцати экземпляров. Мы живем в стране неслыханно больших и неслыханно малых тиражей». (17)
В данном случае – это преувеличение. Несмотря на то, что специальным постановлением ЦК ВКП(б) велено было «книгу стихов Ахматовой изъять», бóльшая часть ее 10-тысячного тиража все-таки успела попасть в продажу и моментально разошлась…
Этот относительный «коммерческий успех» позволил Ахматовой несколько поправить материальное положение. Кроме того, ее даже приняли в Союз советских писателей (в чем в 1934 году – при образовании этого Союза – ей было отказано). Обретение некоего официального статуса (пусть и достаточно эфемерного), помимо прочего, поможет ей выжить в предстоявшей и неотвратимо надвигавшейся войне…
Многие ахматовские стихи военных лет – это тоже отражение и воплощение твердыни поэтического, гражданского и человеческого духа.
В конце сентября 1941 года Ахматова (вместе с рядом других литераторов и ученых) была на самолете эвакуирована из Ленинграда и вскоре оказалась в Ташкенте.
В эвакуации издается новый ее сборник – «Избранное» (Ташкент, 1943. – 116 с. – 10.000 экз.).
Живется ей при этом весьма нелегко: она долго болеет тифом, становится тяжелой, грузной женщиной. В одиночку никуда не выходит: еще с 1937 года страдает агорафобией (боязнь открытого пространства). В 1940 году ее перевели (по болезни сердца) с третьей группы инвалидности на вторую… Теперь уже, сочиняя стихи, она не бегала как олень, а лежала с тетрадкой в руках. Но «предпесенная тревога» – предвестник поэтического выброса – осталась при ней.
В это же время она спасает жизнь Н.Мандельштам, устроив ей вызов в Ташкент из южно-казахстанской глуши…
Обнадеживают и некоторые подвижки к лучшему в жизни сына Льва: в 1943 году – после окончания срока заключения в Норильсклаге – он был оставлен в Заполярье на положении ссыльного, а в конце 1944 года ушел добровольцем на фронт. До самой победы воевал зенитчиком, дошел до Берлина. Вернувшись в Ленинград, в 1946 году экстерном сдал на отлично экзамены за курс высшего образования, поступил в аспирантуру Института востоковедения, где подготовил, а затем (хоть и с немалыми трудностями) защитил кандидатскую диссертацию, став профессиональным историком-востоковедом…
Если 1923-1938 годы – это период почти полного поэтического молчания Ахматовой, то в 1939-1946 годах она переживает новый творческий подъем. По подсчетам франко-русского литературоведа Н.Струве, 1939-м годом датированы 9 ее стихотворений, 1940-м – 33, 1941-м – 11, 1942-м – 17, 1943-м – 16, 1944-м – 20, 1945-м – 17, 1946-м – 13. Следующее десятилетие (1947-1957) – вновь полоса «поэтической пустыни» (одно или несколько стихотворений в год). Последний творческий всплеск – 1958-1964 годы, с высшими достижениями в 1959-м (24 сочинения) и в 1963-м (21).
Любопытно, что и в период Гражданской войны Ахматова пережила приступ «поэтической немоты» (1918 год – 4 произведения, 1919-й – 5, 1920-й – 1), сменившийся затем бурным стихотворчеством, кодифицированным в сборнике «Anno Domini»: 1921 год – 33 сочинения, 1922-й – 19.
И все же наиболее плодотворный подъем ее творчества отмечен 1911-1917 годами. Если в 1910 году она создала 13 стихотворений, то в 1911-м – 41, в 1912-м – 29, в 1913-м – 46, в 1914-м – 50, в 1915-м – 35, в 1916-м – 33, в 1917-м – 32. (18)
Лучшая вещь, созданная Ахматовой в эвакуации, – драма «Энума Элиш» (второе название – трагедия «Пролог или Сон во сне»). Рукопись (вместе с некоторыми тетрадями стихов и архивом) уничтожена (сожжена) автором: по одним сведениям – в 1944 году, по другим – в 1949-м, в ночь после очередного ареста сына…
Н.Мандельштам вспоминает, что в пьесе, «обнажавшей картину советской жизни во всей ее беспощадной пошлости и трагичности», был «слышен живой голос Ахматовой». Слушатели сравнивали «Пролог» с Гоголем, Кафкой (столь любимым Ахматовой), Сухово-Кобылиным.
Речь в пьесе шла о литературном чиновничестве: героиню подвергают «писательскому суду» и отправляют в тюрьму. По словам Н.Мандельштам, эта ахматовская вещь была «острым, хищным, хорошо утрамбованным целым». Сила и мощь ее ума, умение взглянуть на вещи беспощадно в упор и назвать все своими именами – поражают. Анализ удивительно глубины – основное структурное начало ее мышления.
Сюжет пьесы таков. Героиню будят среди ночи, и она в одной рубахе спускается по лестнице на некое подобие эшафота, где установлен судейский стол, накрытый казенным сукном (совершенно прозрачна аллюзия с чекистскими «операциями» – ночной стук в дверь все помнили хорошо). За столом – судьи, а со всех сторон сбегаются – для их «поддержки» – крысоподобные «писатели», у каждого в руках – пакеты с рыбой («членский паек»).
Каждая фраза пьесы резала как нож. Все формулировки официальной пропаганды и официозной литературы вставлены в речь героев. На суде противостоят два мира, говорящие на разных языках. Героиня лепечет стихи о земле и небе. Но едва она пытается начать свою речь, сразу же поднимается гул голосов: «Ей никто не давал права говорить!»; «На чью мельницу она льет воду?!»; «Подсудимая стоит перед народом!»… (19)
«Писатели» с пайками и рукописями мечутся по сцене, суетятся, расспрашивают про суд, пристают к «нечеловеческой красоты» секретарше, которая им хамит: «Вас много, а я одна». Эти же «писатели» поддерживают любые выдвигаемые властями самые абсурдные обвинения в адрес подсудимой, выкрикивая: «При мне хвалила Джойса…»; «Перебегала границу…»; «Увела у меня трех мужей…»; «Украла подводную лодку…»…
Нежить всего мира беснуется и ликует в образе «советских писателей». И только в камере героиня-поэтесса чувствует себя свободной от этого острого бреда реальной жизни…
Вскоре – после постановления ЦК ВКП(б) 1946 года – Ахматова воочию увидит все эти инспирированные «писательские» судилища и услышит эти бесноватые речи, замешанные на трескуче-конъюнктурной риторике «рапповцев» и «лефовцев» 1920-х годов.
В последние годы жизни Ахматова пыталась восстановить свое единственное драматургическое сочинение, но в результате получилось нечто совсем иное. Пьеса приобрела название «Пролог» (прежнее – «Энума Элиш», означающее в переводе «Там, наверху», – выглядело откровенно вызывающим) и стала как бы спутницей «Поэмы без героя» (третья часть этой поэмы была написана тоже в Ташкенте).
Обусловленная войной относительная либерализация советской жизни быстро закончилась. На ее закате – в апреле 1946 года – с огромным успехом прошло (впервые после начала 1920-х годов) публичное выступление Ахматовой (совместно с Б.Пастернаком) в Москве. В Колонном зале Дома Союзов публика, встречая Ахматову, аплодировала ей стоя. Сталин, узнав об этом, вышел из себя. «Кто организовал вставание?!» – спрашивал он в гневе…
Затем в судьбе поэта последовала новая мрачная полоса. Произошла очередная трагедия в личной жизни: гражданский муж (с 1938 года) профессор-врач В.Гаршин (родственник известного литератора XIX века В.М. Гаршина), сделав Ахматовой вызов из Ташкента в Ленинград в 1944 году, затем объявил о полном разрыве отношений. Она очень тяжело переживала этот разрыв.
Усилилось и внимание к ней со стороны «органов», никогда, впрочем, не оставлявших ее без «опеки». В информационной справке МГБ по Ленинградской области (1946 год) отмечалось, в частности:
«В настоящее время Ахматова проживает совместно со своим сыном от первого мужа – ГУМИЛЕВЫМ Львом Николаевичем… По заявлению ряда близких ей лиц, Ахматова постоянно находится в стесненных материальных условиях, проживает в бедно обставленной мебелью квартире, нуждается в предметах одежды и обуви, чувствует недостаток в продуктах питания, так как ее пайком пользуется, якобы, семья ПУНИНЫХ. Однако Ахматова не предпринимает шагов к улучшению своего материально-бытового положения, ведет скромный, довольно замкнутый образ жизни, избегая участия в общественных мероприятиях Союза писателей, неохотно соглашаясь на публичные выступления.
Ахматова пользуется громадным авторитетом и популярностью, как «единственный и лучший представитель настоящей поэзии» в Советском Союзе и в Европе, вызывает все больший интерес к себе не только как поэтесса, но и как личность. Вокруг ее имени создается и культивируется частью интеллигенции и работниками искусств ореол непризнанной советской действительностью поэтессы. В СССР отдельные литературоведы и писатели называют ее в своих выступлениях «великим преемником ПУШКИНА (писатель ЧУКОВСКИЙ), а за границей сравнивают ее с Сафо…». (20)
Послевоенное «закручивание гаек», а затем возврат к новому витку террора знаменовало подготовленное А.Ждановым постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». В постановлении Ахматова (вместе с писателем М.Зощенко) предавалась всесоюзной идеологической анафеме. В нем, среди прочего, значилось:
«Журнал «Звезда» всячески популяризует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, «искусства для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе».
В устных выступлениях А.Жданова отношение к Ахматовой выражается вообще в самых грубых формах, приобретающих характер личных оскорблений: «До убожества ограничен диапазон ее поэзии – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной…»; «Блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой…».
И весь этот бесстыдно-пропагандистский бред страна твердила («изучала») тогда – в школах и вузах, в сети «политпросвещения» на предприятиях и в учреждениях, заводах и колхозах, чуть ли не в детских садах…
Так началась эпоха нового разгула реакции и мракобесия. М.Зощенко оказался к этому не готов – и сломался. Ахматова твердо вынесла все, опасаясь лишь за жизнь своих близких. «Я могу выдержать все. Хорошо ли это?» – то ли гордилась, то ли жаловалась она в старости. Она не признавала самоубийства как глубоко верующий человек. А на самоубийство в эти десятилетия, казалось, толкало всё: олиночество, изоляция, время – тогда работавшее против нее. Одиночество в данном случае – это не отсутствие друзей, а жизнь в обществе, которое не желает слышать тебя и твердо идет по пути братоубийства.
Ничего хорошего, в самом деле, и власти предержащие ей не сулили. Драматично сложилась судьба двух книг Ахматовой – «Стихотворения» и «Нечет. 1936-1946», вышедших как раз накануне (в июле) публикации погромного августовского постановления. Первый сборник изъят из продажи и библиотек, а второй – вообще не увидел света. Тиражи этих книг успели почти полностью уничтожить: остались буквально считанные экземпляры. (21)
Ахматову исключают из Союза писателей. За ней устанавливается «негласное наблюдение»: прикрепляются «топтуны», в квартире оборудуется «прослушка»…
Она продолжает жить и творить, хотя к стихам обращается лишь эпизодически, а после ареста сына и обыска на квартире, повлекших за собой уничтожение личного архива, что-то в ней все-таки сломалось. Но ведь именно о силе духа Ахматовой пишет ей, находясь на грани жизни и смерти в одной из больниц Самарканда (апрель 1942 года), бывший муж Н.Пунин, отношения с коим у нее всегда были отнюдь не простыми:
«…Когда я умирал…, – как бы исповедуется Н.Панин, – мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, как Ваша; от первых детских стихов…, до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей… – а той органичностью, т.е. неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит. /…/ В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки. /…/ Вы казались мне тогда – и сейчас тоже – высшим выражением Бессмертного, какое я только встречал в жизни». (22)
Стоицизм вновь «пригодился» Ахматовой, когда 6 ноября 1949 года вновь арестовали ее сына. Шли массовые «зачистки» так называемых «повторников» – тех, кто ранее уже был репрессирован по «контрреволюционным» статьям. Но Л.Гумилев, получивший новый 10-летний лагерный срок, стал еще и своеобразным заложником для властей в их отношениях с Ахматовой. Стихи в такой удушающее атмосфере – после второго ареста сына, который она еле пережила – жить уже не могли. Такая степень ужаса убивала любую жизнедеятельность. После этого ареста она какое-то время лежала в беспамятстве.
Незадолго перед этим был арестован и Н.Пунин, сгинувший затем (в 1953 году) в ГУЛАГе… И все же, репрессии против близких ей людей Ахматова переносила с мужественным достоинством. И можно только догадываться, что стоило этой уже пожилой и очень больной женщине противостоять всей брошенной против нее мощи безбожно жестокого государства…
Она не переставала хлопотать о сыне и (несомненно, дабы «подкрепить» эти хлопоты) сочинила в 1950 году 14 лжестихотворений во славу Сталина, а также несколько холодно-вялых рифмованных текстов о «советской молодежи». Все это – лишь слабые версификации: любой графоман средней руки сотворил бы на заданную тему нечто более «художественное». Ахматова вообще никогда (ни до, ни после) и ничего не делала «на идеологический заказ», а этот единственный свой «сервильный» цикл («Слава Миру») исключала позднее из всех своих сборников. Не приняли ее «поэтическую жертву» и в Кремле: сын остался в лагере и был выпущен оттуда только в 1956 году – в общем потоке послесталинского «реабилитанса», за что он нередко (и совершенно необоснованно) впоследствии упрекал мать, «плохо», по его мнению, хлопотавшую о нем… Ахматова сама в 1961 году расставила все акценты:
…Не за то, что чистой я осталась,
Словно перед Господом свеча,
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы палача.
Нет! И не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью был.
Мощный толчок жизни и творчеству Ахматовой принесла состоявшаяся впервые в ноябре 1945 года встреча с И.Берлиным – английским философом российского происхождения, а тогда – британским дипломатом, направленным в СССР с целью оценить там общественное мнение и намерения властей относительно мирного сосуществования с Западом.
В Москве И.Берлин встретился с Б.Пастернаком, а в Ленинграде – с Ахматовой, что вызвало гнев Сталина и (как считала сама Ахматова) спровоцировало партийное постановление 1946-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград», последующую травлю ее и М.Зощенко, а, в сущности, – ужесточение идеологического диктата и контроля над всей интеллигенцией и начало «холодной войны».
В ахматовской «Поэме без героя» И.Берлин стал прототипом «Гостя из будущего». Он также надолго запомнил напряженный многочасовой разговор с Ахматовой и в своих мемуарах повествует о том, как пережил при общении с ней отчетливое ощущение трех временных потоков, протекавших самостоятельно, но во взаимодействии.
«Думаю, – пишет И.Берлин, – что я был первым человеком из внешнего мира, который говорил с ней на ее языке».
Мощный накал ахматовской исповеди потряс английского философа. Ее интеллект, критическая мощь и иронический юмор, – вспоминает он далее, – казалось, существовали бок о бок с драматическим, временами провидческим и пророческим чувством реальности. Она говорила о своем одиночестве и изоляции – личной и культурной. Ленинград стал для поэта огромным кладбищем ее друзей…
Преданные друзья у нее оставались: М.Лозинский, В.Жирмунский, О.Берггольц, Э.Герштейн, Л.Чуковская, Н.Харджиев, семья Ардовых, – но «подпитка жизни» шла все-таки не от них, а от литературы и образов прошлого.
Ее собственная речь в конце жизни, какой бы ни блистала она живостью, всегда производила впечатление составленной из тщательно и долго отбиравшихся слов. Она умела зафиксировать интонацию «с точностью нотной записи мелодии». Это борьба за свою концепцию собственной биографии.
Она не любила Чехова. Он, по ее мнению, «противопоказан поэзии». Герои у него «скучные, пошлые и слабые духом». Очевидцы удивлялись тому, что Ахматова, читая поэтов, как бы вычеркивала разделяющее их время и пространство. Она вступала с автором в личные отношения.
В эпоху общения с Пушкиным она с зоркостью следователя или ревнивой женщины шаг за шагом выведывала как поступали, думали и говорили люди вокруг Пушкина. Такой личного пристрастного интереса у нее не было ни к кому из живых авторов.
Ее пушкиноведческие статьи лишь слабый отголосок ее мыслей и суждений на эту тему. Из них вытравлен живой голос и резкость суждений. Самое интересное пропало! Она подгоняла эти свои тексты под каноны советского литературоведения. Хотела быть «не хуже людей». Боялась в прозе выглядеть ярко и необычно.
Единственный ее творческий собеседник в России – Б.Пастернак. Оба они после смерти О.Мандельштама (более близкого Ахматовой) и М.Цветаевой (более близкой Б.Пастернаку) ощущали себя в одиночестве. Но мысль, что и тот и другая живы и работают, была «источником великого утешения» для обоих поэтов. При этом с Б.Пастернаком Ахматовой все же «было легче говорить о музыке, чем о поэзии». (23)
Полное отсутствие средств к существованию вынуждало ее «подряжаться» в различные издательства в качестве переводчика. Занималась она переводами стихов неохотно, без души, иногда – «в компании», «на паях» с кем-либо. Переводила, как правило, «небольших» или «средних» поэтов. Считала, что переводы «убивают собственное поэтическое творчество». Тем не менее, спектр ее переводческой деятельности довольно обширен: от древневосточной поэзии – до европейской (классической и современной) лирики (польской, чешской, болгарской, сербской, румынской, норвежской, французской, итальянской…). (24)
К счастью, после 1950 года ситуация вокруг Ахматовой начинает понемногу оптимизироваться. Крупный литературный чиновник (секретарь правления Союза писателей СССР) А.Сурков, «любитель» ахматовских стихов, исподволь формирует «официальное мнение» о том, что «она (Ахматова) в последнее время ведет себя исключительно тактично». В январе 1951 года ее восстановили в Союзе писателей: «царский жест» за цикл «Слава Миру». На заседании, где решался этот вопрос, ее давний и верный друг М.Лозинский отважно заявил, что «стихи Ахматовой будут жить столько же, сколько язык, на котором они написаны».
И все же она по-прежнему находилась под тяжелейшим моральным прессом – как «помилованная, но не прощенная». Опасаясь новых обысков, она старалась «жить без архивов»: среди уничтоженных ею в 1949 году рукописей (стихи, пьеса, статьи, письма) оказалась и лучшая ее пушкиноведческая работа – «Пушкин и Достоевский».
Ей постоянно мерещились звонки в дверь, слежка, «подслушка». Временами эта «боязнь преследования» балансировала на грани душевного расстройства. А весной 1951 года у нее случился первый инфаркт…
Со смертью Сталина Ахматова начинает постепенно освобождаться от гнета «ждановского» постановления (хотя оно формально так и не было отменено, а лишь негласно «заморожено» – вплоть до «перестроечных» времен). 11 мая 1956 г. освобожден из лагеря ее сын.
В 1956 году публикуется сборник ее переводов из корейской поэзии, а после ХХ съезда КПСС ахматовские стихи появляются в «оттепельных» альманахах, журналах, газетах: в 1956 году – 4 публикации, в 1957-м – 21, в 1960-м – 18, в 1962-м – 8, в 1964-м – 24. В 1958 году выходит тоненький сборник ее стихов и переводов (тираж 25.000 экземпляров), а в 1961-м издается уже вполне солидный том массовым тиражом – 50.000 экземпляров. Правда, все тексты этих книг пропущены через жесткую идеологическую цензуру, почти ничего нового там нет, и сколько-нибудь полного представления о творчестве автора они не дают.
Редактор последней книги А.Сурков в своем послесловии к ней постарался создать некую официозно-советскую схему «реабилитации» Ахматовой: «трудный путь к революции – любовь к Родине, уберегшая от эмиграции – вера в Победу – справедливая критика партии – преодоление поэтом упаднических нот (в цикле «Слава Миру»)».
На такого рода попытки втиснуть ее в «идеологические рамки» сама Ахматова косвенно ответила, обозревая свой крестный путь унижений и бедствий (сентябрь 1962 года):
Вот она, плодоносная осень!
Поздновато ее привели.
А пятнадцать блаженнейших весен
Я подняться не смела с земли,
Я так близко ее разглядела,
К ней припала, ее обняла,
А она в обреченное тело
Силу тайную тайно лила.
В литературном мире сложилось ядро сторонников Ахматовой, которые стремились облегчить ей и условия жизни, и доступ к публикации. С «оттепелью» к ее стихам пришел многомиллионный читатель, а вспыхнувший массовый интерес к поэзии сделал ее кумиром поколения «шестидесятников».
Примечательно, что ахматовские стихи не устарели – подобно множеству сочинений поэтов начала ХХ века. Они проникали в души людей напрямую – как часть их жизни. Этому поражалась даже желчная Н.Мандельштам, давняя подруга Ахматовой. Заново перечитав ранние сборники поэта, она восприняла их как «новые и современные стихи»…
1958-1964 годы – время нового творческого подъема Ахматовой. Ее стихи вновь идут мощным потоком. И это – отнюдь не «старческие опусы». Прозрачная мудрость и жизненная сила порождают чарующе гармоническую поэзию. Освобождаясь от гонений, аматовская муза буйно расцветала:
И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.
Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох…
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.
1957
Десять лет спокойной старости – большая удача для Ахматовой. В своей мирной, хотя и неустроенной в быту жизни она сохранила работоспособность, память, зрелость мысли. Многолетний невыносимый гнет страха и отчаяние покинули ее. Внезапно она очутилась «среди не детей, но внуков», которые признали ее всей душой. Таковыми оказались молодые ленинградские поэты – И.Бродский (ахматовский любимец), А.Найман (ее секретарь в последний год жизни), Д.Бобышев, Е.Рейн.
Внезапно Ахматова словно вновь перенеслась в предвоенный Петербург: вокруг – красавицы и обожающие ее молодые поэты… Последний период ее жизни – это углубленное переживание встреч, невстреч, ощущений и чувств. Полет над землей среди звезд! Социальная острота ее стихов сталинской эпохи ушла в прошлое. Это уже не бесслезная женщина… Народ валил к ней валом. Стихи бродили по всей стране. Повеяло свежим ветром новой жизни во всех сферах, ранее беспощадных к ее образу мысли: науке, живописи,
Н.Мандельштам говорила об этом (с некоторой аналитической отстраненностью):
«Ахматовой в старости хотелось, чтобы ниточка поэтической традиции не прерывалась. /…/ И все же прекрасно, что нашлись мальчишки, искренне любившие безумную, неистовую и блистательную старуху, все зрелые годы прожившую среди чужого племени в чудовищном одиночестве, а на старости обретшую круг друзей, лучшим из которых был Бродский».
Главное творение Ахматовой последних ее десятилетий – «Поэма без героя», над которой она работала с 1940 года. Это – и философский итог жизни, и осмысление сути искусства, судьбы России, и обращение к «дорогим теням», и глубокий литературный эксперимент. Для нее эта поэма – все равно, что «Евгений Онегин» для А.С. Пушкина: свод всего самого дорогого и значимого – тем, сюжетов, мыслей.
Трагедия для Ахматовой – это «гибель нерасцветшего». Радуясь эпохе «доброго цезаря», она искала в своей поэме «корни внепространственных бед и страстей». Острый историзм поэта позволил перекинуть мостик из 1913 года в середину ХХ века. Поэма о главном – это повествование о трагедии времени: и того, минувшего, и нашего – насущного. История переживается автором интимно и лично, вместе с тем – этот «пир памяти» насыщен русской культурой. Есть в этой поэме и явно ощущаемое что-то темное, опасное; порожденное скорее текучестью ритма – ворожбой и колдовством, завлекающими и не дающими разряда. Это из арсенала «запрещенных примов».
Правы и те, кто отмечают пронизанность поэмы символизмом. Этот ключ оказался в руках автора вполне уместным и удачным. Так, возможно, хотели бы писать собственно символисты, но не сумели: «тройное дно», «зеркальное письмо», музыкальные реминисценции – все это атрибуты символистского эстетического арсенала…
Впрочем, эта поэма, в общем-то, стилистически чужда всему остальному ахматовскому наследию: ведь там, особенно в лирике, мы находим нечто совсем иное – лаконизм, аскезу, жесткую строгость к себе, неотвратимость слова, ясность мысли и звездную глубину текста.
Завершая свою жизнь, Ахматова «царственно парила» над эпохой. Л.Чуковская зафиксировала в своих «Записках…»:
«В 1960 году к поэту пришла сотрудница литмузея и стала спрашивать о художниках 1910-х годов: Она не знает ровным счетом ничего. Все имена ей были в новинку. Девушка бормочет что-то об экспозиции, которую они развернут. (Ответ Ахматовой: – В.Б.) – Конечно, ничего этого не будет. Если меня развернуть в экспозицию – я пропала. Вы подумайте только: Николай Степанович, Лева, Николай Николаевич, два постановления ЦК! Это не то что какая-нибудь там буржуазная слава: ландо или автомобиль, старая дама, брильянты в ушах. Это – читайте товарища Жданова. Это – я! Какая тут может быть экспозиция, Господи!» (25)
В конце жизни улучшились жилищные условия Ахматовой: она поселилась в выделенной ей трехкомнатной квартире, которую делила с семьей погибшего в Гулаге Н.Пунина – его дочерью и внучкой.
«Относились они к Ахматовой, – вспоминает А.Найман, – разумеется, уважительно, но с оттенком легкого недовольства. Бывали периоды бóльшей близости, бывали периоды ссор, но некоторое недовольство, как и некоторая интимность – не подвергались колебаниям. К возвращению Ахматовой из Москвы зимой «дом» старался достать путевку в Дом творчества в Комарове; по возвращении из Будки (дачи в Комарове) ее часто через считанные дни собирали и отправляли в Москву». (26)
В ленинградской комнате Ахматовой над кроватью висел подлинный рисунок А.Модильяни с ее портретом (остальные подаренные ей этим художником авторские работы погибли в гумилевской усадьбе Слепнево, разграбленной в 1918 году). В сундуке хранилась часть судейкинской коллекции икон. Столик, овальное зеркало, немного книг, читаемых постоянно: Библия, Данте, Пушкин и Шекспир. К последнему она обращалась с молодости и до конца дней («Макбет» был изучен досконально): по-английски читала, почти не пользуясь словарем, хотя говорила с затруднениями.
Читала и понимала А.Эйнштейна, в то же время была бесконечно далека от всего, связанного с техникой, в том числе в быту (например, боялась пользоваться лифтом).
Любила классическую музыку.
Получала множество писем от читателей, благодаривших ее просто за то, что она есть на свете…
Лето она проводила обычно в Комарове – на выделенной ей Литфондом крохотной даче («Будке»). Здесь она принимала и гостей.
Курить давно бросила (хотя до этого тридцать лет отдала увлечению «табачным зельем»). Считала, что «для укрепления сосудов» полезно выпить немного водки…
Царственная строгость и благородное великолепие – определяющие черты облика Ахматовой в последние годы. Ее гордыня и неукротимость, помогавшие ей противостоять власти, иногда оборачивались деспотичностью, пустыми капризами. Но всегда она оставалась человеком щедрым, приветливым, остроумным. В любви и дружбе была ужасно ревнива. Как свидетельствовала Н.Мандельштам: «Такой ревнивицы как Анна Андреевна свет не видывал. Она ревновала всех ко всем, мучительно отдавая себя этому грозному чувству. Меньше всего, по-моему, она ревновала своих мужей, хотя им тоже доставалось: перехваченное письмо, не тот взгляд брошенный не туда – все это выводилось на чистую воду без промедления. Удержу она не знала… Но при разлуке или готовясь к ней Анна Андреевна их просто растаптывала… Основная сила ее удара падала на жен поэтов и отчасти писателей всех времен и народов. (…) Самой актуальной соперницей Анны Андреевны все же была Наталья Гончарова: «Мы все влюблены в Пушкина», – признавалась она и уступать Пушкина «такой женщине» не собиралась».
К эмиграции Ахматова относилась настороженно: там для нее находились источники постоянного раздражения. Некоторые эмигранты (Г.Иванов, С.Маковский и другие) публиковали мемуары, откуда западные слависты черпали факты (нередко сомнительные) для своих исследований в области русской литературы. Ахматова не имела возможности очно опровергнуть возникавшие при этом ошибки, сплетни, а то и элементарную ложь. Поэтому она наговаривала своим близко знакомым так называемые «пластинки» – устойчивые сюжетные рассказы о прошлом, чтобы зафиксировать и сохранить собственную версию тех или иных событий.
Интересны ее воспоминания об А.Блоке, А.Модильяни, О.Мандельштаме… При встречах с иностранцами (молодыми филологами), она исправляла и уточняла многое в их работах. И это нередко оказывалось весьма полезным, например, для исследований А.Хайт.








