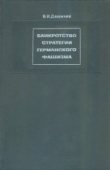Текст книги "Архипелаг OST. Судьба рабов «Третьего рейха» в их свидетельствах, письмах и документах"
Автор книги: Виктор Андриянов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Может быть, тогда она и познакомилась с немецким унтер-офицером, попавшим в Смелу после ранения?
– Мама рассказать не успела, – тихо говорит Павел, теребя край белой, наглаженной скатерти. – А отец припоминает, что впервые они встретились, собирая на поле капусту. Есть было нечего, туда повадились и немецкие солдаты из госпиталя, и местные жители. Потом у них появилась общая тайна: одна семья прятала корову от конфискации, натянув на нее намордник… Ну, а потом он спас маму от эшелона.
Вместе
Еще до войны Острики купили в Загребле саманную хатку, вросшую окнами в землю. Кузнец Павло был мастером на все руки, со временем, был уверен, обустроится получше.
В эту хатыну и привела однажды ночью Феня суженого, постаравшись пройти так, чтобы ни одна душа не увидела их. Конечно, не о такой свадьбе мечтала она. Видела себя Феня в длинном белом платье, мечтала о венчании, о песнях, которым тесно было бы в Загребле… Да что поделаешь? В Смелу, в семьи знакомых и незнакомых людей шли «похоронки» с фронта, и идти им было еще долго, возвращались инвалиды, изувеченные войной совсем молодые парни – как могла показать она этим улицам, этим людям своего любимого? В лучшем случае их судили бы обоих, а то и расправились бы на месте.
Так что затянули Острики поплотнее окна, наварили бульбы-картошки, Павло достал заветную бутылку самогона, припрятанную чуть ли не с довоенных времен.
– Будьте счастливы, дети!
А Мария его заплакала, не стыдясь крупных слез, катившихся по рано постаревшему лицу. Какими ни были они горемыками с Павлом, а все же по-людски свою свадьбу, свое «весилля» справили. Единственную дочку Мария Махтеевна надеялась выдать замуж красиво. Исподволь копила приданое. Ну как же можно, такое событие в жизни, да молчком, тишком?!
И опять не будем никого осуждать с полувековой дистанции, а еще раз постараемся понять и страх Фени Острик, и ее решимость выбрать именно такую долю, и переживания ее родных.
Виль поселился на чердаке. Родители Фени, говорят, были нелюдимыми, сторонились соседей. Это и помогло скрывать примака от посторонних глаз.
На что жили? Феня когда-то немного рисовала. Это и помогло ей выдавать за свои работы «ковры» мужа. Покупали плотную материю или одеяла, вырезали трафарет с орнаментом, наносили краску – и вещь готова. Затем, поосвоившись, взялись за копии картин известных мастеров, а то и собственной фантазии.
Понемногу Вильгельм – дома его называли Васей – заговорил по-украински. Теперь можно было бы выйти во двор не только среди ночи, как обычно выходил он, чтобы подышать под темным небом свежим воздухом, но и днем. Однако как представить молодого мужчину соседям? Сочинили легенду: дескать, семья не сложилась, муж, чоловик, живет в Киеве, там и работает. А семью навещает время от времени.
В эти «наезды» Виль занимался хозяйством, ходил с женой за покупками, в гости. От той поры осталось много фотографий. Василий – буду так сейчас называть его – и Феня, счастливо улыбаются в кругу большой родни на природе, в застолье. Соседи тоже звали Дица Васей. Фамилию Феня придумала от его настоящей. Диц, значит, Диценко. Но паспортистка, выписывавшая новый паспорт после «замужества», посчитала такую фамилию необычной и поправила на Доценко.
А потом «мужу» приходило время уезжать… и он снова переселялся на чердак.
То ли провидение ему благоволило, то ли природа наградила богатырским здоровьем, но за всю жизнь он ни разу не заболел и к врачам не было нужды обращаться. (Только раз сводила Феня к стоматологу на свой завод, там приняли без карточки и всяких документов.)
С годами на месте старой развалюшки они построили добротный кирпичный дом с мансардой, несколько необычной для этих мест – застекленной на всю ширину стены. Понял, в чем дело, рассматривая слайды Павла, побывавшего с отцом на его родине: там дом с точно такой надстройкой.
Оба они, Виль-Василий и Феня, терпеливо несли свой крест. За всю свою жизнь она, говорят, никому не плакалась, разве только родным. Но тех уже не спросишь, как горевала дочь, как перенесла смерть первенца, Васятки. Только заметили с тех пор соседи: стала Феня часто уходить в себя и на глазах стареть. С завода, чтоб меньше быть на людях, ушла в магазин, принимала посуду.
Придуманная ими легенда диктовала образ жизни. Официально отца как бы не было. А «появляясь», он весь отдавался хозяйству: возился в мастерской за домом, которую сам же и соорудил, копался в огороде.
Павел с детства считался безотцовщиной. Но из армии – а служил он в одном из закрытых гарнизонов в Казахстане – писал: «Здравствуйте, тато и мама…»
Легенда заставляла закрывать двери перед старыми друзьями, не заводить новых. Потому, как понимает сейчас Наташа, жена Павла, у нее не сложились отношения со свекровью.
– Я очень редко бывала дома, в Загребле, – говорит она, – и только теперь понимаю, что мама не хотела, чтобы кто-то лишний раз видел отца.
До самого последнего времени, до смерти Фени Павловны, она не знала, что у Павла жив отец.
– Мы ее обманули, не могли иначе, – роняет Павел.
Сказать правду они боялись, понимая, какой может быть расправа. Так и жили – от «приезда» до «приезда». Все семейные события происходили, как правило, без отца.
Он в это время был «в отъезде», а точнее – за сценой, на чердаке. Оттуда, кусая ногти, в щелку смотрел, как прощались с Васенькой, а потом и Фениными родителями. Не мог встретить на пороге жену со вторым сыном, не мог проводить Павла в армию, не мог поздравить его на свадьбе.
Он вроде бы и жил полнокровной жизнью и вроде бы его не было вовсе. От каждого шороха во дворе, неожиданного стука в дверь, замирал, а потом опрометью влетал по скрипучим сходням в свою камеру. (Не случайно, когда уже после всего в Вехстербахе Диц попросил священника убрать со стены костела его имя, тот отказался: ты был убитым.) Лишь одна Феня была ему женой, матерью и заступницей в делах мирских и ангелом-хранителем в терзаниях душевных.
Павел вспоминает отца по-своему добрым и строгим. Маленьким он сажал его на плечи, возил по комнате и просил пригибать головку, чтоб не удариться о балки на низком потолке. Каждый новый год он ставил елку, причем игрушки делал сам. До сих пор в коробке с фотографиями сохранился картонный голубок. Отправляя в школу сынишку, отец готовил ему бутерброды – маленькие кусочки хлеба с вареньем.
Подрастая, Павел дивился отцовским «причудам»: пунктуальности – есть в строго определенное время, привычкам пользоваться ножом и вилкой, как смешно он выговаривает слова «фредно», «карашо». Чего греха таить, во многих смелянских семьях и сегодня до ножей с вилками далеко. Уже в старших классах, наблюдая «отъезды» отца, его постоянную настороженность, сын почуял неладное. Пытался дознаться у матери, но та твердила одно: отец ни в чем не виноват.
– Я подозревал, что он скрывается от правосудия, натворил что-то в молодости, – тяжело вздохнул Павел. – Каково мне было с такой тайной жить! Во всех анкетах писал: отца нет. А он рядом, на чердаке. Как-то складываю дрова во дворе, мать неподалеку по хозяйству убирается. Спрашиваю, ма, а ну как с вами что случится, что будем с отцом делать? Отмолчалась. Попозже выбираю удобный момент, к отцу с тем же вопросом: не нравится мне что-то мать в последнее время. Вдруг куда денется, что с тобой делать будем? Не знаю, говорит.
За несколько дней до смерти матери Павел Васильевич встретил маму во дворе. Поразился, как небрежно, чтобы не сказать неопрятно, она одета: в старом, замызганном плаще, словно совсем махнула на себя рукой. Заставил вернуться.
Они посидели, помянули знакомую, в семью которой шла Феня Павловна. Мать оттаяла и у Павла вдруг опять вырвалось:
– Мама, не дай бог, с вами что-то случится, а я ничего не знаю об отце.
– Вас всех переживу, – резко ответила мать.
– Живите, мамо, сто лет.
На этом разговор оборвался. А через несколько дней Фени Павловны не стало.
Она лежала в их общем доме, куда теперь мог войти каждый человек, как всегда входят в дом, где прощаются с покойным. А над ней, отделенный потолком, стонал ее Вася-Вильгельм. Он слышал каждое слово внизу, по голосу узнавал соседей, Павла, Наташу, внука – их первенца, причитания Фениных подруг и только крепче сжимал зубы. О чем он думал в своей мансарде, ставшей тюремной камерой? Какие муки разрывали душу?
Не буду домысливать. Попробуйте, если можете, представить себя в такой ситуации. Быть в шаге от любимой и не иметь права спуститься к ней, проститься, проводить ее в последний путь.
Поздно ночью, когда все разошлись, Вильгельм оставил свое убежище и до утра просидел возле жены, обмывая слезами холодные руки и родное до каждой морщинки лицо.
– Феня, Феня, – шептал он.
Так продолжалось три ночи. С рассветом Диц перебирался наверх, дом вновь заполняли свои и чужие люди. И когда серым, дождливым днем во дворе жалобно запели медные трубы, Вильгельм, давясь слезами в своем убежище, смотрел из-за плотных штор во двор. Там обрывалась нить, связывающая его с прежней жизнью, в открытом гробу увозили в небытие частичку его самого.
Вместе с Феней, Феней Павловной, умерла и легенда. В Загребле старому Дицу оставаться теперь было нельзя. Павел перевез отца к себе, в их трехкомнатную квартиру в новом микрорайоне, и вечером, когда они остались вдвоем на кухне, сказал:
– Тато, я о вас ничего не знаю…
Павел
Каким вырастет человек, если с малых лет живет в двойном мире? Для всех вокруг – на улице, в школе, армии, на заводе – он полусирота. А дома – тато и мама. Голос отца, лицо отца он помнит с тех дней, когда стал осознавать себя. И с тех же дней тревоги матери: ради бога, сыночку, никому не говори об отце.
Подрастая, сын замечал: то одно, то другое слово отец произносит не так, как все, Павел смеялся и поправлял, а мать, когда слышала, объясняла, что у отца больные зубы и от этого, мол, такое произношение.
– Твой отец никому не сделал ничего плохого, просто так сложилась судьба, что надо прятаться.
Какие сомнения терзали душу мальчика, подростка, юношу? Как свыкался с двойственной жизнью? Сам Павел Васильевич не любит об этом говорить, а посторонний человек может только догадываться, наблюдая перепады в его настроении – то полную душевную расположенность и даже растроганность, то внезапную холодную отчужденность.
Что ж, такую жизненную встряску, такой сдвиг судьбы не каждый способен перенести. Представьте себе: до сорока с лишним лет считал себя человек щирым украинцем, любил и знал родные песни, мог посидеть, как и все, за чаркой горилки, считая ее лучшим напитком в мире… И вдруг полная перемена антуража. Другая фамилия. Чужая и все-таки манящая родня, письма и звонки в Германию…
Новая биография свалилась на всех Доценко, как снег на голову. Все полетело вверх тормашками. Такую перемену нелегко пережить и в большом городе, где на одной площадке, случается, люди не видят друг друга месяцами. А как же в небольшом городке, где все – напросвет?!
Соседи, улица, бригада, цех – кажется, со всех сторон показывают на тебя пальцами. Ты теперь не такой, как все. Наверное, этого больше всего боялись Дицы-Доценко, когда и бояться больше уже было нечего. Эта настороженность накрепко засела в Павле Васильевиче, и, конечно, причин здесь больше, чем только характер, сформировавшийся под постоянным страхом разоблачения семейной тайны.
Они не могли не считаться с последствиями. Догадывались, чем закончилось бы разоблачение, скажем, в сорок седьмом, пятьдесят пятом ил и даже шестьдесят пятом… Но на дворе был уже восемьдесят восьмой, когда Вильгельм Диц пошел «сдаваться» властям. В душе он все еще не верил в добрый исход и потому раза три, отсидев в приемной райотдела милиции свою очередь, так и уходил.
Возвращение к себе
Воскресным утром мы пришли домой к Доценко. Познакомились с очень доброй, гостеприимной семьей, замечательными детьми. Не было только деда – гостил в Германии у родных.
Написали по старому адресу сразу после выхода из подполья. 13 первый раз ответа не получили. Вторично написали скорее для очистки совести – не думали, что кто-либо остался в живых. Но весточка пришла, взволнованная и радостная.
Живы, сообщалось в письме, сестра Катрин, двоюродные братья Вальтер и Вильгельм. У них взрослые дети Элли, Лиза-Лотта, Вернер. Ждем в родные края.
Вильгельм вначале поехал один, встретил сестру, друзей. И все время рвался домой, в Смелу… Через год вместе с ним в гости поехали Павел, Наташа, их дети.
Видел на слайдах и на экране «видика» радушную встречу, слушал, как дополняя друг друга, рассказывают о поездке дети. Андрей тут же притащил коробку с конфетами: «Угощайтесь!» Щедро одарил гостей наклейками. Самая младшая, Машенька, подливала гостям квас, сама же за ним и сбегала. А старший сын – его по деду и отцу назвали Павлом – собирался в музыкальную школу.
Смотрел красочный германский ролик и думал, как дальше сложится жизнь Вильгельма-Василия. Станет ли его кровом теперь родовое гнездо, где до сих пор висит в одной из комнат его солдатская фотография в траурной рамке? Вернется ли он на Украину, в город, подаривший ему любовь? Решать ему.
А я лишь замечу, что Германия не попрекала Вильгельма Дица. Ему положили пенсию – дали без проволочек 190 марок в месяц и потом, после подтверждения гражданства, выдали еще пособие – около 600 марок. Вспомнили Вильгельма и на фабрике, где прежде работал, подарили сервиз.
Много было воспоминаний, слез, радости. Вильгельм основательно подзабыл немецкий и говорил, то и дело сбиваясь на украинский. А переводчик знал только русский. Долго не мог понять, что означает украинское слово – коханая. Подсказала Наташа:
– Это значит – любимая.
И еще раз откроем пришвинский дневник.
27 февраля 1944 года.
Война как испытание всей любви: столько слов наговорили о любви, что теперь уже ничего не понять, но война – это проверка словам.
Феня и Вильгельм, Карл и Шура, Лена и Жан пронесли свою любовь и через войну, и через мир…
«Мы жили с верой в счастье»
Это признание, такое, на первый взгляд, неожиданное мне встретилось в воспоминаниях Елены Ивановны Вишневской. По утрам в их барак входил полицай Эуме, опытный надсмотрщик, затянутый в черную форму, умный, как «вышколенный сторожевой пес». Входил он всегда с двумя овчарками, которых на ночь выпускали во двор, и командовал: «Ауфштэен!» – «Вставать!»
То мартовское утро начиналось, как всегда. Невольниц строили во дворе перед очередным пешим маршем к цехам завода «Моторенверк». День не обещал перемен, но Елена «вдруг почувствовала сладкое волнение. Отчего это? Что со мной? Что это за звуки несутся с вышины, из-под облаков? – спрашивала она себя. – Да ведь это летят журавли! Их нежное курлыканье говорит о весне, о том, что есть на земле счастье, есть настоящая жизнь!».
Лагеря, уничтожая «противников режима» работой, еще и убивали человека в человеке, низводили людей до уровня рабочей скотины, тупой и бессловесной. Многие не выдерживали этих пыток голодом, унижениями, каторгой и ломались. Но больше все-таки было других, тех, в ком, вопреки всему, не гасла надежда. Курянка Микляева, кстати, ее и зовут Надеждой, Надеждой Романовной, признается, что не раз, битая немцами, хотела покончить с собой. «Но все вынесла. Поднимали нас рано, в четыре часа утра. Летом в это время светлеет. Когда я видела, как всходит солнце, всегда думала, что там, где солнце, моя Родина. И я обязательно увижу ее».
Зинаида Моисеенко:
«В воскресенье нам давали два часа свободного времени. Два часа – какое богатство! Я чуть ли не на крыльях летела в соседнее поместье. Там, у моей подруги из Ленинграда каким-то чудом оказался патефон с одной пластинкой Лидии Руслановой. Одна пластинка – две песни. Об Андрюше и Любушке-голубушке. Помните? «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали?!» И задорная, такая вся домашняя Любушка…»
Представьте себе русских девчонок, забравшихся на пыльный чердак во глубине Германии, представьте, как заводят они старый, потрепанный патефон, подпевают и плачут, не замечая слез….
Представьте… Волшебная сила родной песни на миг заставила их забыть о каторге.
– Еще разок? – просительно потянулась к патефону Зина, невольно оттягивая час возвращения, и тут же сама себя остановила: – Нет, пора.
В ту ночь ей приснилось, что у нее вырастают крылья, большие, как у аиста-лелеки. Когда аист стоит на земле со свернутыми крыльями, он кажется весь белым, только хвост (гуз) чернеет; отсюда еще одно название этой птицы, любимой в наших краях, – черногуз. Вот он складывает свои белые крылья и делает круг над лагерем, словно приглашая Зину с собой. Она тоже пыталась взмахнуть своими руками и полететь. Машет, машет, а сил оторваться от земли нет.
Елена Ивановна Вишневская:
«Приближался новый, 1943 год. Я предложила девочкам отметить его приход. Они с радостью согласились. Вечерние пайки мы отложили до 12 часов ночи. Кто работал на кухне, принес краденой картошки. Мы сварили ее. Без пяти минут двенадцать я выключила свет и предложила посидеть всем в темной тишине каждая со своими мечтами, желаниями и надеждами. В полночь я начала бить ложкой по тазу и после двенадцатого удара включила свет. Эмоциональный заряд этой скромной театрализованной процедуры превзошел все ожидания. Многие плакали. А потом мы съели свои пайки, вареную картошку, выпили по кружке суррогатного кофе и пожелали друг другу счастья, возвращения на Родину, прекращения войны. Было ощущение подлинного единения, крепкой дружбы и настоящего праздника. Мы были переполнены добром и светлыми надеждами. Заснули мы с верой в близкое счастье».
Екатерина Попова:
«Чтобы заглушить чувство голода и тоски, мы старались придумать себе какие-то развлечения. Весной 43-го года решили устроить концерт самодеятельности. Главным номером программы у нас была, ни много ни мало, опера собственного сочинения под названием «Рыцарь и пастушка». Либретто сочинила Аня Шемякина, 17-летняя начитанная девушка. Она и пела хорошо, так что взяла на себя роль пастушки. Мне выпало петь за рыцаря, а 15-летняя Оля Сбитнева изображала стадо овец. Была у нас ведущая и, конечно, хор.
Зрителей мы специально не приглашали – из скромности. Но все-таки не выдержали, намекнули, что концерт будет, и, конечно, народ собрался, человек по пять на каждой койке сидело. Маруся Хобачева сначала отнеслась к этому делу с иронией, а потом поддержала нашу затею и, открывая концерт, рассказала о празднике 8 марта. Затем началась наша опера.
Вот рыцарь по полю идет,
Пастушка там овец пасет.
Тарам-тарам-тарам-тарам (пел хор)
Пастушка там овец пасет.
Ольга при этом изображала овечье блеяние, и ее «бе-бе» даже перебивало голос ведущей. Потом вступила Маруся:
Проворно рыцарь шляпу снял
И низкий ей поклон отдал.
Тарам-тарам-тарам-тарам,
И низкий ей поклон отдал…
Дальше жеманным голосом запела Аня:
Зачем снимать передо мной,
Перед пастушкою такой
Тарам-тарам-тарам-тарам,
Перед пастушкою такой!
Последовал взрыв хохота – это не выдержали приглашенные подруги, хохлушки из Михайловки. Девушки они были веселые, посмеяться любили.
Когда Маруся объявила, что я буду читать свои стихи, девчата притихли. Начать решила о знаке, который объединил наши судьбы.
Гвоздями к сердцу прибили «OST» —
Номер на шею – нет больше имени,
«OST» написали – белым по синему…
Читала свои стихи и чужие, иногда голос срывался. Видела, как девушки вытирают слезы».
Тетради, блокноты, карандаши остарбайтерам и военнопленным иметь не полагалось. За нарушение – плетка, карцер, а то и перевод в концлагерь. Тем не менее они ухитрялись заводить самодельные записные книжки, а то и доставать немецкие, записывать то, что жгло душу. Десятки таких блокнотов, тетрадок с записями на русском, украинском, татарском, марийском языках хранятся в фондах Госархива РФ на Большой Пироговской.
«Возле смерти» – рассказ Михаила Смирнова на марийском. В лагере Туркгалле, город Зуль, Тюрингия, писал стихи рязанский паренек Павел Сидоров: «Я русский, мать моя – Россия…» А этот блокнотик со строчками на украинском – без подписи:
То не вiтер з Украïни
Тихенечко дише,
Стара мати на чужину
Дочки письмо пише.
Автор содержательного исследования «Обычаи нашего народа» Олекса Воропай, изданного впервые в Мюнхене в 1958 году и затем переизданного на Украине в 1991-м, в одном из лагерей в Германии записал песню, в которой мечталось о любви. Девчата с детских лет от мам и бабушек слышали поверье о том, что золотисто-зеленые перья павлина приносят счастье в любви. И сейчас они пели об этом:
По ropi, ropi павоньки ходять,
Ой, дай Боже, по ropi, ropi.
За ними ходить гречная панна,
Ой, дай Боже, гречная панна.
Гречная панна, панна Оксана,
Ой, дай Боже, панна Оксана.
Ой, ходить, ходить i пiр’ечко збирае,
Ой, дай Боже, пiр’ечко збирае.
Пiр’ечко збирае, у рукав складае.
3 рукава бере, виночок вине,
Ой, дай Боже, виночок вине.
Виночек вине, на голiвку кладе.
Ой, дай Боже, на голiвку кладе.
Та звилися буйниï вiтри,
Занесли вiнець на синее море…
Не знала Оксана, что в Баварии, куда ее саму занесли буйные ветры, павлин считается символом несчастья.
Очень немногие из строк, замурованных в лагерных бараках, а позже в архивах, вырвались на волю. В сборнике Института истории, на который я уже ссылался, опубликованы стихи Виктора Николаевича Мамонтова, написанные в германских концлагерях. Среди них строки, посвященные санитарке Зое X., работавшей в 24-м блоке лагеря смерти Пельзен:
В лагере смерти, в фашистском плену,
Где люди в бреду умирали,
Я русскую девушку видел одну.
Хочу, чтобы вы ее знали.
Я видел ее повсюду,
Где слышались стопы больных,
И образ ее не забуду,
Хранить буду в мыслях своих.
Часами не зная покоя,
Несчастным старалась помочь,
О, милая девушка Зоя,
Ты снишься порой мне всю ночь.
В мае 1995 года «Правда» представила стихи Дадьянова. Его негромкий, честный голос, писала газета, так и не был услышан. Он не дожил даже до единственной своей книжки. Хотя, добавлю от себя, вполне был этого достоин. Особенно на фоне оплаченной спонсорами шелухи.
Алексея Дадьянова подростком угнали в Германию из родного Орла. Три года он был остарбайтером. Потом – фильтрационный лагерь, Советская армия, работа…
Стихи Алексея Дадьянова хотя бы дошли до газетной полосы. Другие, повторю, погребены в архивах, редкий исследователь, листая истлевающие страницы, обратит на них внимание. А между тем это – живые свидетельства эпохи. Собрать бы воедино все лучшее из сотен концлагерных тетрадок-дневников! И открыть этот сборник стихами Алексея Дадьянова.
Мне повесили доску на шею —
На рабов из России спрос.
Стал теперь я живой мишенью
Для насмешек злых и угроз.
Чтобы раб был в меру проворным —
У хозяина палка в руке.
Для невольников непокорных
Есть «дом отдыха» невдалеке.
Правда, гам тесновато немного,
Что скрывать – персонал грубоват.
И легла прямая дорога
К печке в тысячу киловатт.
Может, завтра за ними следом
Я пройду этот страшный путь.
Как мне хочется до Победы
На подбитом крыле дотянуть.
Это случилось в Штутгофе
Германия Гитлера,
Разрази тебя гром!
Это случилось в Штутгофе
В сорок втором…
Где казнили и старых, и юных,
Где под сосновый гуд
В страхе песчаные дюны
К Балтийскому морю бегут.
Это далекого прошлого вести…
Поляки и русские работали вместе.
Деревья валили, пни корчевали.
Поляки на русских сердито ворчали:
– Ей, коммунисты и комсомольцы!
По цо с немцами вы пшишли до Польсцы?
Неволи не пачили, дьябле? Почте!
И с нами слезами кровавыми плачьте!
И вспыхнула ссора. И злобная свалка.
И руки тянулись к лопатам и палкам!
И ярость шептала им: или – или!
И узники узников палками били.
Охрана стояла, расставив ноги.
Охрана смотрела на бой убогий.
На самое жалкое из сражений!
Срабатывала система уничтожения
И утверждался национальный вопрос.
Охрана смеялась до храпа, до слез.
Потом офицер скомандовал: – Шнель!
Здесь лагерь немецкий, а не бордель!
Отделение! Беглым по цели!
Поляки и русские не уцелели…
Кто из них друг был, а кто был враг?..
Ветер развеял их горький прах.
Драка в Штутгофе, конечно, не единичный эпизод. Гитлеровцы искусно натравливали друг на друга людей разных национальностей – разделенными, завистливыми легче править. Но гуртом, давно сказано в народе, можно все одолеть.
Лидия Арсеньева:
«Перед 7 ноября в наш барак пришли две девушки-киевлянки и предложили принять участие в демонстрации в честь годовщины Октября.
Программа была такая. Первая колонна по дороге на работу 7 ноября должна была начать любую советскую песню. Полицаи бросились бы к ним, требуя прекратить пение. В этот момент последняя колонна подхватывала песню, полицаи бросались гуда. Потом песню запевали все. Так мы и сделали. Когда шли по мостовой к фабрике, то, кроме песни, еще и колодками стучали. Возле проходной фабрики стояли пленные французы и итальянцы, ждали, пока их повезут на работу. Мы запели «Интернационал», французы и итальянцы поддержали нас».
…Незадолго перед отъездом на фронт, в марте 1942 года, Елена Вишневская познакомилась со стихотворением Константина Симонова «Жди меня». «Оно сразу же пленило меня своей искренностью и горячей сердечностью, – пишет она. – Простые, точные его мысли были так естественны, так органичны, как будто я сама их выразила именно этими словами. Оно сразу входило в душу. Учила текст в поезде Москва – Юго-Западный фронт. Читала стихи бойцам на передовой и видела, как поэтические строки отзываются верой на встречу с любимыми. Позже, когда я осталась одна и терпела бедствия в скитаниях, то в трудные минуты отдельные его строки иногда беззвучно напоминали о себе и поддерживали веру в то, что я выживу.
Сейчас это может показаться преувеличением или даже вымыслом, но это действительно было так. Сила подлинного искусства неизмерима. В те минуты сам по себе возникал образ моей мамы, и, конечно, это к ней мысленно обращалась я словами стихотворения, этими заклинаниями – «Жди меня, и я вернусь!»».
А теперь представьте себе обшарпанный барак, в котором русские, украинцы, поляки, французы решили устроить общий концерт. Поляки играли на скрипках, кто-то из девушек пел, танцевал, выступил небольшой хор и на этом концерт мог закончиться. Елена Вишневская поначалу не собиралась выступать, но ее «неожиданно понесло» на импровизированную сцену, «потому что непреодолимая потребность высказаться возникла во мне».
Послушаем эту пронзительную исповедь.
«Я очутилась перед знакомыми лицами своих товарищей по лагерю, они ждали, что я скажу. Волнение перехватило мне горло. Глухим, чужим голосом я произнесла первые слова, а потом горячее чувство влилось в строки, и я стала единым целым с моими бедными, исстрадавшимися соотечественниками. Они слушали меня, и слезы текли по их лицам. Плакали даже мужчины. Когда я кончила, ко мне бросились, обнимали, благодарили, просили переписать на память это стихотворение. Каждому казалось, что это именно его мысли, его слова! Видя, какое волнение охватило весь зал, наш лагерфюрер Эуме потребовал у меня объяснения. Я, как могла, перевела ему по-немецки смысл, он успокоился. Так стихотворение Константина Симонова жило разными жизнями. Посвященное одной женщине, оно перешагнуло барьер интимности и стало моральной поддержкой многих. Если бы Константин Михайлович узнал об этом, я думаю, он был бы доволен.
Последний день 1944 года мы отпраздновали хорошо. С шоссе принесли кувшин молока, сделали крем, испекли лепешки, получился торт с кремом. Пригласили па кофе в наш барак военнопленных французов, те подкупили часового и пришли на полчаса к нам, торжественные, счастливые.
У меня хранится галантное письмо на мое имя с благодарностью за этот праздник. Вот его перевод: «Дорогая Мадам! От имени всех моих товарищей, присутствовавших вчера на славном празднике, так хорошо удавшемся, от всего сердца я Вас благодарю за теплый прием, которым Вы нас удостоили. Мы глубоко тронуты Вашим уважением к нам и молим Бога, чтобы однажды оказаться в горячо любимой Франции или Бельгии, в стране подлинной Свободы. Поблагодарите от нас всех русских девушек за их милое отношение к нам. Деганземан, Фрезен, Вилле, Баптист, Милон. 1–1–1945 г.».
Надежды Елены Вишневской, актрисы Центрального театра Советской армии, сбылись. Она вернулась на Родину, вернулась на сцену. Ее воспоминания подготовил к печати Михаил Любимов, правнук. А внука, Александра Любимова, многие из нас знают по телеэкрану.
Александра Васильевна Омельченко (Коновалова), Ростовская обл.:
«Это случилось в концлагере Равенсбрюк, когда уже приближались части Советской Армии. Однажды группа вооруженных эсэсовцев внезапно окружила наш барак и, выгнав узниц во двор, теснила их к стене, которая была опутана проволокой стоком высокого напряжения. Мы не понимали, чего они хотят. Женщины же из русского блока, увидев происходившее, догадались, в чем дело. И все, как одна, невзирая на охрану, лавиной бросились к нам с криком: «Не дадим своих сестер!» К ним присоединились узницы из других блоков. Тысячная толпа прорвала цепь охраны. Все смешались и разбежались по баракам. Охрана не успела и глазом моргнуть, как во дворе никого не оказалось. Поднялась стрельба, крики, лай собак. Но ничего сделать фашисты не смогли. Весь лагерь был на ногах, все гневно протестовали.
Я не могу забыть двух женщин, которые были инициаторами этого доброго дела. Они неслись впереди всех, одержимые, неустрашимые, с громким призывом: «Не дадим сестер!» Одна из них была украинская девушка Христя, а вторая – русская Вера – подруги называли ее «полковником».
Лев Петрович Токарев:
«Фронт приближался и к нашему лагерю. На окраинах города немцы стали строить доты и дзоты. Копали траншеи, улицы перегородили баррикадами. На стенах домов появились надписи: «Победа или Сибирь!», «Германия останется немецкой», «Нет капитуляции!»
Как-то днем, когда мы были на заводе, раздался сигнал воздушной тревоги. Немцы побежали в бомбоубежище. Все остальные оставались на рабочих местах. Для нас мест в бомбоубежище не было. С заводского двора мы видели, как над железнодорожной станцией появились самолеты. Они стремительно спикировали и отбомбили вокзал и составы, стоящие на путях.
Вдруг один самолет оторвался от группы и пошел прямо на наш завод. Мы успели слететь по лестнице в убежище, и сразу же раздались несколько мощных взрывов. За нами скатился перепуганный толстый немец. Он со злобой смотрел на наши радостные лица и вдруг закричал на все убежище, чтобы нас, «русских свиней», выбросили на улицу под русские бомбы! Но никто даже не пошевелился. Господи! Да ведь нас уже боялись!
Когда самолеты улетели, мы вышли из убежища и увидели, что завод горит. Бомбы попали в три основных цеха.
Через несколько дней нас погнали в другой лагерь. По дороге мне удалось бежать и с помощью знакомых чехов перебраться в протекторат.